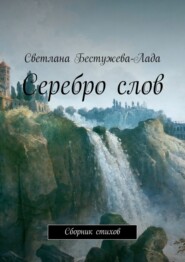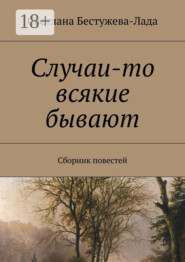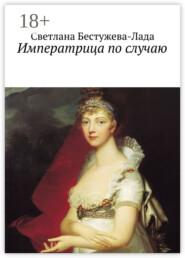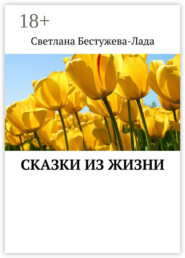По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Люди искусства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я только женщина, – гордиться тем готова,
Я бал люблю!.. отдайте балы мне!»
Евдокия Петровна Сушкова родилась 23 декабря 1811 года в Москве, в особняке своего деда по матери Ивана Александровича Пашкова на Чистых прудах. Шести лет девочка потеряла мать, та умерла от туберкулеза. А отец, Петр Васильевич Сушков, редко бывал дома, в основном был занят работой. Девочка находилась на попечении деда, бабушки и многочисленных тетушек. Росла в любви, холе, богатстве. Ее воспитывали для света, а потому дали прекрасное домашнее образование.
Додо – так она в детстве произносила свое имя и так ее впоследствии звали друзья и близкие – знала все европейские языки, много читала, музицировала, рисовала, прекрасно танцевала. Барышни в то время вели дневники, это была возможность выразить себя, познать себя… в общем, это было модно. Додо в дневник записывала… стихотворения, причем в тайне от родных: для благородной барышни это занятие считалось почти позорным. И вообще в доме Пашковых занятие литературой считалось делом неприличным.
«Возмущённая при мысли, что девушка аристократического круга могла, посвящать свой досуг недостойному занятию, госпожа Пашкова, взяв икону, хотела заставить свою внучку дать торжественный обет, что та никогда не станет писать стихов. Моя мать избавилась от клятвы, обещав ничего не печатать до своего замужества» – писала дочь Додо Лидия Растопчина в своей книге «Семейная хроника».
И все равно своенравная и скрытная Додо писала. Лидия первым произведением матери называет «Журнал Зинаиды». Увы, журнал не сохранился. Тот же Владислав Ходасевич в исследовании «Графиня Е. П. Ростопчина. Её жизнь и лирика» пишет в 1922 году:
«Ещё в 12 лет Додо сама стала писать стихи. Как водится, своевременно была написана и сожжена первая подражательная поема „Шарлотта Кордэ“. Ни эта поэма, ни ранние стихи, кроме одного французского экспромта, до нас не дошли».
Действительно, первое сохранившееся стихотворение – «К страдальцам» -датировано 1827 годом. Шестнадцатилетняя девушка посвятила его… декабристам.
«Пусть вас гнетет, казнит отмщенье самовластья,
Пусть смеют вас винить тирановы рабы,
Но ваш тернистый путь, ваш крест – он стоит счастья,
Он выше всех даров изменчивой судьбы…
Удел ваш – не позор, а слава, уваженье,
Благословения правдивых сограждан,
Спокойной совести, Европы одарение,
И благодарный храм от будущих славян!».
Пройдет немало времени, прежде чем Ростопчина преподнесет это стихотворение и созвучное ему «Мечту» с теплой подписью вернувшимся из Сибири Волконскому и Чернышеву. А пока стихотворения ходили по гостиным в анонимных списках. Никому и в голову не могло прийти, что их автор в это время прилежно берет уроки танцев у знаменитых учителей и ездит на так называемые «детские праздники», где девушки и юноши постигают азы светской жизни.
Судьбе было угодно распорядиться так, чтобы на одном из таких праздников Додо повстречала невысокого молчаливого мальчика с темными «сумеречными» глазами. Мальчика звали Мишелем, и он тоже тайно писал стихи. Оба вспомнили эту встречу, когда спустя много лет в одном из великосветских салонов уже знаменитый поэт Лермонтов был представлен блистательной графине Ростопчиной. Но всему свое время.
Пока же кумиром юной Додо был, разумеется, Пушкин. Она знала на память едва ли не все его известные стихотворения. И втайне надеялась на встречу с вернувшимся из долгой ссылки поэтом: Пушкин знался со всей ее родней и разве что случайно еще не успел побывать в их доме.
8 апреля 1827 года – она запишет для себя этот день и будет его помнить до конца жизни. Ничто не предвещало чуда. Все семейство Сушковых собиралось на модное гуляние под Новинским. Не побывать там на Рождество, Святки или Масленую настоящие москвичи не могли себе позволить. От Садово-Кудринской площади в сторону Смоленской-Сенной по правую сторону выстраивались ресторации и палатки со всяческими лакомствами.
И вот среди этого шума, веселья, беспорядочной толчеи, взрывов смеха Додо Сушкова увидела:
«Вдруг все стеснилось, и с волненьем
Одним стремительным движеньем
Толпа рванулася вперед…
И мне сказали: «Он идет»…
Он – наш поэт, он – наша слава,
Любимец общий! Величавый
В своей особе небольшой,
Но смелый, ловкий и живой,
Прошел он быстро предо мной…»
Когда следующей зимой юную Евдокию Сушкову родные начали вывозить в свет, на одном из декабрьских балов в доме Д. В. Голицына ей представят Пушкина. Танцы были забыты – едва ли не час Пушкин беседовал с Додо, как с равной. И не только о ее стихах, которые оказались известны Пушкину – обо всем, что одинаково волновало их умы и души. Всегда насмешливый Пушкин ни разу не позволит себе тени легкомыслия или иронии в отношении «прелестной поэтессы». Во-первых, и прежде всего, поэтесса.
«На бале блестящем, в кипящем собранье,
Гордясь кавалером и об руку с ним,
В тот вечер прекрасный весь мир озлащался…»
Так впоследствии описала Ростопчина свою первую встречу с прославленным поэтом России. Этот момент многое решил в жизни начинающего автора.
«Стихи без искусства ему я шептала,
Он исповедь слушал души молодой!»…
Но даже самой себе юная поэтесса не признавалась в том, насколько сильное впечатление произвел на нее Пушкин. Впечатление на всю жизнь. Только в строках, написанных после гибели поэта, она приоткроет завесу тайны:
«Слова его в душу свою принимая,
Ему благодарна всем сердцем была я…
И много минуло годов с того дня,
И много узнала, изведала я, —
Но живо и ныне О НЕМ вспоминанье;
Но речи поэта, его предвещанье
Я в памяти сердца храню как завет
И ими горжусь… хоть его уже нет!..»
Перед Додо проходили московские увлечения поэта. Их немало, но ни разу она не сделает попытки обратить на себя внимание своего кумира. Она уверена: любовь, чувство зарождаются сами и, если они настоящие, не терпят насилия. В разгуле страстей чистое спокойное пламя ее привязанности не находит себе места, даже по признанию самой поэтессы, не ищет его.
А потом в жизни поэта появилась Натали Гончарова. Любящим сердцем Додо угадывала, насколько нелегким будет это чувство. Может быть, лучше других понимала характеры и особенности душевные участников будущей драмы. Но Додо не только не выдала своих чувств, а с удивительным добросердечием отнеслась к Натали. Не завидовала, не ненавидела – стремилась ободрить, помочь.
Правда, весной 1832 года было написано стихотворение «Отринутому поэту». В нем Додо с потрясающей проницательностью заметила:
«Она не поняла поэта!
Но он зачем её избрал?
…………………………
Зачем он так неосторожно
Был красотою соблазнён?
Зачем надеждою тревожной
Он упивался, ослеплен?
И как не знать ему заране,
Что все кокетки холодны.
Что их могущество в обмане.
Что им поклонники нужны.
…………………………………
Она лишь слепок божества!»
Почти не знавшая настоящей жизни молодая девушка удивительно точно описала истоки будущей трагедии Пушкина. Как знать, что произошло бы, сделай Пушкин предложение Додо, а не Натали. Но Дантеса и Черной речки точно бы – не было.
«Ее чувства были не по нашим меркам», – признавался брат Додо, Сергей Сушков, отмечавший, кстати, что его сестра «далеко не была красавицею в общепринятом значении этого выражения. Она имела черты правильные и тонкие, смугловатый цвет лица, прекрасные и выразительные карие глаза, волосы черные, выражение лица чрезвычайно оживленное. Подвижное, часто поэтически-вдохновенное, добродушное и приветливое лицо; рост ее был средний, стан не отличался стройностью форм. Она была привлекательна, симпатична и нравилась не столько своей наружностью, сколько приятностью умственных качеств. Одаренная щедро от природы поэтическим воображением, веселым остроумием, необыкновенной памятью, при обширной начитанности на пяти языках, она обладала замечательным даром блестящего разговора и простосердечною прямотою характера при полном отсутствии хитрости и притворства, она естественно нравилась всем людям интеллигентным».
Да, она была очаровательна, романтична, но не только эти черты собирали вокруг Евдокии Петровны толпы поклонников. Не о юной светской красавице думал, например, Николай Огарев, едва не каждый день приезжавший в дом на Чистых прудах. Общность взглядов, мыслей, литературных увлечений казалась дороже всего остального.
Первым опубликованным стихотворением юной девушки стал «Талисман». Князь Пётр Андреевич Вяземский посещавший дом её родных случайно увидел тетрадь, без ведома девушки переписал стихи и отправил в Петербург Дельвигу, который и поместил их в своем альманахе «Северные цветы» 1831 года с подписью «Д…а».
«Есть талисман священный у меня.
Храню его: в нем сердца все именье,
В нем цель надежд, в нем узел бытия,
Грядущего залог, дней прошлых упоенье.
Он не браслет с таинственным замком,
Он не кольцо с заветными словами,
Я бал люблю!.. отдайте балы мне!»
Евдокия Петровна Сушкова родилась 23 декабря 1811 года в Москве, в особняке своего деда по матери Ивана Александровича Пашкова на Чистых прудах. Шести лет девочка потеряла мать, та умерла от туберкулеза. А отец, Петр Васильевич Сушков, редко бывал дома, в основном был занят работой. Девочка находилась на попечении деда, бабушки и многочисленных тетушек. Росла в любви, холе, богатстве. Ее воспитывали для света, а потому дали прекрасное домашнее образование.
Додо – так она в детстве произносила свое имя и так ее впоследствии звали друзья и близкие – знала все европейские языки, много читала, музицировала, рисовала, прекрасно танцевала. Барышни в то время вели дневники, это была возможность выразить себя, познать себя… в общем, это было модно. Додо в дневник записывала… стихотворения, причем в тайне от родных: для благородной барышни это занятие считалось почти позорным. И вообще в доме Пашковых занятие литературой считалось делом неприличным.
«Возмущённая при мысли, что девушка аристократического круга могла, посвящать свой досуг недостойному занятию, госпожа Пашкова, взяв икону, хотела заставить свою внучку дать торжественный обет, что та никогда не станет писать стихов. Моя мать избавилась от клятвы, обещав ничего не печатать до своего замужества» – писала дочь Додо Лидия Растопчина в своей книге «Семейная хроника».
И все равно своенравная и скрытная Додо писала. Лидия первым произведением матери называет «Журнал Зинаиды». Увы, журнал не сохранился. Тот же Владислав Ходасевич в исследовании «Графиня Е. П. Ростопчина. Её жизнь и лирика» пишет в 1922 году:
«Ещё в 12 лет Додо сама стала писать стихи. Как водится, своевременно была написана и сожжена первая подражательная поема „Шарлотта Кордэ“. Ни эта поэма, ни ранние стихи, кроме одного французского экспромта, до нас не дошли».
Действительно, первое сохранившееся стихотворение – «К страдальцам» -датировано 1827 годом. Шестнадцатилетняя девушка посвятила его… декабристам.
«Пусть вас гнетет, казнит отмщенье самовластья,
Пусть смеют вас винить тирановы рабы,
Но ваш тернистый путь, ваш крест – он стоит счастья,
Он выше всех даров изменчивой судьбы…
Удел ваш – не позор, а слава, уваженье,
Благословения правдивых сограждан,
Спокойной совести, Европы одарение,
И благодарный храм от будущих славян!».
Пройдет немало времени, прежде чем Ростопчина преподнесет это стихотворение и созвучное ему «Мечту» с теплой подписью вернувшимся из Сибири Волконскому и Чернышеву. А пока стихотворения ходили по гостиным в анонимных списках. Никому и в голову не могло прийти, что их автор в это время прилежно берет уроки танцев у знаменитых учителей и ездит на так называемые «детские праздники», где девушки и юноши постигают азы светской жизни.
Судьбе было угодно распорядиться так, чтобы на одном из таких праздников Додо повстречала невысокого молчаливого мальчика с темными «сумеречными» глазами. Мальчика звали Мишелем, и он тоже тайно писал стихи. Оба вспомнили эту встречу, когда спустя много лет в одном из великосветских салонов уже знаменитый поэт Лермонтов был представлен блистательной графине Ростопчиной. Но всему свое время.
Пока же кумиром юной Додо был, разумеется, Пушкин. Она знала на память едва ли не все его известные стихотворения. И втайне надеялась на встречу с вернувшимся из долгой ссылки поэтом: Пушкин знался со всей ее родней и разве что случайно еще не успел побывать в их доме.
8 апреля 1827 года – она запишет для себя этот день и будет его помнить до конца жизни. Ничто не предвещало чуда. Все семейство Сушковых собиралось на модное гуляние под Новинским. Не побывать там на Рождество, Святки или Масленую настоящие москвичи не могли себе позволить. От Садово-Кудринской площади в сторону Смоленской-Сенной по правую сторону выстраивались ресторации и палатки со всяческими лакомствами.
И вот среди этого шума, веселья, беспорядочной толчеи, взрывов смеха Додо Сушкова увидела:
«Вдруг все стеснилось, и с волненьем
Одним стремительным движеньем
Толпа рванулася вперед…
И мне сказали: «Он идет»…
Он – наш поэт, он – наша слава,
Любимец общий! Величавый
В своей особе небольшой,
Но смелый, ловкий и живой,
Прошел он быстро предо мной…»
Когда следующей зимой юную Евдокию Сушкову родные начали вывозить в свет, на одном из декабрьских балов в доме Д. В. Голицына ей представят Пушкина. Танцы были забыты – едва ли не час Пушкин беседовал с Додо, как с равной. И не только о ее стихах, которые оказались известны Пушкину – обо всем, что одинаково волновало их умы и души. Всегда насмешливый Пушкин ни разу не позволит себе тени легкомыслия или иронии в отношении «прелестной поэтессы». Во-первых, и прежде всего, поэтесса.
«На бале блестящем, в кипящем собранье,
Гордясь кавалером и об руку с ним,
В тот вечер прекрасный весь мир озлащался…»
Так впоследствии описала Ростопчина свою первую встречу с прославленным поэтом России. Этот момент многое решил в жизни начинающего автора.
«Стихи без искусства ему я шептала,
Он исповедь слушал души молодой!»…
Но даже самой себе юная поэтесса не признавалась в том, насколько сильное впечатление произвел на нее Пушкин. Впечатление на всю жизнь. Только в строках, написанных после гибели поэта, она приоткроет завесу тайны:
«Слова его в душу свою принимая,
Ему благодарна всем сердцем была я…
И много минуло годов с того дня,
И много узнала, изведала я, —
Но живо и ныне О НЕМ вспоминанье;
Но речи поэта, его предвещанье
Я в памяти сердца храню как завет
И ими горжусь… хоть его уже нет!..»
Перед Додо проходили московские увлечения поэта. Их немало, но ни разу она не сделает попытки обратить на себя внимание своего кумира. Она уверена: любовь, чувство зарождаются сами и, если они настоящие, не терпят насилия. В разгуле страстей чистое спокойное пламя ее привязанности не находит себе места, даже по признанию самой поэтессы, не ищет его.
А потом в жизни поэта появилась Натали Гончарова. Любящим сердцем Додо угадывала, насколько нелегким будет это чувство. Может быть, лучше других понимала характеры и особенности душевные участников будущей драмы. Но Додо не только не выдала своих чувств, а с удивительным добросердечием отнеслась к Натали. Не завидовала, не ненавидела – стремилась ободрить, помочь.
Правда, весной 1832 года было написано стихотворение «Отринутому поэту». В нем Додо с потрясающей проницательностью заметила:
«Она не поняла поэта!
Но он зачем её избрал?
…………………………
Зачем он так неосторожно
Был красотою соблазнён?
Зачем надеждою тревожной
Он упивался, ослеплен?
И как не знать ему заране,
Что все кокетки холодны.
Что их могущество в обмане.
Что им поклонники нужны.
…………………………………
Она лишь слепок божества!»
Почти не знавшая настоящей жизни молодая девушка удивительно точно описала истоки будущей трагедии Пушкина. Как знать, что произошло бы, сделай Пушкин предложение Додо, а не Натали. Но Дантеса и Черной речки точно бы – не было.
«Ее чувства были не по нашим меркам», – признавался брат Додо, Сергей Сушков, отмечавший, кстати, что его сестра «далеко не была красавицею в общепринятом значении этого выражения. Она имела черты правильные и тонкие, смугловатый цвет лица, прекрасные и выразительные карие глаза, волосы черные, выражение лица чрезвычайно оживленное. Подвижное, часто поэтически-вдохновенное, добродушное и приветливое лицо; рост ее был средний, стан не отличался стройностью форм. Она была привлекательна, симпатична и нравилась не столько своей наружностью, сколько приятностью умственных качеств. Одаренная щедро от природы поэтическим воображением, веселым остроумием, необыкновенной памятью, при обширной начитанности на пяти языках, она обладала замечательным даром блестящего разговора и простосердечною прямотою характера при полном отсутствии хитрости и притворства, она естественно нравилась всем людям интеллигентным».
Да, она была очаровательна, романтична, но не только эти черты собирали вокруг Евдокии Петровны толпы поклонников. Не о юной светской красавице думал, например, Николай Огарев, едва не каждый день приезжавший в дом на Чистых прудах. Общность взглядов, мыслей, литературных увлечений казалась дороже всего остального.
Первым опубликованным стихотворением юной девушки стал «Талисман». Князь Пётр Андреевич Вяземский посещавший дом её родных случайно увидел тетрадь, без ведома девушки переписал стихи и отправил в Петербург Дельвигу, который и поместил их в своем альманахе «Северные цветы» 1831 года с подписью «Д…а».
«Есть талисман священный у меня.
Храню его: в нем сердца все именье,
В нем цель надежд, в нем узел бытия,
Грядущего залог, дней прошлых упоенье.
Он не браслет с таинственным замком,
Он не кольцо с заветными словами,