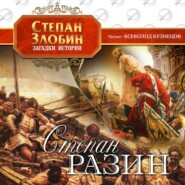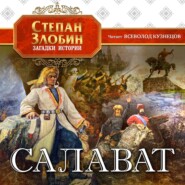По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Остров Буян
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Все поклеп! Не писали такого листа! – раздавались в народе громкие возгласы.
– Пойдем, братцы, на Рыбницку площадь да там все рассудим! – крикнул старик посадский.
– Не станем креста целовать, коли враки в московской бумаге! – поддержал второй.
– Братцы, Осип Лисицын, новогородец, правду расскажет, как Новгород от мятежа унимали.
– Архимандрит новогородский Никон сговаривал там – так же вракал, как ныне у нас Рафаилка!
Выкрики, шум, споры заглушали чтение. Протопоп умолк.
– Пошли, братцы, на Рыбницку площадь! – крикнули в толпе еще раз.
– На Рыбницку пло-оща-адь! – подхватили вокруг, и толпа, повернувшись спинами к Рафаилу с Макарием и ко всему духовенству, потекла из Крома на привычное место собраний и сходов.
Народ отказался целовать крест на верность царю, потому что не хотел за собой признать вину, которой не было.
И на другой день и на третий день сходился народ толпами по площадям и улицам, и земские старосты вместе с московскими посланцами не могли никого уговорить к крестному целованию.
Гаврила, обиженный городом, не шел к народу. Михайла Мошницын теперь стоял во главе посадской бедноты я стрельцов новых приказов.
В город пробрался с попами Осип Лисицын, новгородец. Он рассказывал всем о том, как целовали крест новгородцы и как после крестного целования у них похватали всех вожаков, заковали и бросили их в тюрьму, хотя тот же боярин Иван Никитич Хованский божился и клялся, что «никакой жесточи над ними не учинит».
– И с нами так будет, коль мы им поверим да крест поцелуем, – говорил народу Мошницын. – Дадим укрепление между себя тогда царю крест целовать, когда боярин уйдет вместе с войском от стен городских…
На Рыбницкой площади не смел появиться никто из новых хозяев Всегородней избы. Они боялись большого скопления народа.
3
Михайла Мошницын рано с утра пошел к хлебнику. В белой холщовой рубахе, гладко причесанный, благообразный, хотя усталый и бледный, Гаврила сидел в горнице, рассказывая сказку сыну. Жена обняла его за плечи и умильно глядела ему в лицо, в то же время прижав к груди и качая девчурку. Двое средних возились тихонько на полу у стола. В доме Гаврилы было похоже на то, что он уезжал куда-то по торговым делам и вот возвратился… Он словно старался вознаградить любимых и близких за долгое время разлуки.
– Здоров, Левонтъич! – воскликнул, входя, Михайла.
– Здоров. Садись, гостем будешь, – ответил Гаврила небрежно.
Жена Гаврилы с испугом посмотрела на гостя, но хлебник спокойно заканчивал сказку, глядя в блестящие глазенки сына:
– «Пойду-ка по свету бродити. Коли глупей вас найду, то домой ворочусь, а глупей не найду, то не ждите!» Так и ушел Афоня искать, кто глупей, и доселе все ходит да ищет… – закончил хлебник.
– Все? – спросил сын.
– Так и ходит, – опять повторил Гаврила.
– Завиральна та басня! – воскликнул кузнец.
– А что не по нраву? – спокойно спросил его хлебник.
– Ушел Афоня глупей народу искать – то не хитрое дело. А так повернуть, чтобы глупые умны стали, – то дело!..
– Учи-ил! Не умнеют! – ответил хлебник.
– Не дело, Левонтьич, сложить-то ручки! – прямо сказал Михайла. – Город не сдался покуда. Народ креста не целует, стрельцы стены держат, – чего же ты сидишь тут побасенки баешь?!
Жена и сын хлебника – оба глядели с тревогой на кузнеца, ожидая, что вот он возьмет и уведет с собой снова душу их дома, кормильца, отца и мужа, без которого дом сиротлив и пуст.
– А что же мне деять?! Прогнали меня, в тюрьму садили, старост новых обрали… А ну вас!..
– Бедно, Левонтьич, бедно! – неожиданно просто, тепло и дружески согласился Михайла. – И мне бедно тоже! – сказал он со вздохом. – Да вишь, совесть-то у нас с тобой спросит. Устинову что! Он загубит полгорода, то и рад будет, а мы с тобой правдой за город стояли, осаду держали, дворян секли… Что вздорили между собой, то от сердца, чтобы лучше все было… И ныне у нас забота одна, – зашептал кузнец, – не дать людям креста целовати, покуда боярин от города не уйдет!.. Ведь крест поцелуют – и нас и себя, дураки, загубят… Войдет войско в город – сколь крови боярин прольет! Сколь народу казнит! Я не смерти страшусь – перед богом страшусь ответа. Помирать хочу с легкой душой… Кровь людскую сберечь…
Гаврила взглянул на Мошницына.
– Ты б раньше, Михайла, со мной дружил! – ответил хлебник. – Ныне-то поздно! «Слуги господни» налезли. Теперь конец…
– Ты был на Рыбницкой? Нет? То и толкуешь! Народ отказ дал креста целовать! Ударим сполох, Левонтьич! Чаю, сейчас попы станут звать на Соборную площадь, а мы во сполох на Рыбницкой грянем!.. – задорно, молодо и горячо звал Михайла.
– Кто с тобой в мысли?
– Сколь было на Рыбницкой – все.
– А Томилка? – угрюмо спросил Гаврила.
– Не ведаю, где схоронился.
– Обидел я друга. Насмерть обидел поклепом, и чем искупить – не знаю… Ну, а поп Яков, Прохор Коза?
– Я чаю, прибегут на сполох. Найдутся.
Гаврила обнял жену:
– Прощай-ка, Параша! Слышь, надо, голубка!.. Прощай, сынок!..
Сын и жена оба молча, не смея вымолвить слова, подставили губы для поцелуя.
Хлебник натянул на широкие плечи кафтан, повернулся в угол и помолился. Жена и сын испуганно закрестились, уставившись в тот же угол ожидающим взглядом.
Младшие всхлипнули и заморгали, готовые заплакать, испуганные внезапной сменой общего настроения.
Все присели в молчании, как перед дальней дорогой.
– Пошли! – произнес Гаврила, вставая.
– Прасковья Ильинишна, меня не кори, что увел его из дому, – надо! – сказал напоследок кузнец.
Она перекрестила Гаврилу, еще раз прощаясь с ним на крыльце. Кузнец скинул шапку и подошел к ней.
– Благослови-ка меня уж… хозяйки-то нет у меня, – сказал он.
Дрожащей рукой жена хлебника перекрестила и кузнеца, поцеловала его, по обычаю, в лоб и долго глядела по улице от ворот, как уходили они по направлению к Рыбницкой площади…
Другие аудиокниги автора Степан Павлович Злобин
Салават




 0
0