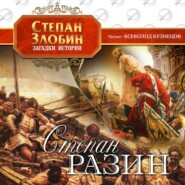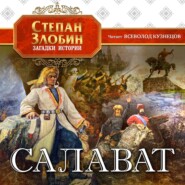По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Остров Буян
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вишь, любят тебя, Иваныч! Гляди, сколь несут да все про здоровье спрашивают, – говорил Иванка, стараясь порадовать летописца.
– Не мне приносят, Ванюша… То правду любят… Правде несут те дары… И в том пущая радость, – прерывисто, через силу, шептал Томила.
Но больше всего удивила Иванку лисичка Аксюша, дочь ключницы стольника Ордина-Нащекина.
– Деда велел отнести… – невнятно пробормотала она и сунула узелок, завязанный в пестрый платочек. – Да как здоровье узнать… – И, словно в оправдание себе, она пояснила: – Твой батька ему челобитье писал на купца…
– Мне Томила Иваныч не батька, – сказал Иванка.
– А мне что за дело!.. – оборвала Аксюша и вдруг, словно желая смягчить свою резкость, с лисьей лукавой улыбкой шепнула: – У-у, Скинь-кафтан!.. Ну, прощай! – Она повернулась и быстро пошла.
– Постой! Платочек возьми! – окликнул ее Иванка.
– Дорогу, чай, помнишь – сам занесешь! – отозвалась на ходу Аксюша и скрылась за поворотом в проулке.
Иванка не приходил домой, пока раненый Якуня лежал в сторожке. Его влекло желание поговорить со своей милой, но мысль, что кузнец посмеет сказать, будто он пользуется несчастьем семьи для сближения с Аленкой, остановила Иванку.
Каждый день он подходил к окну сторожки, взглядывал на Якуню, шепотом спрашивал о его здоровье, Груне шептал поклон от Томилы, молча кивал Аленке и бабке Арише и убегал… Когда он заглянул в окно и увидел Якуню, который лежал со свечой в руках, с темными кружками медных монет на мертвых глазах, Иванка вскрикнул и, прислонясь к косяку, по-детски заплакал. Он вошел в избу поклониться праху Якуни, но, встретившись взглядом с заплаканными, опухшими глазами Аленки, в горе ставшей еще как-то ближе, еще дороже ему, – отвернулся и выбежал вон из избы…
На кладбище нес он гроб с телом Якуни, и смешанные с потом слезы обильно текли по его щекам и капали в пыль дороги. Кузнец шагал рядом, убитый и почерневший от горя, неотрывно глядя в лицо мертвого сына. Иванке казался он в этот час близким, словно родной отец. Когда опускали гроб, громко закричав на все кладбище, вдруг зарыдала Аленка. Иванка чувствовал, что подойди он к ней в этот миг – и судьба решится, но он не двинулся даже тогда, когда, стоя у самого края могилы, Аленка шатнулась и чуть не упала… Захарка бросился к ней и отвел от края, и Иванка видел, как в его кафтан уткнулась она лицом, оставляя мокрые пятна на синем рукаве…
Когда расходились с кладбища, кузнец положил тяжелую руку Иванке на плечо.
– Не стало дружка твоего Якуни… – сказал он и вздрогнул, вдруг тяжело опершись на него всем телом.
Иванке сдавило горло, он чуть не обнял Мошницына, просто, тепло, как сын… Но, взглянув на Аленку и утешавшего ее Захара, вдруг торопливо брякнул пустые слова.
– Божья воля… Не он один… Вон Вася Бочарников тоже, да мало ль… – сказал он, стараясь придать строгость голосу. – А у меня там Томила Иваныч лежит… Прощай! – чуть не выкрикнул он и, оставив Мошницына, выскочил первым из ветхих ворот кладбища…
10
Томила все еще не поправлялся.
Он то впадал в забытье и метался в жару, то неподвижно лежал, бессильный, покрытый холодным потом и бледный, словно покойник.
После смерти и похорон Якуни Иванка опять-таки не возвратился домой. Он остался возле Томилы. Ежедневно сюда заходила Груня сготовить обоим поесть. В часы, когда она приходила, Слепой посылал Иванку.
– Сбегай лазутчиком в город, проведай, что там. Забыли меня, не заглянут… Шучу, шучу – разумею, что им недосуг, – спешил сказать он, но в голосе его все же была обида…
Придя от Томилы в Земскую избу, на крыльце ее Иванка встретился с Кузей. Кузя с беглыми крестьянами, разбившими поместья своих господ, пытался поднимать и других крепостных, но мужики повсюду ссылались на то, что у них нет ни пищалей, ни пушек, ни ратных начальных людей. Кузя привел с собой крестьян для сговора с городом. Несколько дней после вылазки жили они во Пскове, пока наконец их не позвали в Земскую избу.
Иванка пришел во Всегороднюю как раз в тот самый час, когда земские выборные сошлись для беседы с крестьянами.
В деревянных долбленых панцирях, словно надевшие по корыту на грудь и на спину, похожие на бородатых черепах, обутые в лапти, с древними широкими и прямыми дедовскими мечами, с крестьянскими топорами за опоясками, в руках с вилами да с копьями, сделанными из кос, пришли они в собрание Земской избы и столпились особняком у входа, недоверчиво глядя на выборных горожан…
Когда Иванка вошел, Гаврила, обращаясь к выборным, говорил о том, какую помощь даст городу восстание крестьян.
Иванка подошел было к Гавриле, чтобы шепнуть ему, что Томила в обиде на забывчивость старост, но, боясь помешать, молчал и ждал за спиною хлебника, когда он закончит речь.
– И мыслю я, господа земские выборные, дать им пороху и свинца, одну пушку с ядрами, сабель, пищалей да с ними же отпустить стрельцов и стрелецких десятников человек с пятьдесят в начальные люди для обучения ратному делу крестьян, – заключил Гаврила. – Сказывайте, господа, по делу.
Вдруг вскочил с места выборный от дворян Иван Чиркин.
– Кому сказывать? С кем говорить? – выкрикнул он. – Глядите, выборные земские люди: мой беглый мужик Агапка пришел в Земскую избу со мной толковать да рядиться. Видана ли экая наглость! А мы его, чем в колодки забить, поклоном встречай да на наших дворянских именьишек разорение сабли ему подай да пищали. Разбойников разводить по дорогам…
– Молчи, дворянин! Не одно твое дело – дела всей земли решаем, – грозно цыкнул Гаврила. – Сказывайте, крестьяне, свои мысли выборным земским. Бог даст, во всем поладим, – сказал он.
Но крестьяне стояли, сбившись тесной кучкой, не отвечая ему, и о чем-то вполголоса переговаривались.
– Сказывайте, земские люди! – поощрил их хлебник.
Тогда от толпы крестьян отделился высокий костлявый старик с длинной седой бородой, одетый в кольчугу и крылатый шлем, видно сбитый каким-нибудь дедом с лихого тевтонца. Опершись на медвежью рогатину, он шагнул вперед:
– Нече и слушать нам. Ты нас обманул, земский староста. Сказывал ты, что живете во Пскове по воле, бояр и дворян прогнали, ан – вракал: в самой Всегородней избе сидит у расправных дел дворянин Иван Чиркин… А я, слышь, с Болотниковым ходил в тысяцких. Ляпунова измену изведал.[188 - Ляпунова измену изведал. – Ляпунов Прокопий Петрович (?–1611), думный дворянин, после воцарения Василия Шуйского возглавил борьбу рязанских дворян против правительства, присоединился к крестьянскому восстанию Ивана Болотникова. В ноябре 1606 г. во время сражения повстанцев с царскими войсками перешел на сторону Шуйского и включился в борьбу против Болотникова.] Я стар и то знаю, что нам не пристало с дворянами в дружбу. Коли у вас во Пскове помещикам честь, то, стало, крестьянину гибель… То и слово!
– То и слово! – сказали за ним остальные и всею толпой неожиданно и согласно пошли вон.
За ними выскочил Прохор Коза, чтобы их удержать.
– Земские выборные, сказывайте по делу сему! – отчаянно настаивал хлебник.
– Гаврила Левонтьич, дозволь мне сказать! – крикнул Чиркин.
– Сиди уж, молчи! – со злостью ответил Гаврила.
– Мне дозволь, Гаврила Левонтьич! – звонко выкрикнул Иванка.
– Ну что, Иван? – отозвался хлебник, от неожиданности забыв, что Иванке совсем не пристало быть в собрании Земской избы.
– Пошли меня к воеводе Хованскому. И он из дворян, да родовитей, чем Чиркин. Спросим его, помогать ли крестьянам. Голову заложу, что он так рассудит, как Чиркин…
– Пошел вон из Земской избы, холоп! – окриком перебил Чиркин Иванку.
– И о том бы спросил Хованского, кого в Земской избе держать – дворян аль холопей! – не унялся Иванка.
– Скоморошишь, Иван! – строго ответил Гаврила.
– Ой, врешь! Ты скоморошишь, Гаврила Левонтьич! С волками совета держишь, как овец от медведя беречь!..
– Ступай из избы! – строго крикнул Мошницын Иванке.
– Пошто его гнать: правду молвил! – отозвался Прохор Коза, один, без крестьян возвратившийся в избу.
– Не выборный ты, уходи-ка, Ваня! – с ласковой строгостью сказал Гаврила. – Лезешь, куда не зовут.
– Томила Иваныч к тебе послал сказать, что забыли его у вас в Земской.
– Две ночи я дома не был. Горячи деньки минуют – и сам забегу…
– Не мне приносят, Ванюша… То правду любят… Правде несут те дары… И в том пущая радость, – прерывисто, через силу, шептал Томила.
Но больше всего удивила Иванку лисичка Аксюша, дочь ключницы стольника Ордина-Нащекина.
– Деда велел отнести… – невнятно пробормотала она и сунула узелок, завязанный в пестрый платочек. – Да как здоровье узнать… – И, словно в оправдание себе, она пояснила: – Твой батька ему челобитье писал на купца…
– Мне Томила Иваныч не батька, – сказал Иванка.
– А мне что за дело!.. – оборвала Аксюша и вдруг, словно желая смягчить свою резкость, с лисьей лукавой улыбкой шепнула: – У-у, Скинь-кафтан!.. Ну, прощай! – Она повернулась и быстро пошла.
– Постой! Платочек возьми! – окликнул ее Иванка.
– Дорогу, чай, помнишь – сам занесешь! – отозвалась на ходу Аксюша и скрылась за поворотом в проулке.
Иванка не приходил домой, пока раненый Якуня лежал в сторожке. Его влекло желание поговорить со своей милой, но мысль, что кузнец посмеет сказать, будто он пользуется несчастьем семьи для сближения с Аленкой, остановила Иванку.
Каждый день он подходил к окну сторожки, взглядывал на Якуню, шепотом спрашивал о его здоровье, Груне шептал поклон от Томилы, молча кивал Аленке и бабке Арише и убегал… Когда он заглянул в окно и увидел Якуню, который лежал со свечой в руках, с темными кружками медных монет на мертвых глазах, Иванка вскрикнул и, прислонясь к косяку, по-детски заплакал. Он вошел в избу поклониться праху Якуни, но, встретившись взглядом с заплаканными, опухшими глазами Аленки, в горе ставшей еще как-то ближе, еще дороже ему, – отвернулся и выбежал вон из избы…
На кладбище нес он гроб с телом Якуни, и смешанные с потом слезы обильно текли по его щекам и капали в пыль дороги. Кузнец шагал рядом, убитый и почерневший от горя, неотрывно глядя в лицо мертвого сына. Иванке казался он в этот час близким, словно родной отец. Когда опускали гроб, громко закричав на все кладбище, вдруг зарыдала Аленка. Иванка чувствовал, что подойди он к ней в этот миг – и судьба решится, но он не двинулся даже тогда, когда, стоя у самого края могилы, Аленка шатнулась и чуть не упала… Захарка бросился к ней и отвел от края, и Иванка видел, как в его кафтан уткнулась она лицом, оставляя мокрые пятна на синем рукаве…
Когда расходились с кладбища, кузнец положил тяжелую руку Иванке на плечо.
– Не стало дружка твоего Якуни… – сказал он и вздрогнул, вдруг тяжело опершись на него всем телом.
Иванке сдавило горло, он чуть не обнял Мошницына, просто, тепло, как сын… Но, взглянув на Аленку и утешавшего ее Захара, вдруг торопливо брякнул пустые слова.
– Божья воля… Не он один… Вон Вася Бочарников тоже, да мало ль… – сказал он, стараясь придать строгость голосу. – А у меня там Томила Иваныч лежит… Прощай! – чуть не выкрикнул он и, оставив Мошницына, выскочил первым из ветхих ворот кладбища…
10
Томила все еще не поправлялся.
Он то впадал в забытье и метался в жару, то неподвижно лежал, бессильный, покрытый холодным потом и бледный, словно покойник.
После смерти и похорон Якуни Иванка опять-таки не возвратился домой. Он остался возле Томилы. Ежедневно сюда заходила Груня сготовить обоим поесть. В часы, когда она приходила, Слепой посылал Иванку.
– Сбегай лазутчиком в город, проведай, что там. Забыли меня, не заглянут… Шучу, шучу – разумею, что им недосуг, – спешил сказать он, но в голосе его все же была обида…
Придя от Томилы в Земскую избу, на крыльце ее Иванка встретился с Кузей. Кузя с беглыми крестьянами, разбившими поместья своих господ, пытался поднимать и других крепостных, но мужики повсюду ссылались на то, что у них нет ни пищалей, ни пушек, ни ратных начальных людей. Кузя привел с собой крестьян для сговора с городом. Несколько дней после вылазки жили они во Пскове, пока наконец их не позвали в Земскую избу.
Иванка пришел во Всегороднюю как раз в тот самый час, когда земские выборные сошлись для беседы с крестьянами.
В деревянных долбленых панцирях, словно надевшие по корыту на грудь и на спину, похожие на бородатых черепах, обутые в лапти, с древними широкими и прямыми дедовскими мечами, с крестьянскими топорами за опоясками, в руках с вилами да с копьями, сделанными из кос, пришли они в собрание Земской избы и столпились особняком у входа, недоверчиво глядя на выборных горожан…
Когда Иванка вошел, Гаврила, обращаясь к выборным, говорил о том, какую помощь даст городу восстание крестьян.
Иванка подошел было к Гавриле, чтобы шепнуть ему, что Томила в обиде на забывчивость старост, но, боясь помешать, молчал и ждал за спиною хлебника, когда он закончит речь.
– И мыслю я, господа земские выборные, дать им пороху и свинца, одну пушку с ядрами, сабель, пищалей да с ними же отпустить стрельцов и стрелецких десятников человек с пятьдесят в начальные люди для обучения ратному делу крестьян, – заключил Гаврила. – Сказывайте, господа, по делу.
Вдруг вскочил с места выборный от дворян Иван Чиркин.
– Кому сказывать? С кем говорить? – выкрикнул он. – Глядите, выборные земские люди: мой беглый мужик Агапка пришел в Земскую избу со мной толковать да рядиться. Видана ли экая наглость! А мы его, чем в колодки забить, поклоном встречай да на наших дворянских именьишек разорение сабли ему подай да пищали. Разбойников разводить по дорогам…
– Молчи, дворянин! Не одно твое дело – дела всей земли решаем, – грозно цыкнул Гаврила. – Сказывайте, крестьяне, свои мысли выборным земским. Бог даст, во всем поладим, – сказал он.
Но крестьяне стояли, сбившись тесной кучкой, не отвечая ему, и о чем-то вполголоса переговаривались.
– Сказывайте, земские люди! – поощрил их хлебник.
Тогда от толпы крестьян отделился высокий костлявый старик с длинной седой бородой, одетый в кольчугу и крылатый шлем, видно сбитый каким-нибудь дедом с лихого тевтонца. Опершись на медвежью рогатину, он шагнул вперед:
– Нече и слушать нам. Ты нас обманул, земский староста. Сказывал ты, что живете во Пскове по воле, бояр и дворян прогнали, ан – вракал: в самой Всегородней избе сидит у расправных дел дворянин Иван Чиркин… А я, слышь, с Болотниковым ходил в тысяцких. Ляпунова измену изведал.[188 - Ляпунова измену изведал. – Ляпунов Прокопий Петрович (?–1611), думный дворянин, после воцарения Василия Шуйского возглавил борьбу рязанских дворян против правительства, присоединился к крестьянскому восстанию Ивана Болотникова. В ноябре 1606 г. во время сражения повстанцев с царскими войсками перешел на сторону Шуйского и включился в борьбу против Болотникова.] Я стар и то знаю, что нам не пристало с дворянами в дружбу. Коли у вас во Пскове помещикам честь, то, стало, крестьянину гибель… То и слово!
– То и слово! – сказали за ним остальные и всею толпой неожиданно и согласно пошли вон.
За ними выскочил Прохор Коза, чтобы их удержать.
– Земские выборные, сказывайте по делу сему! – отчаянно настаивал хлебник.
– Гаврила Левонтьич, дозволь мне сказать! – крикнул Чиркин.
– Сиди уж, молчи! – со злостью ответил Гаврила.
– Мне дозволь, Гаврила Левонтьич! – звонко выкрикнул Иванка.
– Ну что, Иван? – отозвался хлебник, от неожиданности забыв, что Иванке совсем не пристало быть в собрании Земской избы.
– Пошли меня к воеводе Хованскому. И он из дворян, да родовитей, чем Чиркин. Спросим его, помогать ли крестьянам. Голову заложу, что он так рассудит, как Чиркин…
– Пошел вон из Земской избы, холоп! – окриком перебил Чиркин Иванку.
– И о том бы спросил Хованского, кого в Земской избе держать – дворян аль холопей! – не унялся Иванка.
– Скоморошишь, Иван! – строго ответил Гаврила.
– Ой, врешь! Ты скоморошишь, Гаврила Левонтьич! С волками совета держишь, как овец от медведя беречь!..
– Ступай из избы! – строго крикнул Мошницын Иванке.
– Пошто его гнать: правду молвил! – отозвался Прохор Коза, один, без крестьян возвратившийся в избу.
– Не выборный ты, уходи-ка, Ваня! – с ласковой строгостью сказал Гаврила. – Лезешь, куда не зовут.
– Томила Иваныч к тебе послал сказать, что забыли его у вас в Земской.
– Две ночи я дома не был. Горячи деньки минуют – и сам забегу…
Другие аудиокниги автора Степан Павлович Злобин
Салават




 0
0