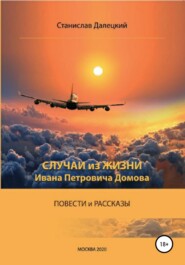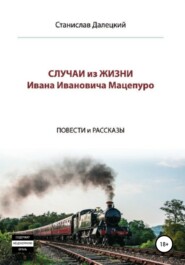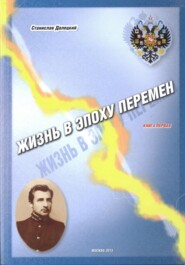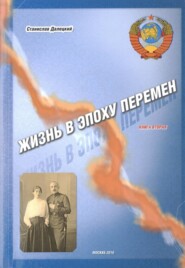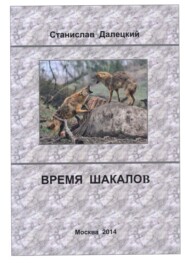По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Осенняя поездка в прошлое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
и Евдокии Щепанских. Следует отметить, что родителям Анны к этому времени было: отцу – около 40 лет, матери – 27 лет, что по тем временам считалось уже чуть ли не пожилым возрастом.
Отец старался дать единственной дочери образование и после окончания ею начальной школы отвез ее на север за 200км, в другой город, на учебу в женской гимназии (прогимназия), где иногородние девочки жили в интернате и учились. Родители конечно навещали дочь, но не часто: 200 км – это 4 дня пути на лошадях в повозках.
В 1910 году Анна закончила прогимназию и поступила в Ялуторовское учительское училище, которое закончила в 1915 г, когда 1-я мировая война, в которой участвовала и Россия продолжалась уже целый год (с 1 августа 1914г). Ей было 21 год – возраст для замужества уже критический по тем временам, учительнице в деревне пару не найти, и она в 1916 году устроилась на работу в канцелярию Омского училища прапорщиков (ныне – Высшее Омское пехотное училище).
А с ноября 1916 г по февраль 1917 г в Омском училище прапорщиков проходил обучение Иван Петрович – его дед: дворянин, образование высшее, учитель, на фронте с августа 1914 г, награжден Георгиевскими крестами 4-ой, 3-ей, 2-ой степеней.
По-видимому, в училище прапорщиков они и познакомились, а в феврале 1917 г Анна Антоновна и Иван Петрович вступили в брак. Муж Анны Антоновны был потомственный дворянин, старинного, с 17-го века дворянского рода, поэтому Анна Антоновна в браке тоже была дворянкой, а ее дети по рождению также становились дворянами. По окончанию училища, Иван Петрович был произведен в офицеры (прапорщик – это первый офицерский чин в армии царской России) и отбыл к месту прохождения службы в городе Иркутске, а Анна Антоновна вернулась к родителям, где в ноябре 1917 г у нее родилась дочь Августа.
До 1922 г Анна Антоновна оставалась жить у родителей, здесь в городке, а Ивана Петровича – деда, судьба бросала то в тюрьму, к белым и красным, то на фронты гражданской войны. Но, иногда, им удавалось встречаться, и в августе 1920 г у них родилась вторая дочь – Лидия.
В сентябре 1921 г Иван Петрович был уволен из красной армии, как бывший царский офицер, и сослан в город Вологду. В ссылку отправились всей семьей: Иван Петрович и Анна Антоновна с детьми и своими родителями.
Поселившись в г. Вологде, Иван Петрович стал учительствовать по истории в средней школе, а Анна Антоновна занималась воспитанием детей, которых в 1922 г стало уже трое – родился сын Борис, а домашнее хозяйство вела ее мать Евдокия Платоновна.
В 1927 г Ивана Петровича, по-видимому, уволили из школы, как дворянина и бывшего офицера и он, историк по образованию, занялся торговлей антиквариатом, что в те годы НЭПа (Новой Экономической Политики) еще разрешалось.
В 1929 году умер отец Анны Антоновны – Щепанский Антон Казимирович, ее мать уехала на родину к сестрам, а Анна Антоновна с семьей переехала на жительство в Подмосковье, потому что в Москве, Ивану Петровичу – человеку без паспорта, проживать запрещалось. В Подмосковье они прожили до 1932 г, затем переехали в город Ростов-Великий – это 150 км от Москвы на берегу Плещеева озера, где и прожили до 1933 года. Все это время Иван Петрович занимался торговлей антиквариатом и даже был некоторое время искусствоведом в Историческом музее Москвы.
Какой доход приносила эта деятельность неизвестно, однако были случаи, что семья оставалась без средств существования, а Иван Петрович, уезжая в Москву, задерживался там органами милиции. Тогда Анна Антоновна оставляла детей одних, старшей дочери было 13-15 лет, ехала в Москву и, по-видимому, как-то помогала Ивану Петровичу разрешить ситуации с его арестами. В 1933 году, когда в центральной России был голод, Анна Антоновна с детьми уехала в Сибирь – на родину к матери, а Иван Петрович остался в Подмосковье и до 1935 года старался как-то обеспечить семью. Он посылал деньги и некоторые вещи для продажи, но, вероятно, получалось недостаточно, и в мае 1935 г он тоже приехал сюда в Сибирь. Чем он здесь думал заниматься неизвестно, но сразу по приезду, он, по доносу, был арестован и осужден на 10 лет лагерей, якобы за спекуляцию (в 1990 г Иван Петрович был реабилитирован по этому обвинению).
После осуждения и отправки мужа в лагерь, Анне Антоновне в течении года приходили письма Ивана Петровича, разрешенного содержания, например такое:
«11/VII-36 года с 4
фаланги письмо 3
.
Вот уже около 3-х месяцев я не получал от тебя писем. Как писал в предыдущем, на 6 фаланге есть три письма, теперь уж может и больше, но до сих пор выручить не могу. Среди них уверен, есть же и от тебя. Не получая, всё передумаешь: и заболела ты или даже какое новое несчастье стянулось над твоей головой, и забыла уже меня, ну всё думается! С новой фаланги первое письмо послал 19/VI и второе – 2/VII. Завтра пошлю это, получишь второе уже. На три ближайших дня и я должен получить. Пока – весь нетерпенье! И так, пиши чаще. Это письмо посылаю с оказией, тороплюсь и лишь вкратце повторю существенное: – если не раздумала и не боишься разделить мою судьбу – посылай (по адресу: ДВК, гор. Свободный, Управление Бамлага НКВД, отдел по колонизации.) заявление о твоём желании колонизироваться со мной «вместе с мужем И.П.Д.», упомяни о своей прежней револ. деятельности и желании учительствовать вместе со мной. В общем изложи всё, что там подберёшь. Такое же (копия) заявление срочно заказным и мне на возбуждение ходатайства. Анна, не получая от тебя (писем) – окончательное решение я не посылал. К осени, началу учебного года надо бы устроиться. Тебе– то обязательно надо. Так что не совсем надеюсь на благоприятный результат, подавай и в горнаробраз. Не топчись на месте. И в минувшую зиму надо было устроиться. Ну ладно. Что дети? Ава уже приехала? Сегодня, но лишь во сне, я получил твоё письмо. Всё Ромочку вижу, чаще всех. Тебя тоже часто. Что буду делать, если не удастся колонизироваться? Здоровье поправляется, я не писал тебе, а был очень-очень плох. С января (теперь уже проходит) мучил фурункулёз, а тут цинга начиналась. Истощён до отказа. Все беды было навалились на меня. Боялся писать ведь и лишней тревогой нагрузить тебя. Но обошлось и пока прошло мимо.
Теперь отдыхаю, понятно в условиях Бама, а то всё на общих. Теперь знаю, что ещё поживу. Учёл опыт и довольно быстро. И всё-таки, что буду делать дальше, ума не приложу. Надеюсь, понятно, на лучшее. Пока же – один! И тут нечего умалчивать! Один! Ладно! Ребята пусть тоже пишут. Ты же не забывай своего старого верного друга. Что с Серёжкиными уже разъехались и как? Что делала дальше? Поподробнее о себе. Ни перевода, ни посылку ещё не получал. Посылку ещё на зиму точно послала или нет? Писала, что скоро пошлёшь. Острая нужда теперь уже минула и я выскребся кое-как. Уже справляюсь, но может впустую. На всякий случай – пиши и пиши. Адрес ещё раз сообщаю: всё тот же и лишь замени 6 фалангу на «фаланга № 4 искусственная». Пиши же! Ну, пока, до нового! Целую всех вас: тебя очень-очень, детей, бабушку. Авуся! Напиши мне самостоятельное письмо. Если будешь Аничка слать посылку – конверты с марками обязательно вложи, бумагу не надо – пока есть. Ну, ещё раз целую!
Кроме заявления в Свободный пиши и в Москву в Упр НКВД и ещё кому ты подумаешь.
Но всегда надейся, не получив ответа от меня пиши-пиши и пиши: живу от письма до письма.
Что ещё сказать тебе? Тоскую о тебе, люблю тебя, думаю о тебе, беспокоюсь о тебе.
Целую!!!
Ещё больше оценил Аня, теперь, когда прошлое было брошено. Прости.
Иван».
К этому письму небольшое пояснение:
В лагере Иван Петрович надеялся, поскольку он осуждён за спекуляцию, оформиться колонистом и поселиться вольным вместе с семьёй на Дальнем Востоке – такое тогда практиковалось с целью заселения этих территорий СССР. Поэтому и многие его письма посвящены решению этого вопроса, о чём он просил и Анну Антоновну. Может быть, что-то из этого и получилось бы, но в 1937 году письма перестали приходить. В лагере, также по доносу, Иван Петрович был обвинен в контрреволюционной деятельности и в 1937 году он был расстрелян, но семья до 1990 года об этом ничего не знала (в 1990 г Иван Петрович был реабилитирован и по этому обвинению).
С арестом Ивана Петровича его жена Анна Антоновна с детьми, старшей из которых было 17 лет, осталась без средств существования. Имея среднее педагогическое образование: Ялуторовское педагогическое училище, Анна Антоновна сдала соответствующие экзамены и получила в 1939 году Аттестат учителя начальных классов РСФСР, в котором было указанно следующее:
«Домова Анна Антоновна, окончила в 1915 году учительское женское училище в г. Ялуторовске, прошедшая установленный испытательный стаж педагогической работы в школе, удостоена на основании Постановления Центрального Исполнительного комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР о введении персональных званий для учителей от 10 апреля 1936 года, звание учителя начальной школы.
Народный комиссар просвещения РСФСР
14 апреля 1939 г №224490»
По-видимому, Анна Антоновна стала работать учителем начальных классов в своём городке еще до получения аттестата – примерно с 1936 года, сначала в начальной школе, а потом в семилетней школе, где и проработала до 1954 года до выхода на пенсию при учительском стаже 20 лет. Потом, до 1957 г она еще поработала библиотекарем в той же школе, т.к. прожить на учительскую пенсию, имея двух иждивенцев было трудно. А этими иждивенцами были ее мать – Щепанская и внук – сын её дочери Лидии.
Следует отметить, что пенсионная система СССР в 50-е годы еще только формировалась, и право на пенсию имели еще не все, но военнослужащие, врачи и учителя считались необходимыми для государства специалистами и обеспечивались пенсиями по старости или выслуге лет. Эти пенсии позволяли жить скромно, но не в нищете, как после 1991 года.
С возвращения на родину в 1933г и до 1958 г Анна Антоновна проживала в доме своей матери, который достался ей по наследству от сестры.
Этот дом сохранился и в настоящее время. Он из сосновых бревен на фундаменте из лиственничных столбов, под железной жестяной крышей, имел общую площадь примерно 40 м
, жилую около 30 м
и включал сени, кухню и 2 комнаты, примерно 14 и 8 метров. При доме был двор и огород общей площадью участка 8 соток (впоследствии 6 соток). На участке стояли: сарай – для дров и коровы и амбарчик – для кое-каких продовольственных запасов, весьма незначительных. Хотя до революции 1917 г, по воспоминаниям Евдокии Платоновны, в амбаре её собственного дома на зиму обычно хранились: туша коровы, туша свиньи, 2-3 бараньих туши, около 50 тушек птицы (кур, уток и гусей), а также несколько мешков муки и крупы, бочки с солениями и маслом.
Собственный купеческий дом Евдокии Платоновны находился метрах в 50 от дома ее сестры Марии на берегу речки и был примерно в два раза больше. Этот дом был реквизирован в 1918 году, и в 30-50-е годы там проживало 3 семьи, а в настоящее время он снова принадлежит какому-то торгашу – назвать этих нынешних спекулянтов купцами или торговцами просто невозможно.
Но вернемся к условиям жизни Анны Антоновны. В доме, общей площадью 30 м
(т.е. малогабаритная двухкомнатная квартира в панельном доме 60-х годов) в 1935 году проживали:
Щепанская Евдокия – мать Анны Антоновны; ее сестра Пелагея; сама Анна Антоновна; трое ее детей: Августа, Лидия и Борис – всего 6 человек. При этом, маленькая комната в доме сдавалась квартирантам – обычно семейной паре без детей. Как там размещались 8 человек, особенно зимой, когда из-за сибирских морозов на улице долго не пробудешь, представить достаточно трудно.
Тем не менее, дети Анны Антоновны – дети врага народа, получили среднее образование, дочь Августа впоследствии окончила институт, дочь Лидия тоже училась в институте, но из-за войны вынуждена была оставить учебу. Сама Анна Антоновна – жена врага народа, за труд в годы Великой Отечественной войны была награждена медалью.
Доносчики и подлецы от власти и при власти сгубили много невинных людей, но власть в целом, была в интересах большинства, чего нельзя сказать о действующем в России с 1991 года режиме.
Итак, Анна Антоновна учительствовала, а домашнее хозяйство вела ее мать Евдокия Платоновна, которой в 1935 году было уже 68 лет, но она была энергичная и неутомимая в повседневном труде женщина. В домашнем хозяйстве всегда была корова (до 1954 года), а иногда и две, иногда заводили и откармливали поросенка, были и куры – все это требовало постоянного труда и заботы. А кроме них еще был огород, который летом требовалось поливать и носить воду из реки. Также надо было заготовить дрова для отопления дома и накосить летом сена для коровы – все это требовало мужского труда, а мужчин в доме не было – одни женщины да сын Анны Антоновны – Борис, которому было 13 лет. Но как-то справлялись, даже во время войны, когда Борис был призван в действующую армию и женщины вообще остались одни.
В 1940 году умерла сестра прабабушки – Пелагея, но у старшей дочери Анны Антоновны – Августы родилась дочь Наталья, так сказать произошла замена старого на малого. Потом, там же родился и сын у второй её дочери – Лидии.
После войны дети Анны Антоновны разъехались по своим семьям, а именно:
дочь Августа уехала в Подмосковье, дочь Лидия осталась в городке, но переехала в дом к мужу, а сын Борис переехал в другое село, а потом в другой район Сибири. Анна Антоновна осталась в доме с матерью и внуком – Иваном, сыном её дочери Лидии, который в два года оказался без отца, не был принят новым мужем и остался на воспитании у бабушки.
После войны Анна Антоновна так и жила здесь с матерью и внуком в бывшем доме своей тетки Марии. Летом во время учительских отпусков она выезжала, иногда, в гости к старшей дочери Августе в Подмосковье или к сыну Борис, а ее мать Евдокия Платоновна оставалась на хозяйстве.
Последняя корова была в хозяйстве, кажется, до 1954 года, а после уже нет, так как содержать и ухаживать за коровой это большой труд. К тому же, в эти годы Хрущев обложил подсобные хозяйства сельских жителей непомерными налогами в натуральной форме: имеются в хозяйстве курицы – надо сдать государству определенное количество яиц, есть корова – сдавай молоко и т.д. Вот так: дурак у власти способен загубить любое дело, извратить любую благородную идею. А кроме дураков, были еще и предатели, откровенные и скрытые враги и проходимцы всех мастей, что и показала перестройка и последующий развал страны с возвратом принципа их жизни: «или всех грызи, или лежи в грязи», вместо добросовестного и созидательного труда, как основы существования человеческого общества.
В 1955 году Анна Антоновна получила письмо от бывшего узника Бамлага, сидевшего вместе с Иваном Петровичем и после освобождения проживающего в 70 км отсюда. Как о нём узнала Анна Антоновна неизвестно.
Вот это письмо:
«1/Х-55.