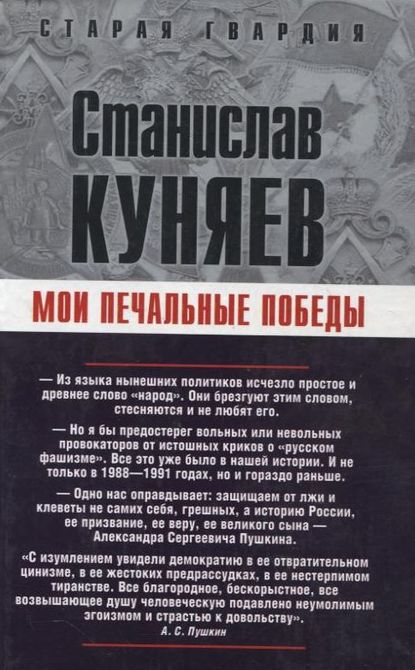По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мои печальные победы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Великий русский философ нашей эпохи Алексей Федорович Лосев, сам, как и Смеляков, познавший в 30-е годы вкус лагерной баланды, размышляя о том, что такое в философском смысле понятие «жертва», писал в одной из своих работ на исходе 1941 года:
«Я многие годы провел в заточении, гонении, удушении: и я, быть может, так и умру, никем не признанный и никому не нужный. Это жертва. Вся жизнь, всякая жизнь, жизнь с начала до конца, от первого до последнего вздоха, на каждом шагу и в каждое мгновение, жизнь с ее радостями и горем, с ее счастьем и с ее катастрофами есть жертва, жертва и жертва. Наша философия должна быть философией Родины и жертвы, а не какой-то там отвлеченной, головной и никому не нужной «теорией познания» или «учением о бытии или материи». В самом понятии и названии «жертва» слышится нечто возвышенное и волнующее, нечто облагораживающее и героическое. Это потому, что рождает нас не просто «бытие», не просто «материя», не просто «действительность» и «жизнь» – все это нечеловечно, надчеловечно, безлично и отвлеченно, – а рождает нас Родина, та мать и та семья, которые уже сами по себе достойны быть, достойны существования, которые уже сами по себе есть нечто великое и светлое, нечто святое и чистое. Веления этой Матери Родины непререкаемы. Жертвы для этой Матери Родины неотвратимы. Бессмысленна жертва какой-то безличной и слепой стихии рода. Но это и не есть жертва. Это просто бессмыслица, ненужная и бестолковая суматоха рождений и смертей, скука и суета вселенской, но в то же время бессмысленной животной утробы. Жертва же в честь и во славу Матери Родины сладка и духовна. Жертва эта и есть то самое, что единственное только и осмысливает жизнь».
Окружение Смелякова 50 – 60-х годов не зря относилось к нему и с подобострастием и с тщательно скрытым недоверием. Он тоже понимал, с кем имеет дело, знал сплоченную силу этих людей, помнил о том, как был повязан их путами в атмосфере чекистско-еврейского бриковского салона его кумир Маяковский, помнил, что духовные отцы тех, кто сейчас крутится возле него, затравили Павла Васильева за так называемый антисемитизм и русский шовинизм, до поры до времени молчал или был осторожен в разговорах на эту тему, но, как честный летописец эпохи, не мог не написать двух необходимых для него стихотворений, которые в полном виде были опубликованы лишь после его смерти.
ЖИДОВКА
Прокламация и забастовка.
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
комиссаркой гражданской войны.
Ни стирать, ни рожать не умела,
никакая не мать, не жена —
лишь одной революции дело
понимала и знала она…
В 1987 году демократы из «Нового мира» впервые опубликовали это стихотворение. Но они, всю жизнь, со времен Твардовского, воевавшие против цензуры, не смогли «проглотить» название и первую строфу: стихотворение назвали «Курсистка», и первую строфу чья-то трусливая рука переделала таким образом:
Казематы жандармского сыска,
пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала курсистка
комиссаркой гражданской войны.
Конечно, понять новомировских «курсисток» можно… «Ну хотя бы поэт «еврейкой» назвал свою героиню. Ведь написал же он дружеские стихи Антокольскому: «Здравствуй, Павел Григорьевич, древнерусский еврей!» А тут – «жидовка», невыносимо, недопустимо, в таком виде печатать нельзя!»
Брызжет кляксы чекистская ручка,
светит месяц в морозном окне,
и молчит огнестрельная штучка
на оттянутом сбоку ремне.
Неопрятна, как истинный гений,
и бледна, как пророк взаперти.
Никому никаких снисхождений
никогда у нее не найти.
………………………………….
Все мы стоим того, что мы стоим,
будет сделан по-скорому суд,
и тебя самое под конвоем
по советской земле повезут…
Две женщины. Одна – русская работница («прямые черты делегаток, молчащие лица труда»), все умеющая мать и жена, обутая в мужские ботинки, одетая в армейское белье, – и другая – профессиональная революционерка, фанатичная чекистка в кожанке с револьвером на боку, не умеющая «ни стирать, ни рожать», а только допрашивать и расстреливать… Два враждебных друг другу лика одной революции… Какой из них был Смелякову дороже и роднее – говорить излишне. После смерти Смелякова это одно из лучших его стихотворений по воле составителей и издателей не вошло даже в самую полную его книгу – однотомник, изданный в 1979 году «Большой библиотекой поэта». Настолько оно было страшным своей исторической правдой так называемым «детям XX съезда партии». Впрочем, как и стихотворение о смерти Маяковского – о еврейских дамочках полусвета, о «лилях» и «осях», о «брехобриках», о «проститутках с осиным станом», которые, «словно вермут ночной сосали золотистую кровь поэта». Какой шабаш поднялся после его публикации! Как же! Смеляков замахнулся на святая святых – на нашу касту! Симонов бегал в ЦК и требовал наказания виновных, утверждал, что стихи написаны Ярославом Смеляковым в невменяемом состоянии, что автор сам был против их публикации, что они были опубликованы помимо его воли. Борис Слуцкий звонил вдове поэта Татьяне Стрешневой и угрожал, что она не получит больше ни строчки переводов, что все «порядочные люди отшатнутся от нее», что копейки больше нигде не заработает… Хорошо еще, что у Вадима Кузнецова, опубликовавшего стихотворенье в альманахе «Поэзия», сохранилась верстка стихотворения, завизированная Смеляковым. А сам поэт к тому времени был уже недоступен для гнева ничего не забывших и ничему не научившихся поклонников бриковского салона – он уже спал вечным сном под каменной плитой Новодевичьего кладбища.
О драматичной истории этого стихотворения так вспоминал в одной из книг Николай Старшинов:
«После выхода в альманахе «Поэзия» стихотворение не было ни разу опубликовано ни в одном издании. А с самим этим номером альманаха произошла непонятная история. Он мгновенно исчез с полок книжных магазинов. А поэт и прозаик Виталии Коржиков рассказал мне даже такое:
– Подошел я несколько дней назад к книжному магазину, который находится поблизости от моего дома. Смотрю: подъехала к нему легковая машина. Из нее вышли несколько молодых людей. Они по-быстрому забежали в магазин, вынесли из него с десяток пачек каких-то книг. Я услышал их разговор: «Сейчас отъедем за город и сожжем…» Я зашел в магазин и поинтересовался у продавца: что за книги вынесли сейчас молодые ребята? А он мне: «Да это альманах «Поэзия».
Вот какой властью еще в начале 70-х годов обладал бриковский клан в литературе и политике!
Я в этой статье вспоминаю, конечно же, лучшие, «искрящиеся», истинные стихи Смелякова. Но «амортизация сердца и души» частенько настигала и его. В этом состоянии он написал множество стихов о Ленине, о комсомоле, о советской власти, о дружбе народов, чреватых многословием и политической риторикой. Сейчас они кажутся (да и раньше тоже казались) наивными, плакатными, нарочито повествовательными. Они не искрились, эти слова, с них сыпалась металлическая пыль, смешанная с крупицами точильного камня. Но даже в стихотвореньях, написанных поэтом с усталой искренностью, не было самого страшного для поэзии изъяна: истерического лицемерия, которым были отмечены деяния популярных стихотворцев, заискивавших перед Ярославом и пытавшихся делать имя и карьеру, сочиняя многометровые поэмы о Ленине и Революции. Кто сейчас их помнит, эти полотна диссидентского соцреализма в исполнении Евтушенко, Рождественского, Рыгора Бородулина, Вознесенского, Коротича, Олжаса Сулейменова? Целая Лениниана, которую нынешним ее зодчим, конечно, хотелось бы вырвать из своих книг, забыть, стереть из памяти историков. Ныне ее авторы, когда-то лебезившие перед Смеляковым, глумятся надо всем, что было свято для него. Он же и в те времена держал их на почтительном от себя расстоянии, поскольку верил в одну истину:
Ежели поэты врут,
больше жить не можно.
И не случайно, что Ярослав Васильевич в середине шестидесятых потянулся к новым поэтам.
Помню вечер в Доме журналиста. Выступали Анатолий Передреев и Белла Ахмадулина. Смеляков представлял их публике. Фамилия «Передреев» на рукописной афише в фойе была безжалостно переврана – «Переведреев» или что-то в этом роде. Открывая вечер, Смеляков не мог не сказать об этом.
– Внизу висит афиша, – с негодованием произнес он, – на ней изуродована фамилия поэта. Он – Анатолий Пе-ре-дре-ев! Пусть будет стыдно тем, кто переврал его фамилию. Скоро ее будут знать тысячи наших читателей. Это предсказываю вам я, Ярослав Смеляков!
Но будем смотреть правде в глаза: время сломало и опрокинуло многие устои смеляковского мировоззрения. Он верил, что Союз народов создан уже навсегда, что «дело прочно, когда под ним струится кровь», кровь самопожертвования. Он любил ездить на Кавказ и в Среднюю Азию, он любил Кайсына Кулиева и Давида Кугультинова и за талант, и за невзгоды, которые они перенесли вместе со своими народами. Он верил, что все эти кровавые противоречия – в прошлом.
Мы позабыть никак не в силах,
ни старший брат, ни младший брат,
о том, что здесь в больших могилах,
на склонах гор чужих и милых
сыны российские лежат.
Апрельским утром неизменно
к ним долетает на откос
щемящий душу запах сена
сквозь красный свет таджикских роз.
Я бродил по этим тропам Гиссара и Каратегина, не отдавая себе отчета в том, что лишь тридцать лет тому назад буденновские конники сходились здесь грудь на грудь с басмачами-душманами. Однажды, возвращаясь из геологического маршрута по каменистой тропе, вьющейся над кипящим голубым потоком, я увидел под тутовым деревом холмик из камней, над которым свисали с зеленых веток разноцветные тряпичные ленты.
– Что это? – спросил я у сопровождавшего меня местного таджика.
Он внимательно посмотрел мне в глаза и не сразу, но ответил:
– Известный басмач тут похоронен. Из нашего рода.
Так что «на склонах гор чужих и милых» были зарыты и те и другие. И однако я с естественным спокойствием во время геологических маршрутов забредал в самые отдаленные кишлаки, где по-русски кое-как можно было объясниться лишь с чайханщиком, присаживался к чабанскому костру попить чаю с чабанами – потомками басмачей-душманов. Мы улыбались друг другу, в глазах моих собеседников не было ни затаенной злобы, ни коварства, только любопытство и радушие
– Кибитка Москва? – Москва!
– Баранчук бар? – бар!
– Кизинка бар? – йок!
(Дом в Москве? – В Москве! – Сын есть? – Есть. – Дочь есть? – Нет.)
Я прощался с этими темнолицыми белозубыми людьми, мы жали друг другу руки, не подозревая, что через тридцать лет их соплеменники будут отрезать головы русским солдатам на разгромленных заставах расчлененной страны. Но в те времена мир Средней Азии еще жил общим укладом, столь дорогим сердцу Ярослава Смелякова.
Правда, он предчувствовал, что после его смерти история может быть переписана, кое-какие опасения жили в его душе.
Мне говорят и шепотом и громко,
что после нас, учены и умны,
«Я многие годы провел в заточении, гонении, удушении: и я, быть может, так и умру, никем не признанный и никому не нужный. Это жертва. Вся жизнь, всякая жизнь, жизнь с начала до конца, от первого до последнего вздоха, на каждом шагу и в каждое мгновение, жизнь с ее радостями и горем, с ее счастьем и с ее катастрофами есть жертва, жертва и жертва. Наша философия должна быть философией Родины и жертвы, а не какой-то там отвлеченной, головной и никому не нужной «теорией познания» или «учением о бытии или материи». В самом понятии и названии «жертва» слышится нечто возвышенное и волнующее, нечто облагораживающее и героическое. Это потому, что рождает нас не просто «бытие», не просто «материя», не просто «действительность» и «жизнь» – все это нечеловечно, надчеловечно, безлично и отвлеченно, – а рождает нас Родина, та мать и та семья, которые уже сами по себе достойны быть, достойны существования, которые уже сами по себе есть нечто великое и светлое, нечто святое и чистое. Веления этой Матери Родины непререкаемы. Жертвы для этой Матери Родины неотвратимы. Бессмысленна жертва какой-то безличной и слепой стихии рода. Но это и не есть жертва. Это просто бессмыслица, ненужная и бестолковая суматоха рождений и смертей, скука и суета вселенской, но в то же время бессмысленной животной утробы. Жертва же в честь и во славу Матери Родины сладка и духовна. Жертва эта и есть то самое, что единственное только и осмысливает жизнь».
Окружение Смелякова 50 – 60-х годов не зря относилось к нему и с подобострастием и с тщательно скрытым недоверием. Он тоже понимал, с кем имеет дело, знал сплоченную силу этих людей, помнил о том, как был повязан их путами в атмосфере чекистско-еврейского бриковского салона его кумир Маяковский, помнил, что духовные отцы тех, кто сейчас крутится возле него, затравили Павла Васильева за так называемый антисемитизм и русский шовинизм, до поры до времени молчал или был осторожен в разговорах на эту тему, но, как честный летописец эпохи, не мог не написать двух необходимых для него стихотворений, которые в полном виде были опубликованы лишь после его смерти.
ЖИДОВКА
Прокламация и забастовка.
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
комиссаркой гражданской войны.
Ни стирать, ни рожать не умела,
никакая не мать, не жена —
лишь одной революции дело
понимала и знала она…
В 1987 году демократы из «Нового мира» впервые опубликовали это стихотворение. Но они, всю жизнь, со времен Твардовского, воевавшие против цензуры, не смогли «проглотить» название и первую строфу: стихотворение назвали «Курсистка», и первую строфу чья-то трусливая рука переделала таким образом:
Казематы жандармского сыска,
пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала курсистка
комиссаркой гражданской войны.
Конечно, понять новомировских «курсисток» можно… «Ну хотя бы поэт «еврейкой» назвал свою героиню. Ведь написал же он дружеские стихи Антокольскому: «Здравствуй, Павел Григорьевич, древнерусский еврей!» А тут – «жидовка», невыносимо, недопустимо, в таком виде печатать нельзя!»
Брызжет кляксы чекистская ручка,
светит месяц в морозном окне,
и молчит огнестрельная штучка
на оттянутом сбоку ремне.
Неопрятна, как истинный гений,
и бледна, как пророк взаперти.
Никому никаких снисхождений
никогда у нее не найти.
………………………………….
Все мы стоим того, что мы стоим,
будет сделан по-скорому суд,
и тебя самое под конвоем
по советской земле повезут…
Две женщины. Одна – русская работница («прямые черты делегаток, молчащие лица труда»), все умеющая мать и жена, обутая в мужские ботинки, одетая в армейское белье, – и другая – профессиональная революционерка, фанатичная чекистка в кожанке с револьвером на боку, не умеющая «ни стирать, ни рожать», а только допрашивать и расстреливать… Два враждебных друг другу лика одной революции… Какой из них был Смелякову дороже и роднее – говорить излишне. После смерти Смелякова это одно из лучших его стихотворений по воле составителей и издателей не вошло даже в самую полную его книгу – однотомник, изданный в 1979 году «Большой библиотекой поэта». Настолько оно было страшным своей исторической правдой так называемым «детям XX съезда партии». Впрочем, как и стихотворение о смерти Маяковского – о еврейских дамочках полусвета, о «лилях» и «осях», о «брехобриках», о «проститутках с осиным станом», которые, «словно вермут ночной сосали золотистую кровь поэта». Какой шабаш поднялся после его публикации! Как же! Смеляков замахнулся на святая святых – на нашу касту! Симонов бегал в ЦК и требовал наказания виновных, утверждал, что стихи написаны Ярославом Смеляковым в невменяемом состоянии, что автор сам был против их публикации, что они были опубликованы помимо его воли. Борис Слуцкий звонил вдове поэта Татьяне Стрешневой и угрожал, что она не получит больше ни строчки переводов, что все «порядочные люди отшатнутся от нее», что копейки больше нигде не заработает… Хорошо еще, что у Вадима Кузнецова, опубликовавшего стихотворенье в альманахе «Поэзия», сохранилась верстка стихотворения, завизированная Смеляковым. А сам поэт к тому времени был уже недоступен для гнева ничего не забывших и ничему не научившихся поклонников бриковского салона – он уже спал вечным сном под каменной плитой Новодевичьего кладбища.
О драматичной истории этого стихотворения так вспоминал в одной из книг Николай Старшинов:
«После выхода в альманахе «Поэзия» стихотворение не было ни разу опубликовано ни в одном издании. А с самим этим номером альманаха произошла непонятная история. Он мгновенно исчез с полок книжных магазинов. А поэт и прозаик Виталии Коржиков рассказал мне даже такое:
– Подошел я несколько дней назад к книжному магазину, который находится поблизости от моего дома. Смотрю: подъехала к нему легковая машина. Из нее вышли несколько молодых людей. Они по-быстрому забежали в магазин, вынесли из него с десяток пачек каких-то книг. Я услышал их разговор: «Сейчас отъедем за город и сожжем…» Я зашел в магазин и поинтересовался у продавца: что за книги вынесли сейчас молодые ребята? А он мне: «Да это альманах «Поэзия».
Вот какой властью еще в начале 70-х годов обладал бриковский клан в литературе и политике!
Я в этой статье вспоминаю, конечно же, лучшие, «искрящиеся», истинные стихи Смелякова. Но «амортизация сердца и души» частенько настигала и его. В этом состоянии он написал множество стихов о Ленине, о комсомоле, о советской власти, о дружбе народов, чреватых многословием и политической риторикой. Сейчас они кажутся (да и раньше тоже казались) наивными, плакатными, нарочито повествовательными. Они не искрились, эти слова, с них сыпалась металлическая пыль, смешанная с крупицами точильного камня. Но даже в стихотвореньях, написанных поэтом с усталой искренностью, не было самого страшного для поэзии изъяна: истерического лицемерия, которым были отмечены деяния популярных стихотворцев, заискивавших перед Ярославом и пытавшихся делать имя и карьеру, сочиняя многометровые поэмы о Ленине и Революции. Кто сейчас их помнит, эти полотна диссидентского соцреализма в исполнении Евтушенко, Рождественского, Рыгора Бородулина, Вознесенского, Коротича, Олжаса Сулейменова? Целая Лениниана, которую нынешним ее зодчим, конечно, хотелось бы вырвать из своих книг, забыть, стереть из памяти историков. Ныне ее авторы, когда-то лебезившие перед Смеляковым, глумятся надо всем, что было свято для него. Он же и в те времена держал их на почтительном от себя расстоянии, поскольку верил в одну истину:
Ежели поэты врут,
больше жить не можно.
И не случайно, что Ярослав Васильевич в середине шестидесятых потянулся к новым поэтам.
Помню вечер в Доме журналиста. Выступали Анатолий Передреев и Белла Ахмадулина. Смеляков представлял их публике. Фамилия «Передреев» на рукописной афише в фойе была безжалостно переврана – «Переведреев» или что-то в этом роде. Открывая вечер, Смеляков не мог не сказать об этом.
– Внизу висит афиша, – с негодованием произнес он, – на ней изуродована фамилия поэта. Он – Анатолий Пе-ре-дре-ев! Пусть будет стыдно тем, кто переврал его фамилию. Скоро ее будут знать тысячи наших читателей. Это предсказываю вам я, Ярослав Смеляков!
Но будем смотреть правде в глаза: время сломало и опрокинуло многие устои смеляковского мировоззрения. Он верил, что Союз народов создан уже навсегда, что «дело прочно, когда под ним струится кровь», кровь самопожертвования. Он любил ездить на Кавказ и в Среднюю Азию, он любил Кайсына Кулиева и Давида Кугультинова и за талант, и за невзгоды, которые они перенесли вместе со своими народами. Он верил, что все эти кровавые противоречия – в прошлом.
Мы позабыть никак не в силах,
ни старший брат, ни младший брат,
о том, что здесь в больших могилах,
на склонах гор чужих и милых
сыны российские лежат.
Апрельским утром неизменно
к ним долетает на откос
щемящий душу запах сена
сквозь красный свет таджикских роз.
Я бродил по этим тропам Гиссара и Каратегина, не отдавая себе отчета в том, что лишь тридцать лет тому назад буденновские конники сходились здесь грудь на грудь с басмачами-душманами. Однажды, возвращаясь из геологического маршрута по каменистой тропе, вьющейся над кипящим голубым потоком, я увидел под тутовым деревом холмик из камней, над которым свисали с зеленых веток разноцветные тряпичные ленты.
– Что это? – спросил я у сопровождавшего меня местного таджика.
Он внимательно посмотрел мне в глаза и не сразу, но ответил:
– Известный басмач тут похоронен. Из нашего рода.
Так что «на склонах гор чужих и милых» были зарыты и те и другие. И однако я с естественным спокойствием во время геологических маршрутов забредал в самые отдаленные кишлаки, где по-русски кое-как можно было объясниться лишь с чайханщиком, присаживался к чабанскому костру попить чаю с чабанами – потомками басмачей-душманов. Мы улыбались друг другу, в глазах моих собеседников не было ни затаенной злобы, ни коварства, только любопытство и радушие
– Кибитка Москва? – Москва!
– Баранчук бар? – бар!
– Кизинка бар? – йок!
(Дом в Москве? – В Москве! – Сын есть? – Есть. – Дочь есть? – Нет.)
Я прощался с этими темнолицыми белозубыми людьми, мы жали друг другу руки, не подозревая, что через тридцать лет их соплеменники будут отрезать головы русским солдатам на разгромленных заставах расчлененной страны. Но в те времена мир Средней Азии еще жил общим укладом, столь дорогим сердцу Ярослава Смелякова.
Правда, он предчувствовал, что после его смерти история может быть переписана, кое-какие опасения жили в его душе.
Мне говорят и шепотом и громко,
что после нас, учены и умны,