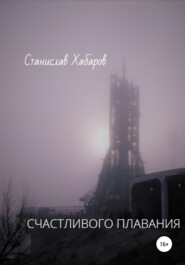По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вторая территория
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Заходит разговор о статьях:
– У меня вернули… У меня вернули две…А у меня чепуху оставили, так что стыдно вспоминать…
–Почему?
– Не подходит по тематике.
– Нужно съездить и объяснить.
– Да, ну их к богам.
Сначала я составляю жёсткий план. Но жёсткий план в наших условиях- сплошное мучение. Появляется что-нибудь неотложное: документ, телефонограмма, звонок, входит зам начальника отдела Легостаев и говорит обычное: «Зайдите ко мне». В своём кабинете он говорит: «Я вот вас чего позвал. Вам нужно поехать туда-то на совещание».
Ты пробуешь возразить: «Ведь этим такой-то занимается».
– Свяжитесь с ним. По приборам, наверное, будут вопросы. Могут быть?
Кто спорит: могут быть.
– Вот и поезжайте. Потом доложите.
– Хорошо, – Виктор Павлович.
И мой чудесный план- коту под хвост. От жёсткого стройного плана остаются клочья и горько на душе. С Легостаевым мы в противофазе. Я старательно избегаю его. Для меня он – «Человек-машина», лишённая эмоций.
По краю Земли.
По Сетону-Томсону, истинному толкователю звериных душ, утренний снег для волка – та же газета. Для уборщицы Инженерного корпуса второй территории Особого конструкторского бюро вечерней газетой была комната теоретиков. «Это не у нас,– говорили в соседних комнатах, это у теоретиков». «Мы—теоретики» назывался постоянный раздел стеной газеты «Последняя ступень». Заставала она их редко и не знала из них никого, начиная смену позже. Но они, как таинственные гномы, оставляли следы своей работы. Стулья, сдвинутые к столу, говорили о минувшем совещании, измазанная мелом грифельная доска о визите командированных. Сами они редко и неохотно писали на ней, а парадно очищенные столы и мешки, набитые макулатурой об ожидаемом визите Главного.
Главного ожидали часто, но в их аппендиксе на отшибе он пока не успел появиться. Его прибытию предшествовало обычное. Ходил по комнатам зам начальника отдела Легостаев, взглядывая на стены.
– Уберите, это снимите, – командовал он и шёл дальше.
– С чего это? – возражали одни.
– Обойдётся, – кивали другие, продолжая прерванные дела.
Между тем комната преображалась. Уходил «в подполье» за плакат орангутанг Буши, скалящий в улыбке перепутанные зубы, длинные ленты шахматных боёв снимались со стен и они принимали тоскливо парадный вид. А парторг Валентин Ипполитыч Телицын, которого за глаза именовали Замполитычем, лично предупреждал уборщицу:
– Вы уж, голубушка, пожалуйста так уберите, чтобы комар носа не подточил.
И секретарь Надя предупреждала с испуганным лицом: Главный собирается прийти, главный на втором этаже.
«Кто он такой, главный?» – думала она. Иногда, убрав комнаты, уборщицы собирались в кабинете начальника отдела, рассаживались вокруг полированного стола, доставали принесённое перекусить, а она любила мягкое кресло в углу. Перемывали косточки и в разговорах не поднимались выше своего руководителя– длинноусого начальника АХО, ходившего в вышитой рубашке и приводившего их в трепет своей придирчивостью. Окончив уборку своих комнат, они ещё раз обходили, оглядывал их. Затем она мыла руки в туалете в углу и отправлялась домой. У неё не было попутчиков. Она выходила проходной к Ярославскому шоссе, с другой стороны.
Давно миновали сроки, которыми когда-то она ограничивала свою жизнь. «До этого жизнь, а дальше существование». И её былую лихорадку мыслей и чувств заменила острая наблюдательность. На днях вызвал её к себе на ковёр её рыжеусый начальник и вместо профилактики спросил:
– Маша, – он всех называл по имени, – хочешь начинать с восьми?
Она забеспокоилась: «С чего это он предлагает ей? Начинать на час раньше, было, конечно, удобней, хотя и были нюансы. Теоретики иногда задерживались».
– А что? – стараясь не выказывать тревоги, спросила она.
– Согласна? И работа полегче и дел поменьше.
– А почему мне?
– Так вроде повышения. Ты у нас старательная.
– Повышение? – засмущалась она.
– Так согласна?
– Подумать надо. С дочкой посоветоваться.
– Ну что ты, Маша, выдумываешь? И дочки у тебя нет.
– А вот и есть. Не родная, а всё-таки дочка.
И теперь, идя дорожкой вдоль здания, освещённой вечно горящими окнами конструкторского отдела, она подумала: «Хорошо будет, если Светланка посоветует. Может зря она согласилась, хотя, с другой стороны, всё-таки удобней.
Светланка была племянницей, дочерью рано умершей сестры, а отец её Петька уехал на север заработать и пропал. Она звала тётю Машей, но та надеялась, что когда-нибудь и мамой назовёт. Она закончила школу, но в здешний Лестех не поступила. Училась теперь на подготовительных и подрабатывала в подсобке магазина на углу.
Она была дома, вертелась перед трюмо на своих высоких красивых ногах и прикалывала к груди разные брошки.
– Мария Филипповна, – спросила она. – Эта хороша?
Она в ответ спросила её:
– Кто такой теоретик?
– Например Маркс.
– Этот старый, с бородой? А помоложе?
– Теоретики управляют и учат всех.
«Опять не то, теоретики никого не учили, разве что космонавтов, и ещё они боялись главного».
– А кто такой главный?
– Главных полно, начальников. Плюнь и в главного обязательно попадёшь.
«Толкуй вот с ней».
Теперь, приходя раньше, она встречала теоретиков. Чаще они задерживались, играя в шахматы. В тот вечер задержался Валера, самый молодой. Он что-то строчил в прошнурованной секретной тетради и вздыхал и ей стало жалко его.
Этим вечером Валера мучился неразрешимостью. У Земли нельзя было выдать разгонный импульс станции. При разделении летели клочья и любая соринка играла роль ложной звезды. И невозможно использовать звёздный датчик, а гироскопы имели уходы и не могли долго ждать. Получалось, хоть стой, хоть падай и чаще падали. А как нужен этот ранний импульс у Земли. Но увы…Нужны надёжные средства. Такие как солнечная ориентация перед спуском на гагаринском «Востоке», которую придумал Легостаев.