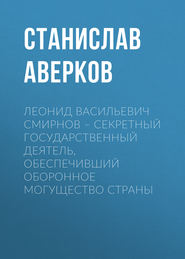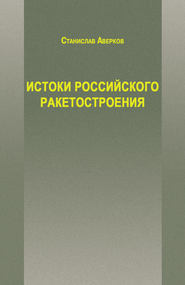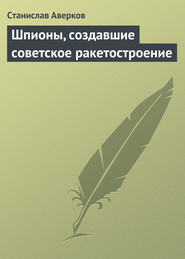По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Cекретные золотые первопроходцы из донской земли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Из ЦК в Петропавловский обком партии уже поступило указание. Тебе выдадут новый партбилет со старой датой поступления в партию. В анкете напиши: «последнее место работы – командировка».
Так Макаров оказался в Петропавловске. Территория завода малолитражных двигателей – голая степь. Эвакуированный с Запада завод малолитражек – станки и все остальное не были даже распакованы – нет транспорта! Заводчане вместе с Макаровым превратились в бурлаков. Станки установили на стальные листы и стали перетаскивать железные листы со станками с помощью веревок от железнодорожной станции за километры на территорию будущего завода. В это время другие заводчане начали возводить стены для будущих цехов. Так рождался будущий заводские корпуса.
На заводе не хватало специалистов. Макаров вышел в обком с неожиданным предложением: в Петропавловске находится крупнейшая в Казахстане тюрьма, надо найти среди заключенных необходимых специалистов, освободить их и отправить на завод. Прокуратура СССР отреагировала мгновенно. Так завод пополнился новыми освобожденными работниками.
10 сентября 1942 года были собраны первые десять малолитражных двигателей. В 1943 году завод их выпустил уже многие тысячи. За этот подвиг многие заводчане были награждены орденами и медалями. На пиджаке у Макарова засиял орден Трудового Красного Знамени.
Пришла срочная телеграмма от наркома директору завода Макарову:
«Коллективу завода и ее директору личная благодарность от Сталина за обеспечение фронтов малолитражными двигателями. Макарову срочно выехать в город Ирбит Свердловской области. Нарком Акопов».
В Ирбите вновь встретились Макаров и Акопов. Степан Акопович сразу сообщил Александру Макаровичу радостную весть:
– Как только освободили Ростов, мне удалось связаться с твоими родственниками. Отец и сестры живы. Передал, чтобы жена и дети выезжали в Ирбит. Теперь Ирбит прославится не только своей Сибирско-Европейской ярмаркой, но своим мотоциклетным заводом и его директором Макаровым.
Так оно и случилось. Став директором Ирбитского мотоциклетного завода, Макаров столкнулся с обычной для него обстановкой: срывались сроки строительства корпусов, барахлили моторы, да и железные рамы мотоциклов были не прочны.
Что из себя представлял тогда Ирбитский мотоциклетный завод? В начале войны в Ирбит были эвакуированы три мотоциклетных завода – Московский, Киевский и Харьковский. В единый Ирбитский предстояло их слить воедино Макарову.
Под руководством Макарова Ирбитский мотоциклетный завод дал фронту около семи тысяч мотоциклов М-72 с колясками. После Победы Макаров еще три года руководил заводом в Ирбите. М-72 стал одним из лучших мотоциклов страны. Ирбитские мотогонщики стали первыми чемпионами СССР.
Но как всегда, стране вновь потребовался Макаров, чтобы выручил ее.
На этот раз нарком Акопов вырвал Макарова из отпуска в Ростове-на-Дону.
Шел 1948 год. Но перед тем, как рассказать о том, что произошло в 1948 году, вернемся на четыре года назад.
6. Сталин: «Почему мы не получаем автомобили из Днепропетровска?»
21 июля 1944 года на заседании Государственного Комитета по Обороне было принято постановление о строительстве в стране крупных автомобильных заводов в Минске, Ярославле, Кутаиси, на Урале, в Сибири и на Украине. Днепропетровский автомобильный завод был задуман, как один из крупнейших заводов страны, рассчитанный на выпуск пятой части всех грузовиков страны. На создание этого завода было отведено три года, то есть в 1947 году из его цехов должен быть выехать первый грузовик. Но все сроки строительства ДАЗа были сорваны.
В 1947 году на заседании Совета Министров СССР И.В. Сталин возмутился:
– Скажи, Акопов, почему до сих пор мы не получаем автомобили из Днепропетровска?
Акопов понял, надо принимать срочные меры. Степан Акопович помнил высказывание Сталина – «Кадры решают все»! Были уволены руководители ДАЗа и строительных управлений. Взамен Акопов перебросил в Днепропетровск руководителей Горьковского автозавода и «Красной Этны». Пришла пора и Александру Максимовичу с семьей перебраться на берег Днепра. 4 декабря 1948 года он был назначен директором Завода вспомогательного оборудования – филиала Днепропетровского автозавода.
Согласно последнему постановлению правительства ДАЗ должен был войти в строй в 1950 году. Была изготовлена первая партия автомобилей ДАЗ-150. Шла их пробная эксплуатация в Кузбассе. Грузовик получил название ДАЗ-150 «Украина».
27 сентября 1950 года был подписан приказ о назначении А.М. Макарова начальником производства автозавода. Он должен был организовать поточно-конвейерное производство автомобилей. И с энтузиазмом взялся за конвейер.
Завод получил заказ от министерства обороны СССР – создать плавающие автомобили-амфибии ДАЗ-485 БАВ (аббревиатура расшифровывалась как «большой автомобиль водоплавающий»).
Первый ДАЗ-485 БАВ был построен в августе 1949 года. Когда машина была собрана, стояла глубокая ночь, но никто из конструкторов не пожелал отправиться домой – сразу же поехали к Днепру, где при свете фар «утки» – американского прототипа нашего БАВа – было решено испытать новую амфибию. За руль ДАЗ-485 сел лично главный создатель амфибии Грачёв, а ведь было достаточно рискованно направлять ночью в воды Днепра не обкатанный и не прошедший никаких испытаний, пусть и водоплавающий, автомобиль. Однако, БАВ не подвёл своих создателей и выдержал первый экзамен на «отлично». А впереди было ещё много испытаний: горные дороги Кавказа и Крыма; форсирование рек Кубани, Волги и Днестра; пробег Москва – Сталинград – Астрахань – Баку – Батуми – Крым – Одесса – Минск – Москва протяжённостью свыше 10 000 км. Когда машину испытывали в Крыму при форсировании Керченского пролива, тогда ещё полностью не очищенного от мин и затонувших кораблей, поднялся сильный шторм. Сопровождающим катерам типа «морской охотник» запретили выходить в море, но Грачёв со своим коллективом всё же рискнул переплыть пролив и выехал на сушу благополучно. БАВ отлично всходил носом на волну, все агрегаты работали бесперебойно, а система водоотлива успешно справлялась с откачкой воды, попадавшей в грузовой отсек и трюмы.
Коллектив ДАЗа праздновал заслуженную победу. Создателям ДАЗ-485 была присуждена Сталинская премия. Макарову была вручена очередная правительственная награда.
Днепропетровская амфибия не только не уступал американской DUKW-353, но и по многим параметрам превосходила ее. Днепропетровский БАВ имел гораздо более удачную компоновку, более вместительное грузовое отделение, откидывающийся задний борт, а главное – гораздо более совершенную, надёжную и эффективную систему подкачки шин.
ДАЗ был на подъеме и Макаров вместе с ним! Но в стране разворачивались еще более грандиозные события.
Глава IV. До войны с фашистской Германией зарождавшееся советское ракетостроение рухнуло под напором карьериста
1. Кто выиграет будущую войну – лошади или ракеты?
Человеческое сообщество всегда стремилось заглянуть в будущее. Провидцев всегда было много. Показательный пример – средневековый Нострадамус. Он был наделен даром разглядеть через туманную завесу будущие столетия. В одном из котренов (четверостиший) Нострадамус попытался изложить свое видение того, что может произойти в XX столетии, следующим образом:
Он станет живым воплощеньем террора
И более дерзким, чем сам Каннибал,
Ни что не сравнится с кровавым позором
Деяний, каких еще мир не видал.
Изучая это четверостишие, наши современники переругались. Одни были уверены, что в этом котрене говорится о Гитлере, другие – об испанском диктаторе Франко или о чилийском Пиночете. Либералы до сих пор заявляют о том, что Нострадамус предсказал появление на международной арене Сталина. Но с таким же рвением можно говорить о Чанкайши или о Мао Цзедуне. Одно неопровержимо – Нострадамус смог увидеть в далеком двадцатом столетии диктатора (на самом деле в этом веке их появилось более десяти), потому что досконально изучил человеческую сущность. Можно, пользуясь инструментом Нострадамуса, утверждать с такой же погрешностью, что в XXI веке появятся такие представители рода людского, кто вознамерится управлять своими соотечественниками диктаторскими способами.
Диктаторским способам нужны «орудия труда».
Пришло время обратиться к самому главному – к орудиям труда. В XIX веке во французской и немецкой прессе обсуждались принципы выхода из кризиса, который (по тогдашнему представлению) должен был бы обрушиться на жителей планеты Земля в XX столетии. Речь шла о военно-транспортном кризисе. Основное средство ведения войны в XIX веке было – мускульное, то есть кроме людей – лошади, верблюды, ослы и тому подобные животные.
По мнения предсказателей XIX века, для того, чтобы обеспечить человечество этими военными четвероногими мускульными средствами, необходимо было в XX веке, иметь более миллиарда лошадей, верблюдов, ослов….
Во внимание не принимались первые признаки новейшего научно-технического прогресса. Ведь уже тогда появились первые паровые машины и даже первые прообразы автомобилей. Электрические опыты открывали пути в неизведанные области различных сфер деятельности человечества.
Составители прогнозов, думая по старинке, вычислили, что в XX веке для всех сфер человеческой деятельности, но в первую очередь для военной, потребуется миллиард и даже более лошадей. Для того, чтобы прокормить миллиард лошадей и управлять ими, следовало бы засеять овсом в XX веке все территории Британской и Российской империи, а также Китая, США, Бразилии, Индии и других стран. Чтобы обеспечить управление миллиардами «саврасок», более половины трудоспособного населения Земли должна была бы в XX веке выращивать овес, разводить табуны лошадей, работать конюхами, кучерами, смотрителями конных станций, уборщиками улиц от лошадиного помета, в котором утонули бы города и села. А если к лошадям прибавить верблюдов и ослов, то Земной шар утонул бы и в их испражнениях.
Прогнозисты потрудились добросовестно. Именно они заставили человечество понять, что лошади и их коллеги могут довести его до абсурда. На высказывания прогнозистов откликнулись ученые и инженеры, начавшие изобретать транспортные механизмы перемещения. Но в первую очередь для вооруженных сил!
XX век вступил в свои права еще под лошадиным знаменем. Кавалерия играла существенную роль в первой мировой бойне. И также в России и в гражданскую войну. И артиллерия тех лет не обходилась без лошадей. Кто же сможет вытаскивать орудия из грязи, как не лошадки. Но немцы первыми задумались о модернизации армии. Тому были веские причины.
Первая мировая война закончилась поражением Германии. В 1919 году был подписан в Версале между Англией, Францией, Италией, Японией и поверженной Германией мирный договор. В его пятом разделе победители продиктовали немцам (книга JULIUS MADER, «GEHEIMNIS HUNTSVILLE. DIE WAHRE KARRIERE DES RAKETENBARONS VERNHER VON BRAUN», DEUTSCHER MILITARVERLAG, BERLIN, 1963) самое неприятное – артиллерия рейхсвера должна быть ограничена с 31 марта 1920 года не более чем десятью дивизиями.
Немцы могли бы смириться с таким диктатом, если бы это были полноценные дивизии. Но творцы Версальского договора пошли дальше. Они заставили побежденных подписать и следующее: артиллерия рейхсвера не могла иметь более 204 полевых орудий калибра 77 миллиметров и 84 полевых гаубиц калибра 105 миллиметров. Было ограничено и число снарядов – по тысячи на каждое полевое орудие и по восемьсот на каждую гаубицу.
С такой огневой мощью предпринимать меры для возрождения прежнего германского величия, конечно, было абсурдным. Но хотелось! Мечталось покорить весь мир. Стать его хозяевами. Об этом же мечтали и англичане, и американцы. И французы, и японцы. В СССР тоже мечтали иметь сильную армию. Но как это сделать?
В то время по донским, кубанским и украинским степям разъезжали бравые казаки. Им не уступали разудалые селяне во главе с батькой Махно на тачанках с пулеметами, запряженных лошадьми. В Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке орудовали белые кавалерийские дивизии. Врагов революции крушили конницы Буденного и Дыбенко.
В это время в Германии жесткие договорные ограничения заставили германский генералитет искать лазейки, чтобы «волки» Антанты были довольны выполнением Версальского договора и германские «овечки» не потеряли бы боеспособность.
Германские генералы постарались напрячь мозговые извилины и это у них получилось. Было принято замечательное толкование (книг А.С. Орлова, «Секретное оружие третьего рейха», Москва, издательство «Наука», 1975 г.) той части текста Версальского договора, что касалась производства, хранения, применения боеприпасов. Эту часть немцы восприняли, конечно, только со своих, немецких позиций.
Итак, статья 166 Версальского договора, запретившая германскому правительству иметь «какие либо запасы, склады или резервы боеприпасов», не относилась, по мнению немецких генералов, к ракетам, так как ракеты не являются боеприпасами в прямом смысле этого слова. Следовательно, возможно и необходимо развивать, не нарушая договора, исследования, экспериментирования, отработки и, в конечном счете, серийное производство ракет!
Какая разница в мышлении у выигравших и проигравших! Победители думали о сегодняшнем дне. Им, упоенным разгромом противника, недосуг было поразмыслить о будущем. Через четверть века этот просчет им аукнется.
В германской Веймарской республике министр рейхсвера издал в 1929 году секретный приказ, согласно которому при Управлении вооружений была создана рабочая группа по жидкостно-реактивным ракетам. Ее возглавил инженер-машиностроитель капитан Вальтер Роберт Дорнбергер. С этим именем в дальнейшем будут связаны все усилия Германии по созданию новейшего секретного «чудо – оружия».
Дорнбергер сразу же привлек к разработке ракет известного теоретика, энтузиаста будущих ракетных полетов в космос Германа Оберта и его коллег-экспериментаторов с ракетами Рудольфа Небеля и Клауса Риделя. Десяток лет они уже посвятили разработке основ ракетных двигателей.
Капитан Дорнбергер поставил перед ними конкретную задачу, как того требовал министр (книга Юлиуса Мадера «Тайна Хатсвилла», Берлин, 1963 год):
Так Макаров оказался в Петропавловске. Территория завода малолитражных двигателей – голая степь. Эвакуированный с Запада завод малолитражек – станки и все остальное не были даже распакованы – нет транспорта! Заводчане вместе с Макаровым превратились в бурлаков. Станки установили на стальные листы и стали перетаскивать железные листы со станками с помощью веревок от железнодорожной станции за километры на территорию будущего завода. В это время другие заводчане начали возводить стены для будущих цехов. Так рождался будущий заводские корпуса.
На заводе не хватало специалистов. Макаров вышел в обком с неожиданным предложением: в Петропавловске находится крупнейшая в Казахстане тюрьма, надо найти среди заключенных необходимых специалистов, освободить их и отправить на завод. Прокуратура СССР отреагировала мгновенно. Так завод пополнился новыми освобожденными работниками.
10 сентября 1942 года были собраны первые десять малолитражных двигателей. В 1943 году завод их выпустил уже многие тысячи. За этот подвиг многие заводчане были награждены орденами и медалями. На пиджаке у Макарова засиял орден Трудового Красного Знамени.
Пришла срочная телеграмма от наркома директору завода Макарову:
«Коллективу завода и ее директору личная благодарность от Сталина за обеспечение фронтов малолитражными двигателями. Макарову срочно выехать в город Ирбит Свердловской области. Нарком Акопов».
В Ирбите вновь встретились Макаров и Акопов. Степан Акопович сразу сообщил Александру Макаровичу радостную весть:
– Как только освободили Ростов, мне удалось связаться с твоими родственниками. Отец и сестры живы. Передал, чтобы жена и дети выезжали в Ирбит. Теперь Ирбит прославится не только своей Сибирско-Европейской ярмаркой, но своим мотоциклетным заводом и его директором Макаровым.
Так оно и случилось. Став директором Ирбитского мотоциклетного завода, Макаров столкнулся с обычной для него обстановкой: срывались сроки строительства корпусов, барахлили моторы, да и железные рамы мотоциклов были не прочны.
Что из себя представлял тогда Ирбитский мотоциклетный завод? В начале войны в Ирбит были эвакуированы три мотоциклетных завода – Московский, Киевский и Харьковский. В единый Ирбитский предстояло их слить воедино Макарову.
Под руководством Макарова Ирбитский мотоциклетный завод дал фронту около семи тысяч мотоциклов М-72 с колясками. После Победы Макаров еще три года руководил заводом в Ирбите. М-72 стал одним из лучших мотоциклов страны. Ирбитские мотогонщики стали первыми чемпионами СССР.
Но как всегда, стране вновь потребовался Макаров, чтобы выручил ее.
На этот раз нарком Акопов вырвал Макарова из отпуска в Ростове-на-Дону.
Шел 1948 год. Но перед тем, как рассказать о том, что произошло в 1948 году, вернемся на четыре года назад.
6. Сталин: «Почему мы не получаем автомобили из Днепропетровска?»
21 июля 1944 года на заседании Государственного Комитета по Обороне было принято постановление о строительстве в стране крупных автомобильных заводов в Минске, Ярославле, Кутаиси, на Урале, в Сибири и на Украине. Днепропетровский автомобильный завод был задуман, как один из крупнейших заводов страны, рассчитанный на выпуск пятой части всех грузовиков страны. На создание этого завода было отведено три года, то есть в 1947 году из его цехов должен быть выехать первый грузовик. Но все сроки строительства ДАЗа были сорваны.
В 1947 году на заседании Совета Министров СССР И.В. Сталин возмутился:
– Скажи, Акопов, почему до сих пор мы не получаем автомобили из Днепропетровска?
Акопов понял, надо принимать срочные меры. Степан Акопович помнил высказывание Сталина – «Кадры решают все»! Были уволены руководители ДАЗа и строительных управлений. Взамен Акопов перебросил в Днепропетровск руководителей Горьковского автозавода и «Красной Этны». Пришла пора и Александру Максимовичу с семьей перебраться на берег Днепра. 4 декабря 1948 года он был назначен директором Завода вспомогательного оборудования – филиала Днепропетровского автозавода.
Согласно последнему постановлению правительства ДАЗ должен был войти в строй в 1950 году. Была изготовлена первая партия автомобилей ДАЗ-150. Шла их пробная эксплуатация в Кузбассе. Грузовик получил название ДАЗ-150 «Украина».
27 сентября 1950 года был подписан приказ о назначении А.М. Макарова начальником производства автозавода. Он должен был организовать поточно-конвейерное производство автомобилей. И с энтузиазмом взялся за конвейер.
Завод получил заказ от министерства обороны СССР – создать плавающие автомобили-амфибии ДАЗ-485 БАВ (аббревиатура расшифровывалась как «большой автомобиль водоплавающий»).
Первый ДАЗ-485 БАВ был построен в августе 1949 года. Когда машина была собрана, стояла глубокая ночь, но никто из конструкторов не пожелал отправиться домой – сразу же поехали к Днепру, где при свете фар «утки» – американского прототипа нашего БАВа – было решено испытать новую амфибию. За руль ДАЗ-485 сел лично главный создатель амфибии Грачёв, а ведь было достаточно рискованно направлять ночью в воды Днепра не обкатанный и не прошедший никаких испытаний, пусть и водоплавающий, автомобиль. Однако, БАВ не подвёл своих создателей и выдержал первый экзамен на «отлично». А впереди было ещё много испытаний: горные дороги Кавказа и Крыма; форсирование рек Кубани, Волги и Днестра; пробег Москва – Сталинград – Астрахань – Баку – Батуми – Крым – Одесса – Минск – Москва протяжённостью свыше 10 000 км. Когда машину испытывали в Крыму при форсировании Керченского пролива, тогда ещё полностью не очищенного от мин и затонувших кораблей, поднялся сильный шторм. Сопровождающим катерам типа «морской охотник» запретили выходить в море, но Грачёв со своим коллективом всё же рискнул переплыть пролив и выехал на сушу благополучно. БАВ отлично всходил носом на волну, все агрегаты работали бесперебойно, а система водоотлива успешно справлялась с откачкой воды, попадавшей в грузовой отсек и трюмы.
Коллектив ДАЗа праздновал заслуженную победу. Создателям ДАЗ-485 была присуждена Сталинская премия. Макарову была вручена очередная правительственная награда.
Днепропетровская амфибия не только не уступал американской DUKW-353, но и по многим параметрам превосходила ее. Днепропетровский БАВ имел гораздо более удачную компоновку, более вместительное грузовое отделение, откидывающийся задний борт, а главное – гораздо более совершенную, надёжную и эффективную систему подкачки шин.
ДАЗ был на подъеме и Макаров вместе с ним! Но в стране разворачивались еще более грандиозные события.
Глава IV. До войны с фашистской Германией зарождавшееся советское ракетостроение рухнуло под напором карьериста
1. Кто выиграет будущую войну – лошади или ракеты?
Человеческое сообщество всегда стремилось заглянуть в будущее. Провидцев всегда было много. Показательный пример – средневековый Нострадамус. Он был наделен даром разглядеть через туманную завесу будущие столетия. В одном из котренов (четверостиший) Нострадамус попытался изложить свое видение того, что может произойти в XX столетии, следующим образом:
Он станет живым воплощеньем террора
И более дерзким, чем сам Каннибал,
Ни что не сравнится с кровавым позором
Деяний, каких еще мир не видал.
Изучая это четверостишие, наши современники переругались. Одни были уверены, что в этом котрене говорится о Гитлере, другие – об испанском диктаторе Франко или о чилийском Пиночете. Либералы до сих пор заявляют о том, что Нострадамус предсказал появление на международной арене Сталина. Но с таким же рвением можно говорить о Чанкайши или о Мао Цзедуне. Одно неопровержимо – Нострадамус смог увидеть в далеком двадцатом столетии диктатора (на самом деле в этом веке их появилось более десяти), потому что досконально изучил человеческую сущность. Можно, пользуясь инструментом Нострадамуса, утверждать с такой же погрешностью, что в XXI веке появятся такие представители рода людского, кто вознамерится управлять своими соотечественниками диктаторскими способами.
Диктаторским способам нужны «орудия труда».
Пришло время обратиться к самому главному – к орудиям труда. В XIX веке во французской и немецкой прессе обсуждались принципы выхода из кризиса, который (по тогдашнему представлению) должен был бы обрушиться на жителей планеты Земля в XX столетии. Речь шла о военно-транспортном кризисе. Основное средство ведения войны в XIX веке было – мускульное, то есть кроме людей – лошади, верблюды, ослы и тому подобные животные.
По мнения предсказателей XIX века, для того, чтобы обеспечить человечество этими военными четвероногими мускульными средствами, необходимо было в XX веке, иметь более миллиарда лошадей, верблюдов, ослов….
Во внимание не принимались первые признаки новейшего научно-технического прогресса. Ведь уже тогда появились первые паровые машины и даже первые прообразы автомобилей. Электрические опыты открывали пути в неизведанные области различных сфер деятельности человечества.
Составители прогнозов, думая по старинке, вычислили, что в XX веке для всех сфер человеческой деятельности, но в первую очередь для военной, потребуется миллиард и даже более лошадей. Для того, чтобы прокормить миллиард лошадей и управлять ими, следовало бы засеять овсом в XX веке все территории Британской и Российской империи, а также Китая, США, Бразилии, Индии и других стран. Чтобы обеспечить управление миллиардами «саврасок», более половины трудоспособного населения Земли должна была бы в XX веке выращивать овес, разводить табуны лошадей, работать конюхами, кучерами, смотрителями конных станций, уборщиками улиц от лошадиного помета, в котором утонули бы города и села. А если к лошадям прибавить верблюдов и ослов, то Земной шар утонул бы и в их испражнениях.
Прогнозисты потрудились добросовестно. Именно они заставили человечество понять, что лошади и их коллеги могут довести его до абсурда. На высказывания прогнозистов откликнулись ученые и инженеры, начавшие изобретать транспортные механизмы перемещения. Но в первую очередь для вооруженных сил!
XX век вступил в свои права еще под лошадиным знаменем. Кавалерия играла существенную роль в первой мировой бойне. И также в России и в гражданскую войну. И артиллерия тех лет не обходилась без лошадей. Кто же сможет вытаскивать орудия из грязи, как не лошадки. Но немцы первыми задумались о модернизации армии. Тому были веские причины.
Первая мировая война закончилась поражением Германии. В 1919 году был подписан в Версале между Англией, Францией, Италией, Японией и поверженной Германией мирный договор. В его пятом разделе победители продиктовали немцам (книга JULIUS MADER, «GEHEIMNIS HUNTSVILLE. DIE WAHRE KARRIERE DES RAKETENBARONS VERNHER VON BRAUN», DEUTSCHER MILITARVERLAG, BERLIN, 1963) самое неприятное – артиллерия рейхсвера должна быть ограничена с 31 марта 1920 года не более чем десятью дивизиями.
Немцы могли бы смириться с таким диктатом, если бы это были полноценные дивизии. Но творцы Версальского договора пошли дальше. Они заставили побежденных подписать и следующее: артиллерия рейхсвера не могла иметь более 204 полевых орудий калибра 77 миллиметров и 84 полевых гаубиц калибра 105 миллиметров. Было ограничено и число снарядов – по тысячи на каждое полевое орудие и по восемьсот на каждую гаубицу.
С такой огневой мощью предпринимать меры для возрождения прежнего германского величия, конечно, было абсурдным. Но хотелось! Мечталось покорить весь мир. Стать его хозяевами. Об этом же мечтали и англичане, и американцы. И французы, и японцы. В СССР тоже мечтали иметь сильную армию. Но как это сделать?
В то время по донским, кубанским и украинским степям разъезжали бравые казаки. Им не уступали разудалые селяне во главе с батькой Махно на тачанках с пулеметами, запряженных лошадьми. В Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке орудовали белые кавалерийские дивизии. Врагов революции крушили конницы Буденного и Дыбенко.
В это время в Германии жесткие договорные ограничения заставили германский генералитет искать лазейки, чтобы «волки» Антанты были довольны выполнением Версальского договора и германские «овечки» не потеряли бы боеспособность.
Германские генералы постарались напрячь мозговые извилины и это у них получилось. Было принято замечательное толкование (книг А.С. Орлова, «Секретное оружие третьего рейха», Москва, издательство «Наука», 1975 г.) той части текста Версальского договора, что касалась производства, хранения, применения боеприпасов. Эту часть немцы восприняли, конечно, только со своих, немецких позиций.
Итак, статья 166 Версальского договора, запретившая германскому правительству иметь «какие либо запасы, склады или резервы боеприпасов», не относилась, по мнению немецких генералов, к ракетам, так как ракеты не являются боеприпасами в прямом смысле этого слова. Следовательно, возможно и необходимо развивать, не нарушая договора, исследования, экспериментирования, отработки и, в конечном счете, серийное производство ракет!
Какая разница в мышлении у выигравших и проигравших! Победители думали о сегодняшнем дне. Им, упоенным разгромом противника, недосуг было поразмыслить о будущем. Через четверть века этот просчет им аукнется.
В германской Веймарской республике министр рейхсвера издал в 1929 году секретный приказ, согласно которому при Управлении вооружений была создана рабочая группа по жидкостно-реактивным ракетам. Ее возглавил инженер-машиностроитель капитан Вальтер Роберт Дорнбергер. С этим именем в дальнейшем будут связаны все усилия Германии по созданию новейшего секретного «чудо – оружия».
Дорнбергер сразу же привлек к разработке ракет известного теоретика, энтузиаста будущих ракетных полетов в космос Германа Оберта и его коллег-экспериментаторов с ракетами Рудольфа Небеля и Клауса Риделя. Десяток лет они уже посвятили разработке основ ракетных двигателей.
Капитан Дорнбергер поставил перед ними конкретную задачу, как того требовал министр (книга Юлиуса Мадера «Тайна Хатсвилла», Берлин, 1963 год):