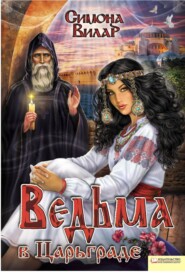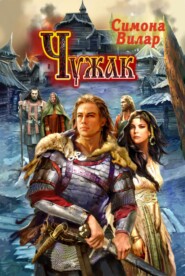По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Огненный омут
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, Осмунд, нет, – зашептала она, когда боль на минуту отпустила. – Ты доставишь меня к епископу Франкону, а затем отправишься за Сезинандой. Но больше не смей говорить никому ни слова. Я приказываю – никому!
Она так спокойно вышла из носилок и поднялась на крыльцо покоев епископа, что никто ничего не заподозрил. Франкон встал от стола, где он трапезничал в компании Гунхарда, и взглянул на Эмму, вытирая блестевшие жирные губы.
– Рад приветствовать вас, дитя мое…
Он еле успел подхватить ее. Все тотчас понял.
– Гунхард, проследи, чтобы никого не было на переходе в баптистерий[18 - Баптистерий – расположенное отдельно от других церковное сооружение круглой или восьмиугольной формы. Предназначалось для обряда крещения.]. И позови повитуху, которую мы поселили во флигеле.
Сезинанда явилась недовольной. Она только покормила ребенка и собиралась ложиться спасть, когда явился Осмунд с приказом от Эммы поспешить во дворец епископа. Сезинанде уже поведали о ссоре на пиру между супругами и о том, что рассерженная Эмма покинула дворец. И теперь женщина считала, что вызов Эммы просто является одной из очередных прихотей подруги.
Однако когда ее провели в пустой баптистерий и она увидела, как Эмма, словно простая вилланка, мечется на разостланных шкурах, она переменилась в лице.
Возле роженицы уже хлопотала повитуха, прямо за колонной на плитах развели костер, на котором в котле грели воду. Епископ Франкон бродил вкруг бассейна под куполом баптистерия, бормоча молитвы. Приор Гунхард колол коленья на щепы, подбрасывал их в огонь.
У Сезинанды все похолодело внутри. Женщина поняла, они хотят, чтобы рождение наследника Ролло прошло втайне. Поняла и то, чем это грозит в случае, если с Эммой или ребенком что-то случится. И ей вдруг ужасно захотелось вернуться домой, сославшись на то, что необходимо быть со своими детьми. Но вместо этого она стала помогать повитухе раскладывать на ларчике чистое полотно.
– Воды уже отошли?
– Только что, – ответила женщина. Она казалась опытной и немногословной. Сезинанде и в голову не приходило, что эти попы так предусмотрительны и заранее подберут повитуху.
У Эммы вновь начались схватки. Она шумно задышала, вцепившись в шкуру. Но не издала ни звука.
– Я здесь, Птичка, – присела в изголовье Эммы Сезинанда, приподняла ее за плечи. – Все будет хорошо. Я помогу тебе.
– Сезинанда… – Эмма перевела дыхание. Добавила, словно извиняясь: – А мы-то с тобой думали – моя дочь родится в конце сентября.
– Ничего страшного, Птичка, – успокаивала ее Сезинанда. – Немного ранее, чем должно, но все будет нормально. У меня вот второй сын раньше срока появился, а вон какой крепыш.
Она говорила это, чтобы отвлечь Эмму и унять свой страх. Чувствовала, как Эмма сжалась, напряглась в ее руках. Кусала губы, задыхалась. Сезинанда удивилась ее терпению. Сама-то она, когда пришло ее время, всполошила криками всю округу.
В полночь Гунхард пошел провести службу в соборе при аббатстве. Монахи удивленно приглядывались, когда он замирал во время чтения Библии, стоял, словно думая о чем-то своем или прислушиваясь. Службу провел кое-как. Прошел мимо запретных темных покоев, где, как всех известили, осталась ночевать Эмма, и, захватив все положенное для крещения, под сенью колоннады скользнул в баптистерий.
Ночь выдалась темная, ветреная. Деревья в саду возле резиденции епископа шумели ветвями и роняли первые умершие листья. Когда ветер стихал, был слышен гомон из дворца Ролло за рекой, где пиршество было в самом разгаре.
У дверей в баптистерий Гунхард застал встревоженного Осмунда.
– Почему так тихо? – заволновался Гунхард, но мальчик лишь трясся да пожимал плечами. Ему уже мерещилось наказание от Ролло. И он то молился, то доставал амулет Тора на ремешке и подносил его к губам, как подносят крест. Если госпожа Эмма умрет… Осмунд знал, что сам стоил жизни матери, и панически боялся тихой возни, что доносилась из дверей баптистерия.
Под утро, когда разразилась гроза, Эмма уже не могла сдерживаться. Франкон стоял над ней с распятием, тихо молился. Эмма порой впадала в забытье, из которого тут же выходила, и глаза ее напряженно и безумно блестели, когда она извивалась в новой схватке.
– Я так устала, – шептала она распухшими губами. Ее лицо, покрытое испариной, блестело в свете костра. – Позовите Ролло, – вдруг стала молить она.
Франкон заломил руки. Ему стало казаться, что она умирает. Повитуха же была спокойна.
– Дитя уже опустилось. Скоро все закончится.
Над их головой раздался оглушительный раскат грома. Франкон в страхе крестился.
Гром разбудил и устало задремавшего у дверей Осмунда. Он вскочил, не сразу поняв, где находится. Над головой нависал полукруглый свод арки, в сереющем сумраке рассвета с небес с грохотом низвергались на каменные ступени потоки воды. И вот сквозь этот шум Осмунд вдруг различил за створками дверей негромкий детский плач. Он даже не сразу поверил в это. Приоткрыл дверь. Увидел блики костра на своде, тени суетящихся фигур и… Да, он не ошибся, жалобно и упорно кричал ребенок.
И тогда Осмунд вдруг пустился в пляс, скакал, крутился, посвистывал. Значит, все закончилось, значит, Ролло не спустит с него шкуру, значит, он снова сможет петь для госпожи Эммы.
Он едва не налетел на вышедшего из дверей Гунхарда. Затараторил, задавая вопросы, совсем забыв о своем страхе перед этим мрачным сухим священником. Да и Гунхард, хоть и выглядел усталым, был на удивление общителен.
– Свершилось. Мальчик. Сын. Здоровенный красный крикун. Епископ тотчас окрестил его, и теперь наследник Нормандии – христианин. Франкон спросил у матери, как его назвать, но она была так слаба и счастлива, что ничего не могла придумать, и сказала, чтобы Франкон сам дал имя мальчику. И теперь у нас есть Гийом, или Вильгельм на старофранкском, крещеный наследник Нормандии.
– А как госпожа Эмма? Все в порядке? Тогда надо оповестить конунга Ролло.
Гунхард словно очнулся.
– Позже, – сказал он, засовывая руки в широкие рукава сутаны. – Сейчас надо устроить Эмму и Гийома Нормандского в подобающем покое. И дать госпоже отдых. Она славно потрудилась, а ведь ей еще предстоит сообщить язычнику, что его дитя уже находится в лоне нашей святой матери Церкви.
Было уже далеко за полдень, когда епископ Франкон в нарядной шелковой ризе с вышитыми на груди и спине крестами, в сверкающей каменьями раздвоенной митре, вошел во дворец Ролло, важно опираясь на золоченый посох. Его сопровождала целая свита, и он держался с достоинством, ибо, несмотря, что слухи уже распространялись по его резиденции, Франкон ни единой душе не позволил бы опередить его столь счастливой вестью.
Конечно, епископ понимал, что правитель-язычник, узнав, что его сына окрестили, не сильно будет ликовать по этому поводу. Но, Боже правый, разве само событие не стоит того, чтобы простить и Франкона, и Эмму, и этого замечательного крещеного крикуна! Франкон очень рассчитывал на это. Роллону уже был тридцать один год, и он наконец-то заполучил своего законного наследника.
Во дворце после бурной ночи, развалившись кто где, повсюду спали викинги. Франкон со своей свитой важно прошествовал по переходам, переступая через их тела. Лодин Волчий Оскал грубо выругался, когда завершающий шествие дьячок наступил ему на кисть руки, проснулся и вытаращился на шествующих по проходу священников.
– Клянусь Локи! С чего бы это попам водить здесь хороводы?
У Ролло болела голова с похмелья. Вчера, чтобы забыть ссору с женой, он явно перепил медовухи. Не помнил, как и добрался в опочивальню. Его хватило лишь на то, чтобы скинуть тунику и один сапог. Сердито ударил по подушке, где было место Эммы.
– Ушла-таки. К своим священникам. Ладно, никуда ты не денешься, злая, упрямая девчонка.
Сейчас, утром, он размышлял, как задобрить Эмму. Она была не права, но и ему бы следовало предупредить ее заранее, чтобы весть о союзе с Рагнаром и Снэфрид не застала ее врасплох.
Ролло ударил в медный диск. Явились рабы-прислужники. Один из них все же стащил с полусонного правителя оставшийся сапог. Другой услужливо поднес кружку с холодным сидром.
Когда открылась дверь и перед ним во всем блеске парадного облачения предстал епископ Франкон, окруженный свитой монахов, нотариев, дьячков, у Ролло удивленно поползли вверх брови. Он с любопытством уставился на распевающих псалмы монахов. Стал пить сидр, наблюдая за ними поверх кружки.
– Ну что, моя раскрасавица Эмма опять послала тебя, поп, улаживать наши противоречия? Взяла в обычай – чуть что искать укрытия в резиденции на острове.
У Франкона было сияющее лицо.
– Да будет благословлен этот день, и ты запомнишь его навсегда, Роллон Нормандский. Ибо сегодня, за три дня до празднования Рождества Богородицы[19 - Праздник Рождества Богородицы – 8 сентября.], супруга твоя, Эмма Робертинка, графиня Байе, родила на свет Божий дитя мужского пола, нареченного франкским именем Гийом.
Ролло так и не донес до рта кружку, а лишь смотрел на Франкона, который, не останавливаясь, продолжал рассказывать, что дитя родилось под утро, и из-за сильного ливня он не смог сразу послать известие, а позже не мог отказать себе в удовольствии…
Франкон невольно втянул голову в плечи, когда Ролло одним прыжком оказался подле него и тряхнул его за ворот.
– Где они?
Едва получив ответ, он, как был, полуголый и босой, выскочил из опочивальни, во дворе вырвал из рук охранника повод лошади, и понесся, как безумный, в сторону ведущего на остров моста.
В это время Эмма, уже умытая и причесанная, сидела на постели, с нежным любопытством изучая крошечное существо, завернутое в такое длинное покрывало, что его хватило бы и взрослому.
– Гийом, – говорила она, любуясь этим крохотным носиком, зажмуренными глазками, толстыми щеками. – Гийом… мой мальчик! О, Сезинанда, как он прекрасен! Я никогда не думала, что рожу столь восхитительного сына.