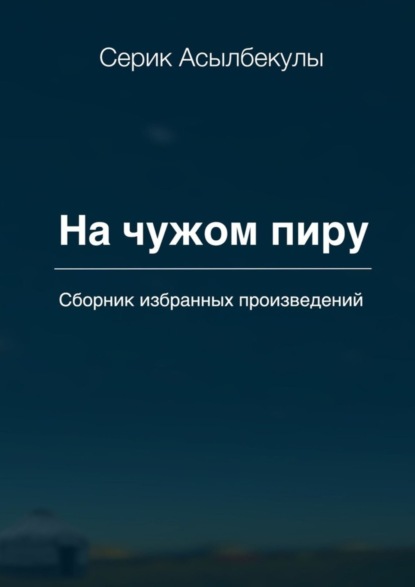По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На чужом пиру
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Казантай, изобразив крайне удрученный вид, покачал головой.
– Эх, дяюшка, сдается мне, что вы-таки ничего не пожертвовали.
И старик, и Корганбек невольно рассмеялись.
– Э, да у тебя, гляжу, негодника язык-то с подвохом, – отметил Ускенбай, явно не скрывая, что доволен племянником.
– Эх, голубчики вы мои, разное пришлось пережить, да всего уж не упомнишь…
– Дядюшка, а что значит прозвище Желтый самовар – Рыжий Садык, – спросил Казантай, вновь разливая водку в две пиалы.
– А то, что народ наш горазд на всяки прозвища. Покойный Садык был отчаянным чаелюбом. В доме его стоял специально купленный на базаре в акмечети большущий самовар. Я такого самоварища больше нигде не видывал. Отсюда и прозвище – Желтый самовар. Да и сам Садык по тем временам был рыжим, что спелая тыква. Нам он приходился жезде. Человеком он слыл радушным, широкой души. Пошучивали мы порой над ним. Спрошу, бывало: «Ау, жезде! Этот желтый самовар у вас постоянно кипит. Прямо жаль беднягу». А он мне: «Эй, недотепа! В словах твоих нет ни капли разума, иначе не стал бы ты мучиться из-за кипящей божьей воды, как не мучился, отдавая мне в жены свою сестру!». А сам хохочет. В шутках он никому спуску не давал. И вообще, скажу я тебе, народная молва – сокровищница слова. И Сары Кулмамбетияра позже прозвали Еркесары – Рыжий баловень. Когда угостились мы тем барашком, что бедняга Тинали зарезал в знак прощения своего, и стояли во дворе, кто покуривал, кто поплевыл да поковыривал в зубах, аксакал Молыбай вдруг усмехнулся про себя. «Чему вы смеетесь, Молдеке?» – спросили мы.
«Смеюсь я поступку этого негодника Сары, – отвечает. – В прежние времена народ оказывал почести и дарил чапан победителю, а у него все наоборот вышло. А потому, скажу я вам, не прост наш Сары. Не зря ведь его дальний предок Жанболай – батыр. Сердце у него храброе – как бы то ни было, хоть и слукавил, но победу-то он празднует, а не Тинали. Раньше я звал его про себя Жамансары, теперь же беру это прозвище обратно. А вы отныне зовите его Еркесары!..».
С той поры народ стал звать сына Кулмамбетияра Еркесары.
– Да, многого мы порой не замечаем вокруг… – покачал головой Казантай. – Признаться, я о старушке впервые слышу.
– Потому и говорят в народе: «Дольше проживешь, больше узнаешь», – ответил старик.
– Усеке. Еще кое-что о Еркесары хочу вас спросить. В нашем ауле много рыжих. В чем тут, по-вашему, причина, – спросил Казантай в надежде на новый рассказ.
Старик неторопливо потянулся к туго набитой табакерке, подхватил щепотку буро-зеленого насвая, заложил за губу и на минуту задумался.
– Тоже найдешь о чем спросить, – ответил он, подетски невинно улыбаясь морщинистым лицом. – Дальние предки наши Есмамбет и Жанболат, говорят, оба были рыжими. Мы же от них свой род ведем, потому, верно, и рыжие.
– И в самом деле. Вот тебе и разгадка, – удивившись своей недогадливости, произнес Казантай. – А ты, Корганбек, как думаешь?
Корганбек лишь улыбнулся на это, не ответив. Старик перевел испытывающий взгляд белесых глаз на гостя.
– Свет мой, ученье ли в городе тебя утомило? Лицо у тебя усталое, молчишь все. Слышал от аулчан наших, что в газеты ты пишешь. Рассказал бы чего.
– Да они, дядюшка, в отличие от нас, много не говорят. Все больше других слушают, а потом быстренько печатают услышанное от своего имени в газетах, – подковырнул Казантай.
Корганбек смущенно заерзал. Но что толкового может он им рассказать – повидавшему многое и умудренному рыжему старику и своему бывшему однокласснику, который, хотя и не пишет в газеты, но живя среди народа, поднаторел и в разговорах, и в рассказах. Да и доверится ему на слово в чем-либо Казантай, поверит ли Усеке?
– Уважаемый, а каковы нынче всходы? – спросил Корганбек, которому молчать дольше было уже неловко.
– О всходах и не спрашивай… – Усеке с досадой сплюнул насвай, сполоснул рот из стоящего рядом тонкошеего кумгана. – С тех пор, как стала мелеть река, ушла отсюда и благодать. Рис стал бедой нашей, выпивая воду, которой и без того мало. Летом вода реки, для вас ложь, для меня – сущая правда, загнивает. Ибо нет течения. Немного ниже, в селения, появилась эпидемия желтухи. Умирают некоторые. И все это из-за гнилой воды – доктора так говорят. С тех пор, как стал мелеть Арал, здесь перестали собираться тучи. Еще май не завершился, а трава на холмах и на побережье уже пожелтела, высохла. Влаги нет. В июне, как ветер поднимается, вся степь покрывается пылью. У этого народа есть дети на руководящих постах. Но, то ли сказать толково не могут – вот загадка. И рис – один из источников благ наших, кто ж этого не знает, перестал быть для нас благом, обернувшись бедой для земли нашей, сынок.
Старик закончил, и все трое погрузились в молчание. Ленивое весеннее солнце склонилось с зенита к западу. Время за польден.
– Ну, теперь, если разрешите, дядюшка, мы тронемся, – произнес Казантай с легким вздохом. – На вечер пригласил к себе друзей и сослуживцев, чтоб они с Корганбеком встретились. Времени уже немало.
Ускенбай, сложив раскрытые ладони, благословил их.
– Разрешение – от Аллаха, дорогие мои. От меня лишь доброе напутствие, – произнес он. – Повидав вас, и я изрядно воспрял духом. Сын Катепа, ты сказал не давно: «Племянник – не родня, жилы – не еда». А я тебе скажу: «Почему бы племяннику не быть родней, если он стоящий человек, почему бы жилам не быть едой, если на них есть мясо». Вон пасутся около трех десятков овец и коз. Это и есть моя скотина. Возьми любую из них, положи к себе в машину. Дома угостишь мать свежим бульоном. И сын Айдеке, гость твоего дома, пусть отведает. Видишь сам, дома старухи нет, иначе попотчевали бы вас, как положено. А вы не забывайте, вспоминайте порой, что живет здесь старичок такой вредный, если удастся, то и заглядывайте.
Казантай покраснел от смущения.
– Ойбай! Не нужно овцы, дядюшка, – сказал он суетясь. – Это нам следует привозить вам, а брать у вас стыдно. Спасибо за радушие! Если придется в следующий раз проезжать мимо, то непременно загляну к вам. А этот ваш зять далековато все-таки живет.
– Ну, будьте здоровы в любых краях. – Старик поднялся с места, отряхивая полы чекменя. – Предложил взять овцу, не взяли, тогда уж довольствуйтесь тем, что было. А мои помыслы чисты, и к пустословию я не привык.
Распрощавшись, джигиты сели в машину. В это время снова раздался голос старика.
– Эй, Казантай, если твои мышеловы поедут в нашу сторону, передай и для нас отравы. Говорят, если кулан свалится в колодец, то лягушка прыгает по его ушам. Так и здесь, в ауле, стало полно мышей, житья от них нет. Не забудь моей просьбы.
– Хорошо, дядюшка, не забуду, – ответил Казантай, высунув голову в дверное оконце. – Ну, будьте здоровы…
Машина легко сорвалась с места. Старик постоял еще, провожая их взглядом и повернулся к дому.
– Молодец, старик! —покачал головой Казантай, отъехав от аула. – Рассказывает – заслушаешься. Да и крепок все еще. Эх, дома два мешка картошки лежат, надо было перед поездкой положить один в машину. Для них картошка – редкая пища.
Корганбек задумался. «Кто знает, может быть, для существования и нужен мешок картошки. Но этого старика одним лишь добром не удовлетворишь. Широкодушен старик и помыслы его, и надежды широки». И тоска по отчей земле и нежелание расставаться с ней, распирают Корганбека как Сырдарью в пору ледохода, и оттого побаливает сердце.
Вокруг царит покой и тишина. Лишь в открытые створки окна машины врывается неугомонный ветер. Бескрайняя степь, прижавшая к своей груди кудрявые барханы и обширные ложбины, лежит с опущенной головой, словно ребенок, обидевшийся на родителей.
На чужом пиру
Култай, опираясь на локти, растянулся на самой макушке ковыльного холма, возвышающевося посреди раздольной равнины. Время от времени, вытянув шею, юноша внимательно оглядывает рассыпавшуюся по степи отару. Часть овец уже ушла далеко до самой возвышенности Коспактюбе, туда, где темнеют ее верблюжьи очертания. Правда, неудержимо стремительные с утра овцы, утолив первый голод сочной, не тронутой копытами травой, теперь уже не двигались, а жадно паслись на одном месте.
«Пусть себе пасутся…» – Култай не спешил заворачивать отару.
У подножья холма пощипывал траву гнедой мерин под седлом. Судя по тому, что хозяин даже не спутал коню ноги, нрав у него должно быть смирный и покорный. С восходом солнца гнедой не успевал отмахиваться от донимавших его серых большеголовых слепней величиной с добрых жуков.
Позднее утро. Рябоватое июльское солнце, поднявшись над землей, повисло над гребнями белесых барханов и наполнило сонным теплом эти безлюдные пески. Вдали у кромки горизонта, как пенка добротного катыка, подрагивало легкое марево. Там и сям торчали редкие кусты саксаула. Среди выжженной суховеем и зноем травы ярко зеленел единственный куст тамариска. На его веточке уже давно сидела крохотная синичка, видимо, свившая гнездышко в густой тени. Издалека, со стороны железнодорожного разъезда, донесся лязг вздрогнувшего тяжелого грузового состава.
Култай, с непонятной ему самому грустью, захлопнул толстую книгу с истертой обложкой. Перестук тяжелого состава стал постепенно слабеть и гаснуть. Вскоре за горизонтом исчез и сам поезд, оставив после себя лишь облачко дыма, лохматое, как клок овечьей шерсти.
Култай ощутил себя совсем одиноким. Он привык провожать взглядом идущие мимо поезда. И этот удаляющийся состав тоже пронзил его сердце щемящей грустью.
В школьные годы Култай всегда с нетерпением ждал того момента, когда надо было возвращаться из надоевшего интерната в далекий чабанский аул. Особенно с приближением летних каникул сон покидал его, он тосковал по простору, усеянному весенними цветами, торопил минуты и худел прямо на глазах. Стоило ему вспомнить темные юрты, дремлющие под лунным небом, кисловатый запах овечьего пота и залежалого навоза, которым надолго наполнялся воздух после самого легкого дуновения со стороны отары, с хрустом и чмоканьем жующей свою жвачку, как мальчишеское сердце начинало бешено колотиться, словно ему становилось тесно в груди. И потом, уже после возвращения в аул, в Култае долго не гас этот огонь ожидания, и он ходил как в полусне, не в силах поверить в наступление этих счастливых и пьянящих дней.
На следующий же день после возвращения Култай нахлобучивал до самых ушей старую измятую киргизскую шапку отца и уходил с отарой. Только за одно это уже мальчик был несказанно благодарен своей судьбе.
Удивительно, но в ту пору Култай совершенно не ведал чувства одиночества или тоски, как это происходит теперь.
Глазастый, смуглый мальчонка всегда умел найти себя в безлюдной степи какую-нибудь забаву. Особенно любил он, завернув немного в сторону отару, ходить вдоль железнодорожного полотна, вытянувшегося по просторной степи, сияя рельсами, как двумя туго натянутыми струнами домбры.
«Наверное, нет в мире людей богаче пассажиров. Небось, и едят самые лучшие блюда, и курят самый лучший табак, – думал мальчик, с любопытством разглядывая щедро рассыпанные по обочине яркие консервные банки, блестящие коробки из-под конфет и сигарет. – Иначе откуда бы взяться у них таким чудесным вещам».
Жалко было выбрасывать эти разноцветные коробки, и Култай подолгу разгядывал их со всех сторон. Тщательно изучал он каждую надпись. Болгария, Венгрия… а на банках даже встречалось название далекой и сказочной страны Индии, где царит вечное лето.
«Удивително, как они сумели собрать вещи со всего света. Точно, в поездках ездят самые богатые и щедрые люди». Откуда было степному мальчонке знать о всемогуществе экспорта и импорта… Чего только он здесь не находил. Даже деньги один раз нашел. Шел он как-то по обочине, и вдруг увидел красневшую под кустиком десятирублевку. Вначале мальчик не поверил своим глазам. Такой необычной находки у него ни разу прежде не случалось. В тот день Култай еле дождался вечера. И пригнав отару в аул, радуясь так, словно обнаружил кусок золота с лошадиную голову, торжественно вручил матери свою необычную находку. Гордость так и распирала его.
– Душа моя, что же это? – ничего не поняла сначала мать. – Где же взял ты ее?