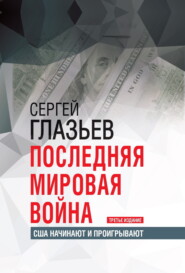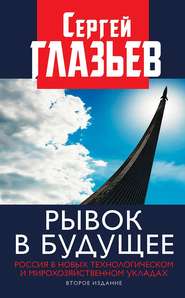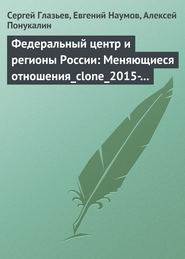По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Экономика будущего. Есть ли у России шанс?
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В свою очередь, развитие производительных сил в ходе жизненного цикла третьего и четвертого технологических укладов сопровождалось кардинальным повышением роли науки и профессиональных знаний в организации производства. Соответственно возрастала роль человеческого фактора в процессе воспроизводства и накопления капитала. Со второй половины прошлого века инвестиции в воспроизводство человеческой составляющей капитала (расходы на образование и здравоохранение) в передовых экономиках стали превышать инвестиции в воспроизводство его материальной составляющей (здания, сооружения, машины и оборудование). Возникли институты социального государства, которые обеспечивали основную часть расходов на расширенное воспроизводство человеческого капитала за счет соответственно возросшего налогообложения доходов. Таким образом, логика развития и смены технологических укладов оказывала влияние на формирование институтов и эволюцию мирохозяйственных укладов.
Имперский мирохозяйственный уклад принимает зрелые формы после Второй мировой войны. Рушатся все основанные на разделении граждан на полноценных и ущербных социальные системы. Вслед за фашизмом прекращают существование колониальные империи европейских стран. В СССР осуществляется переход к отношениям развитого социализма, исключающим насильственное принуждение к труду и признающим социальные права и свободы всех граждан. Соревнование капиталистической и социалистической систем сопровождалось развитием всеобщего образования, повышением значения творческого и интеллектуального труда, вовлечением трудящихся в управление производством и обществом, демократизацией политических систем.
Для целей настоящего исследования особое значение имеет анализ переходного процесса смены мирохозяйственных укладов. Переход от колониальных империй европейских стран к американским глобальным корпорациям в качестве ведущей формы организации мировой экономики происходил посредством развязывания двух горячих и третьей холодной мировых войн, исход которых всякий раз сопровождался кардинальными изменениями мирового политического устройства. В результате Первой мировой войны рухнул монархический строй, сдерживавший экспансию национального капитала. В результате Второй – развалились колониальные империи, ограничивавшие международное движение капитала. С крахом СССР вследствие Третьей «холодной» мировой войны свободное движение капитала охватило всю планету.
Но на этом история не заканчивается. Вопреки популярному мнению Фукуямы о конце истории[118 - Francis Fukuyama. The End of History and the Last Man. Free Press, 1992.], гегемония США подрывается неразрешимыми в рамках существующей системы институтов воспроизводства капитала внутренними противоречиями. Теоретически можно предположить, что они и дальше будут разрешаться за счет притока капитала извне. США могут развязывать все новые войны с целью списания своих долгов и присвоения чужих активов. Но центр роста мировой экономики уже переместился в Восточную и Южную Азию.
В настоящее время происходит переход к новому мирохозяйственному укладу. Его расширенное воспроизводство обеспечивается мощными институциональными системами коммунистического Китая и демократической Индии, которые надежно защищают свои национальные экономики от поглощения вчерашними колонизаторами. В отличие от институциональной системы США, ориентированной на обслуживание интересов финансовой олигархии, паразитирующей на эмиссии доллара как мировой валюты, институциональные системы Китая, Индии, Японии, Кореи, Вьетнама, Малайзии, Сингапура, Ирана и других стран формирующегося на наших глазах нового центра развития ориентированы на обеспечение общественных интересов в социально-экономическом развитии. Они нацелены на гармонизацию интересов различных социальных групп, выстраивание партнерских отношений между бизнесом и государством ради достижения общественно значимых целей. Экспансия денежного капитала ограничивается национальными и международными нормами, которые защищают общественные интересы и подчиняют им регулирование процессов воспроизводства капитала. Созданные в период имперского мирохозяйственного уклада институты международного права приобретают фундаментальное значение.
Современное развитие производительных сил требует новых производственных отношений и институтов организации глобальной экономики, которые позволили бы обеспечить устойчивое развитие и отражение планетарных угроз, включая экологические и космические. В условиях либеральной глобализации, выстроенной под интересы транснациональных, в основном англо-американских корпораций, эти вызовы существованию человечества остаются без ответа. Более того, сверхконцентрация капитала и глобального влияния в руках нескольких сотен семей в отсутствие механизмов демократического контроля создает угрозу становления глобальной диктатуры в интересах обеспечения господства мировой олигархии за счет угнетения всего человечества. Тем самым возрастают риски злоупотреблений глобальной властью, чреватые уничтожением целых народов и катастрофами планетарного масштаба. Объективно возникающая необходимость обуздания мировой олигархии и упорядочивания движения мирового капитала достигается в восточно-азиатской модели организации современной экономики. С подъемом Китая, Индии и Вьетнама вслед за Японией и Кореей все более явственно просматриваются контуры перехода к новому мирохозяйственному укладу с совершенно иной, соответствующей интересам устойчивого и гармоничного развития человечества системой институтов, открывающей дорогу новому вековому циклу накопления капитала.
Глава 2. От имперского к интегральному мирохозяйственному укладу
Исчерпание потенциала роста доминирующего технологического уклада стало причиной глобального кризиса и депрессии, охватившей ведущие страны мира в последние годы[119 - С.Глазьев. О политике развития российской экономики. Доклад. – М., 2013.]. Переживаемая в настоящее время фаза родов нового технологического уклада на поверхности экономических явлений предстает как сочетание финансовой турбулентности, сопровождающейся образованием и схлопыванием финансовых пузырей, и экономической депрессии, характеризующейся снижением прибыльности и объемов привычных производств, падением доходов и цен, в том числе на основные энергоносители и конструкционные материалы, а также быстрым распространением принципиально новых технологий, находящихся на начальных фазах своего научно-производственного цикла.
Эпицентр кризисных процессов находится в ядре нынешнего мирохозяйственного уклада – в финансовой системе США. Первый толчок глобального финансового кризиса поразил его ключевые институты – крупнейшие в мире инвестиционные банки Lehman Brothers, JP Morgan Chase, Bear Stearns, Deutsche Bank, Credit Agricole, Barclays, Credit Suisse, BNP Paribas. Вслед за ними обрушились несущие конструкции государственных институтов, обеспечивавших воспроизводство капитала, – страховые и ипотечные агентства. И, хотя американская финансовая система устояла за счет резкого наращивания денежной эмиссии, ее диспропорции с тех пор лишь усилились: скачкообразно вырос государственный долг, продолжилось раздувание финансовых пузырей деривативов (Рис. 20).
Рис. 20. Крупнейшие (top-5 и top-25) американские финансовые холдинги – держатели деривативов: объем деривативов, активов (трлн. долл.) и их соотношение (разы)
(Источник: М.Ершов по данным Office of the Comptroller of the Currency. – Эксперт. – 2015, № 36)
Экспоненциальный рост американского долга (Рис. 21) свидетельствует о выходе американской финансовой системы за пределы устойчивости. Искусственно стимулируемого таким образом притока капиталов в американскую экономику уже не хватает для обслуживания лавинообразно нарастающих обязательств федерального правительства, расходы на которые приближаются к трети ВВП США.
Рис. 21. Динамика американского государственного долга
Параллельное наращивание эмиссии долларов свидетельствует о том, что она работает в режиме финансовой пирамиды: текущие обязательства обслуживаются за счет эмиссии новых. Этот режим вошел в фазу обострения, когда система теряет устойчивость и становится уязвимой к внешним и внутренним шокам. Все это свидетельствует о достижении пределов расширения Американского векового цикла накопления капитала и исчерпании возможностей экономического развития в рамках имперского мирохозяйственного уклада. Понимая это, властвующая элита США хватается за традиционную «соломинку»: чтобы нейтрализовать эти угрозы, она идет по пути дестабилизации и хаотизации стран-кредиторов, коллапс которых позволяет списать значительную часть американских обязательств и присвоить активы.
Теоретически США могут вернуться на траекторию устойчивого роста, если рост нового технологического уклада будет достаточно мощным, чтобы генерировать поток доходов, достаточный для обслуживания накопленных обязательств. Однако существующая система институтов, обеспечивая воспроизводство капитала в рамках сложившегося мирохозяйственного уклада, едва ли предоставит такую возможность. Слишком велики экономические, финансовые, социальные и технологические диспропорции.
Выход из нынешней депрессии будет сопровождаться масштабными геополитическими и экономическими изменениями. Как и в предыдущих случаях, страны-«чемпионы» демонстрируют неспособность к совместным кардинальным институциональным нововведениям, которые могли бы канализировать высвобождающийся капитал в структурную перестройку экономики на основе нового технологического уклада, продолжая воспроизводить сложившуюся институциональную систему и обслуживать воплощенные в ней экономические интересы.
Как указывалось выше, в настоящее время разворачивается структурная перестройка мировой экономики, связанная с ее переходом на новый технологический уклад, основанный на комплексе нано-, биоинженерных и информационно-коммуникационных технологий. Вскоре передовые страны выйдут на длинную волну его экономического роста. Падение цен на нефть является характерным признаком завершения периода родов нового технологического уклада и выхода его на экспоненциальную часть траектории роста за счет бурного распространения новых технологий, кардинально улучшающих ресурсоэффективность и снижающих энергоемкость производства. Именно в такие периоды глобальных технологических сдвигов у отстающих стран возникает возможность для экономического рывка к уровню передовых стран, пока последние сталкиваются с перенакоплением капитала в устаревших производственно-технологических комплексах.
Такой рывок совершают сегодня Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. За три последних десятилетия Китай добился впечатляющих успехов. Из глубокой периферии мировой экономики он шагнул в число лидеров, выйдя в 2014 году на первое место в мире по физическому объему ВВП и экспорту высокотехнологичной продукции. За три десятилетия объем ВВП вырос в Китае в 30 раз (c 300 млрд. долл. до 9 трлн. долл. по текущему курсу юаня к доллару), промышленного производства – в 40–50 раз, валютных резервов – в несколько сотен раз (с нескольких десятков млрд. долл. до 4 трлн. долл.). По уровню экономического развития, измеряемого показателем ВВП на душу населения, Китай поднялся с места в конце списка беднейших стран до места в первой тридцатке стран (среднего достатка)[120 - Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС. / Под. ред. В.Садовничего, Ю.Яковца, А.Акаева. – М.: МГУ – Международный институт Питирима Сорокина-Николая Кондратьева – ИНЭС – Национальный комитет по исследованию БРИКС – Институт Латинской Америки РАН. 2014.].
Китай становится мировым инженерно-технологическим центром. Доля китайских инженерно-технических и научных работников в их мировой численности достигла в 2007 году 20 %, удвоившись по сравнению с 2000-м годом. (1420 и 690 тыс. соответственно). К 2030 году, по прогнозам китайских ученых, в мире будет насчитываться 15 млн. инженерно-технических и научных работников, из которых 4,5 млн. человек (30 %) будут составлять ученые, инженеры и техники из КНР[121 - 2030 Чжунго: маньсянгунтунфуюй, С. 30.]. К 2030 году Китай по объему затрат на научно-технические разработки выйдет на 1-е место в мире, и его доля в объеме мировых затрат составит 25 %[122 - Указ. соч. В.Садовничего, Ю.Яковца, А.Акаева.].
После появления аббревиатуры «БРИК» в 2001 году объем ВВП этих стран увеличился более чем в 3 раза, на них пришлась треть прироста объема мирового производства. «Пятерка» (с присоединением Южно-Африканской Республики), занимая 29 % земной суши (без учета Антарктиды), имеет почти 43 % мирового населения. По доле в суммарном валовом продукте мира по ППС удельный вес БРИКС составляет почти 27 %, но по вкладу в прирост мирового продукта в 2012 году доля «пятерки» свыше 47 %.
Вместе страны БРИК занимают четверть мирового производства высокотехнологичной продукции с перспективой увеличения этой доли до 1/3 к 2020 году[123 - По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), 2013.]. Растут расходы на научные исследования и разработки, совокупный объем которых по странам БРИК приближается к 30 % от общемирового объема. Они уже обладают достаточной научной и производственно-технологической базой для совершения технологического рывка.
Одновременно с быстрым ростом ядра Азиатского цикла накопления ядро Американского относительно уменьшается. Этот процесс носит устойчивый характер и в перспективе продолжится (Табл. 3).
Табл. 3. Сопоставление ВВП ядра Американского и Азиатского циклов накопления капитала[124 - Данные ВВП сделаны по показателям паритета покупательной способности (ППС); расчеты за 1820–2000 гг. проведены А.Мэддисоном; расчеты за 2010–2030 гг. проведены китайскими учеными на основе расчетов А.Мэддисона.]
В отличие от стран ядра существующего мирохозяйственного уклада, навязавшего миру универсальную систему финансово-экономических отношений как основу либеральной глобализации, формирующееся ядро нового мирохозяйственного уклада отличается большим разнообразием. Это отличие проявляется и в общих ценностях БРИКС: свобода выбора путей развития, отрицание гегемонизма, суверенность исторических и культурных традиций. Иными словами, объединение «пятерых» представляет собой качественно новую модель сотрудничества, отдающую дань разнообразию в противовес униформизму либеральной глобализации, что одинаково приемлемо для стран, находящихся на разных стадиях экономического и социального развития.
Главными факторами сближения стран БРИКС являются:
• общее стремление партнеров по БРИКС реформировать устаревшую международную финансово-экономическую архитектуру, не учитывающую возросший экономический вес стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран[125 - Направления такой реформы могли бы охватывать вопросы формирования совместной платежной системы стран БРИКС с учетом планов по созданию национальной платежной системы; учреждения совместного многостороннего агентства по гарантированию инвестиций; разработки международных стандартов определения рейтингов и деятельности рейтинговых агентств; создания собственной глобальной системы международных расчетов; согласования правил действия национальных денежных властей.];
• твердая поддержка участниками объединения общепризнанных принципов и норм международного права, неприятие политики силового давления и ущемления суверенитета других государств;
• наличие у участников БРИКС схожих вызовов и проблем, связанных с потребностями масштабной модернизации экономики и социальной жизни;
• взаимодополняемость многих секторов экономики государств-участников[126 - См. Концепцию участия России в объединении БРИКС, утвержденную Президентом В.Путиным 21 марта 2013 г.].
Историческая миссия БРИКС как новой общности стран и цивилизаций – предложить новую, отвечающую потребностям устойчивого развития парадигму, которая принимала бы во внимание экологические, демографические и социальные лимиты развития, необходимость предотвращения экономических конфликтов[127 - Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС. / Под. ред. В.Садовничего, Ю.Яковца, А.Акаева. – М.: МГУ – Международный институт Питирима Сорокина-Николая Кондратьева – ИНЭС – Национальный комитет по исследованию БРИКС – Институт Латинской Америки РАН. 2014.]. Разделяемые странами БРИКС принципы международного устройства принципиально отличаются от характерных для предыдущих мирохозяйственных укладов, формировавшихся западноевропейской цивилизацией по признанию С. Хантингтона «не благодаря превосходству своих идей, нравственных ценностей, или религии (в которую было обращено население лишь немногих других цивилизаций), но скорее в результате превосходства в использовании организованного насилия»[128 - С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций. (англ. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order; 1996) (Указ. соч. – один из самых популярных геополитических трактатов 90-х. Возникшее из статьи в журнале Foreign Affairs, оно по-новому описывает политическую реальность и прогноз глобального развития всей земной цивилизации. Издание содержит знаменитую статью Ф. Фукуямы «Конец истории»).].
Формирование нового мирохозяйственного уклада ведется странами БРИКС на равноправной, взаимовыгодной и консенсусной основе. По этим принципам создаются региональные экономические объединения – ШОС, ЕАЭС, МЕРКОСУР, АСЕАН-Китай – и финансовые институты (Банк развития и пул валютных резервов БРИКС).
Для России наибольшее значение в выборе стратегии экономического развития имеет опыт Китая, который не только является крупнейшим соседом и лидером в формировании нового мирохозяйственного уклада, но и творчески использует достижения общего для двух стран опыта построения социализма. Китайский подход к построению рыночной экономики кардинально отличается от постсоветского своим прагматизмом и творческим отношением к реформам. В их основе лежат не догматические шаблоны, исходящие из идеологических и оторванных от реальности представлений о социально-экономических процессах, а практика управления хозяйством. Подобно инженерам, конструирующим новую машину, китайские руководители последовательно отрабатывают новые производственные отношения через решение конкретных задач, проведение экспериментов, отбор лучших решений. Терпеливо, шаг за шагом они строят свой рыночный социализм, постоянно совершенствуя систему государственного управления на основе отбора только тех институтов, которые работают на развитие экономики и повышение общественного благосостояния. Сохраняя «завоевания социализма», китайские коммунисты встраивают в систему государственного управления регуляторы рыночных отношений, дополняют государственные формы собственности частными и коллективными таким образом, чтобы добиваться повышения эффективности экономики в общенародных интересах.
Сами китайцы называют свою формацию социалистической, развивая при этом частное предпринимательство и выращивая капиталистические корпорации. Коммунистическое руководство Китая продолжает строительство социализма, избегая идеологических клише. Они предпочитают формулировать задачи в терминах народного благосостояния, ставя цели преодоления бедности и создания общества средней зажиточности, а в последующем – выхода на лидирующие позиции по уровню жизни. Они стараются избежать чрезмерного социального неравенства, сохраняя трудовую основу распределения национального дохода и ориентируя институты регулирования экономики на производственную деятельность и долгосрочные инвестиции в развитие производительных сил. В этом общая особенность стран, формирующих ядро нового мирохозяйственного уклада.
Возвышение Китая влечет реформирование мирового экономического порядка и международных отношений. Возрождение планирования социально-экономического развития и государственного регулирования основных параметров воспроизводства капитала, активная промышленная политика, контроль за трансграничными потоками капитала и валютные ограничения – все это может превратиться из запрещенного Вашингтонскими финансовыми организациями меню в общепринятые инструменты международных экономических отношений. В противовес Вашингтонскому ряд ученых заговорили о Пекинском консенсусе, который является куда более привлекательным для развивающихся стран, в которых проживает большинство человечества. Он основан на принципах недискриминации, взаимного уважения суверенитета и национальных интересов сотрудничающих государств, ориентируя их не на обслуживание международного капитала, а на подъем народного благосостояния. При этом может возникнуть новый режим защиты прав на интеллектуальную собственность и передачи технологий, могут быть приняты новые нормы международной торговли в сфере энергетики и ресурсов, новые правила международной миграции, заключены новые соглашения об ограничении вредных выбросов и т. д. Китайский подход к международной политике (отказ от вмешательства во внутренние дела, от военной интервенции, от торговых эмбарго) дает развивающимся странам реальную альтернативу выстраивания равноправных и взаимовыгодных отношений с другими государствами[129 - J.Ramo. The Beijing Consensus. London: The Foreign Policy Centre. May, 2004.]. Китай принципиально отвергает применение силы, а также использование санкций во внешней политике. Даже в своих отношениях с Тайванем Китай всегда делает упор на расширении экономического и культурного сотрудничества, в то время как тайваньские власти сопротивляются этому[130 - Беседа В. Попова с П. Дуткевичем из книги «22 идеи о том, как устроить мир (беседы с выдающимися учеными)». – М.: Издательство Московского университета, 2014 – С. 470–471.].
Апологеты американской гегемонии стараются не замечать ключевых элементов китайского подхода к реформам. Вместо того чтобы взять китайский опыт на вооружение, они придумывают «объективные объяснения» быстрого роста китайской экономики то иностранными инвестициями, то имитацией западных технологий, то перетоком дешевых трудовых ресурсов из отсталого сельского хозяйства в городскую промышленность. Китайские реформы иногда сравнивают с НЭПом, для которого тоже было характерно сочетание социалистических и капиталистических элементов, а также высокие темпы роста.
Все эти «объективные» объяснения высоких темпов роста китайской экономики ее изначальной отсталостью отчасти справедливы. Отчасти, потому что игнорируют главное – творческий подход китайского руководства к выстраиванию новой системы производственных отношений, которая по мере выхода китайской экономики на первое место в мире становится все более самодостаточной и привлекательной. На наших глазах формируется новая, более эффективная по сравнению с предыдущими, социально-экономическая система, центр мирового развития перемещается в Юго-Восточную Азию, что и позволяет ряду исследователей говорить о начале нового – Азиатского – векового цикла накопления капитала[131 - Giovanni Arrighi, The long twentieth century: money, power and the origins of our times. London: Verso, 1994.],[132 - А.Айвазов. Периодическая система мирового капиталистического развития. – Сайт автора. – 2012.].
Наряду с Китаем в формирование ядра нового мирохозяйственного уклада вовлечены Япония, Сингапур и Ю.Корея. Несмотря на существенные отличия от Китая по политическому устройству и механизмам регулирования экономики, между ними формируется множество устойчивых кооперационных связей, быстро растет взаимная торговля и инвестиции.
К формирующемуся ядру нового мирохозяйственного уклада подтягиваются как близлежащие страны – Россия, Индия, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, так и Бразилия, Венесуэла, Куба и другие страны Латинской Америки. Усиливается притяжение к нему стран африканского континента. В совокупности экономическая мощь этих стран уже сопоставима со странами ядра Американского цикла накопления. Есть у них и общий элемент, который может сыграть роль своего рода тоннеля для перемещения капитала из одного цикла в другой – Япония, обладающая мощной банковской системой.
Вне зависимости от доминирующей формы собственности – государственной, как в Китае или во Вьетнаме, или частной, как в Японии или Корее, для нового мирохозяйственного уклада Азиатского векового цикла накопления характерно сочетание институтов государственного планирования и рыночной самоорганизации, государственного контроля над основными параметрами воспроизводства экономики и свободного предпринимательства, идеологии общего блага и частной инициативы. При этом формы политического устройства могут принципиально отличаться – от самой большой в мире индийской демократии до крупнейшей в мире коммунистической партии Китая. Неизменным остается приоритет общенародных интересов над частными, который выражается в жестких механизмах личной ответственности граждан за добросовестное поведение, четкое исполнение своих обязанностей, соблюдение законов, служение общенациональным целям. Причем формы общественного контроля могут тоже принципиально отличаться – от харакири руководителей обанкротившихся банков в Японии до исключительной меры наказания проворовавшихся чиновников в Китае. Система управления социально-экономическим развитием строится на механизмах личной ответственности за повышение благополучия общества. Примат общественных интересов над частными выражается в характерной для нового мирохозяйственного уклада институциональной структуре регулирования экономики. Прежде всего – в государственном контроле над основными параметрами воспроизводства капитала посредством механизмов планирования, кредитования, субсидирования, ценообразования и регулирования базовых условий предпринимательской деятельности. Государство при этом не столько приказывает, сколько выполняет роль модератора, формируя механизмы социального партнерства и взаимодействия между основными социальными группами. Чиновники не пытаются руководить предпринимателями, а организуют совместную работу делового, научного, инженерного сообществ для формирования общих целей развития и выработки методов их достижения. В свою очередь, предприниматели вписывают мотив максимизации прибыли и обогащения в этические нормы, защищающие интересы общества. Расширяется использование институтов предпринимательской деятельности, ориентированных не на максимизацию прибыли, а на социально значимый результат – некоммерческих организаций, институтов развития, исламского и православного банкинга. При управлении денежными потоками принимаются во внимание этические нормы и вводятся ограничения против финансирования преступной и аморальной деятельности. На это настраиваются и механизмы государственного регулирования экономики.
Государство обеспечивает предоставление долгосрочного и дешевого кредита, а бизнесмены гарантируют его целевое использование в конкретных инвестиционных проектах для развития производства. Государство обеспечивает доступ к инфраструктуре и услугам естественных монополий по низким ценам, а предприятия отвечают за производство конкурентоспособной продукции. В целях повышения её качества государство организует и финансирует проведение необходимых НИОКР, образование и подготовку кадров, а предприниматели реализуют инновации и осуществляют инвестиции в новые технологии. Частно-государственное партнерство подчинено общественным интересам развития экономики, повышения народного благосостояния, улучшения качества жизни. Соответственно, меняется и идеология международного сотрудничества – парадигма либеральной глобализации в интересах частного капитала ведущих стран мира сменяется парадигмой устойчивого развития в интересах всего человечества.
Китайское руководство скромно продолжает называть свою страну развивающейся. Это так, если судить по темпам роста. Но по своему экономическому потенциалу Китай уже встал на уровень ведущих стран мира. А по структуре производственных отношений Китай становится образцом для многих развивающихся стран, стремящихся повторить китайское экономическое чудо и сближающихся с ядром нового мирохозяйственного уклада. Рассматривать сложившиеся в Китае производственные и общественно-политические отношения следует рассматривать не как переходные, а как характерные для самой передовой в этом столетии социально-экономической системы.
Еще в 1964 году проживающий в США замечательный русский мыслитель П. Сорокин предвидел этот исторический переход и дал определение ключевого отличия новой эпохи от предыдущей: «Доминирующим типом возникающего общества и культуры не будет, вероятно, ни капиталистический, ни коммунистический, а тип sui generis, который мы обозначили как интегральный тип. Этот тип будет промежуточным между коммунистическим и капиталистическим порядками и образами жизни. Он должен вобрать в себя большинство позитивных ценностей и быть свободным от серьезных дефектов каждого типа. Больше того, возникающий интегральный строй в своем развитии не будет, вероятно, простой эклектичной смесью специфических особенностей обоих типов, но объединенной системой интегральных культурных ценностей, социальных институтов и интегрального типа личности существенно отличных от капиталистических и коммунистических образцов»[133 - П.Сорокин. Главные тенденции нашего времени. – Российская академия наук, Институт социологии. – М.: Наука, 1997. – С. 350.].
Глава 3. Переход к новой идеологии управления глобальным экономическим развитием
Как было показано выше, идеологическим обоснованием и оправданием либеральной глобализации является доктрина рыночного фундаментализма, исповедующая вредность государственного вмешательства в экономику и предписывающая демонтаж институтов госрегулирования для свободного движений капитала. Она находится в органическом единстве с интересами крупного американского капитала, подчинившего этим интересам институциональную систему американского цикла накопления. Научное опровержение доктрины рыночного фундаментализма[134 - С. Глазьев. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на экономическое чудо. – М.: Экономическая газета, 2011. – 576 с.] существенно ослабит скрепы этой системы и облегчит ее демонтаж, в том числе с точки зрения продуктивной элиты США и их союзников, которым новый мирохозяйственный уклад идейно чужд и плохо понятен.
Идеология рыночного фундаментализма, отвергающая целесообразность государственного регулирования экономики, теоретически базируется на виртуальных моделях рыночного равновесия. Они иллюстрируют гипотетическую самодостаточность механизмов свободной рыночной конкуренции, которые в моделях автоматически обеспечивают оптимальное распределение имеющихся ресурсов в отсутствии государственного вмешательства. Последнее оправдывается только в целях защиты частной собственности, обеспечения конкуренции и национальной обороны. И, хотя ни одна из аксиом, лежащих в основе этих моделей (об абсолютной информированности экономических агентов и обладании ими самыми совершенными технологиями, их независимости друг от друга, ориентации на сиюминутные прибыли) в реальности не наблюдается, как и само состояния рыночного равновесия, это не мешает данной идеологии быть востребованной властвующей элитой, значительной частью чиновников, деловым и экспертным сообществом.
Если в процессе экономической эволюции и есть что-то постоянное, то это – научно-технический прогресс (НТП), обеспечивающий поступательное развитие производительных сил и последовательное повышение роста производительности труда и эффективности производства. На современном этапе экономического развития его вклад в прирост ВВП передовых стран достигает 90 %[135 - С.Глазьев. Экономическая теория технического развития. – М.: Наука. 1990.]. Он же является главным фактором повышения эффективности и снижения издержек производства, обеспечивая снижение инфляции при росте инвестиций в освоение новых технологий. Поэтому основанная на парадигме экономического равновесия идеология рыночного фундаментализма неадекватна реальности, а основанные на ней практические рекомендации в лучшем случае бесполезны, а как правило, вредны.
Характерный для ведущих отраслей современной промышленности и сферы услуг непрерывный инновационный процесс не позволяет экономике достичь состояния равновесия, она приобрела хронически неравновесный характер. Главным призом рыночной конкуренции становится возможность извлечения интеллектуальной ренты, получаемой за счет технологического превосходства, защищаемого правами интеллектуальной собственности и позволяющего иметь сверхприбыль в результате достижения большей эффективности производства или более высокого качества продукции. В погоне за этим технологическим превосходством передовые фирмы постоянно производят замену множества технологий, широко варьируется производительность факторов производства, не позволяя определиться точке равновесия даже теоретически. Возникающие в эволюции экономической системы аттракторы, определяемые пределами развития существующих технологий, носят временный характер, так как исчезают и заменяются другими с появлением новых технологий.
В современной экономической науке сформировалась новая парадигма, изучающая процессы развития экономики во всей их сложности, неравновесности, нелинейности и неопределенности[136 - Эволюционная теория экономических изменений / Под ред. Ричарда Р. Нельсона, Сиднея Дж. Уинтера. – 2002. – 536 с.]. Одновременно имперский мирохозяйственный уклад, который идеологически обслуживали доктрины рыночного фундаментализма и равновесия, уступает место интегральному, идеологической основой которого является системный подход к достижению гармонии интересов на основе роста общественного благосостояния и теория устойчивого развития. Из этого следует необоснованность претензий рыночных фундаменталистов на «тайное знание» лучших способов управления экономикой, а также нелепость утверждений о конце света в смысле окончательного утверждения американоцентричной модели глобальной либерализации. На самом деле она достигла пределов в своем развитии и вошла в фазу саморазрушения под воздействием внутренних противоречий.
Как показано Т. Сергейцевым[137 - Т.Сергейцев. Падение мировой сверхвласти: крымский рубеж. – М.: Однако. Июнь-июль 2014 (174).], система ценностей, лежащая в основе образа американской сверхсилы, олицетворением которой является глобальное доминирование американоцентричной олигархии, исходит из постмодернистской концепции освобождения человека от Бога и установленных им нравственных ограничений. Абсолютизация человеческого произвола, в конечном счете, выливается в право сильного, что и демонстрирует американская олигархия, которая пытается управлять по своему усмотрению всей планетой, опираясь на присвоенную ею монополию эмиссии мировой валюты. Положить конец этому произволу можно только на основании более высокой системы ценностей, ограничивающей свободу человеческой воли. Выше воли человека и человеческого общества могут быть только объективные законы мироздания, признаваемые рациональным мышлением, а также установленные Всевышним нравственные заповеди, признаваемые религиозным сознанием. Первые устанавливаются на основе научной парадигмы устойчивого развития, вторые должны приниматься за аксиомы в системе глобального законотворчества.
Все великие религии ограничивают свободу человеческого произвола соблюдением определенной системы нравственных норм. Современная постхристианская западная цивилизация не признает абсолютного характера этих норм, интерпретируя их как относительные и устаревшие, которые можно нарушать, если позволяют возможности и требуют обстоятельства. Американская олигархия располагает возможностями глобального доминирования в той мере, которую позволяют международные обстоятельства. Эти обстоятельства можно изменить, ограничив возможности США путем расширения возможностей их конкурентов. Это изменение достигается в рамках существующего миропорядка посредством мировой войны. Чтобы ее избежать, нужно изменить сам миропорядок – ввести абсолютные ограничения на произвол как человеческой личности, так и любых человеческих общностей, включая государства и их объединения. Тем самым будет ликвидировано само основание существования сверхсилы, угрожающей безопасности человечества в институциональной системе имперского мирохозяйственного уклада.
Имперский мирохозяйственный уклад принимает зрелые формы после Второй мировой войны. Рушатся все основанные на разделении граждан на полноценных и ущербных социальные системы. Вслед за фашизмом прекращают существование колониальные империи европейских стран. В СССР осуществляется переход к отношениям развитого социализма, исключающим насильственное принуждение к труду и признающим социальные права и свободы всех граждан. Соревнование капиталистической и социалистической систем сопровождалось развитием всеобщего образования, повышением значения творческого и интеллектуального труда, вовлечением трудящихся в управление производством и обществом, демократизацией политических систем.
Для целей настоящего исследования особое значение имеет анализ переходного процесса смены мирохозяйственных укладов. Переход от колониальных империй европейских стран к американским глобальным корпорациям в качестве ведущей формы организации мировой экономики происходил посредством развязывания двух горячих и третьей холодной мировых войн, исход которых всякий раз сопровождался кардинальными изменениями мирового политического устройства. В результате Первой мировой войны рухнул монархический строй, сдерживавший экспансию национального капитала. В результате Второй – развалились колониальные империи, ограничивавшие международное движение капитала. С крахом СССР вследствие Третьей «холодной» мировой войны свободное движение капитала охватило всю планету.
Но на этом история не заканчивается. Вопреки популярному мнению Фукуямы о конце истории[118 - Francis Fukuyama. The End of History and the Last Man. Free Press, 1992.], гегемония США подрывается неразрешимыми в рамках существующей системы институтов воспроизводства капитала внутренними противоречиями. Теоретически можно предположить, что они и дальше будут разрешаться за счет притока капитала извне. США могут развязывать все новые войны с целью списания своих долгов и присвоения чужих активов. Но центр роста мировой экономики уже переместился в Восточную и Южную Азию.
В настоящее время происходит переход к новому мирохозяйственному укладу. Его расширенное воспроизводство обеспечивается мощными институциональными системами коммунистического Китая и демократической Индии, которые надежно защищают свои национальные экономики от поглощения вчерашними колонизаторами. В отличие от институциональной системы США, ориентированной на обслуживание интересов финансовой олигархии, паразитирующей на эмиссии доллара как мировой валюты, институциональные системы Китая, Индии, Японии, Кореи, Вьетнама, Малайзии, Сингапура, Ирана и других стран формирующегося на наших глазах нового центра развития ориентированы на обеспечение общественных интересов в социально-экономическом развитии. Они нацелены на гармонизацию интересов различных социальных групп, выстраивание партнерских отношений между бизнесом и государством ради достижения общественно значимых целей. Экспансия денежного капитала ограничивается национальными и международными нормами, которые защищают общественные интересы и подчиняют им регулирование процессов воспроизводства капитала. Созданные в период имперского мирохозяйственного уклада институты международного права приобретают фундаментальное значение.
Современное развитие производительных сил требует новых производственных отношений и институтов организации глобальной экономики, которые позволили бы обеспечить устойчивое развитие и отражение планетарных угроз, включая экологические и космические. В условиях либеральной глобализации, выстроенной под интересы транснациональных, в основном англо-американских корпораций, эти вызовы существованию человечества остаются без ответа. Более того, сверхконцентрация капитала и глобального влияния в руках нескольких сотен семей в отсутствие механизмов демократического контроля создает угрозу становления глобальной диктатуры в интересах обеспечения господства мировой олигархии за счет угнетения всего человечества. Тем самым возрастают риски злоупотреблений глобальной властью, чреватые уничтожением целых народов и катастрофами планетарного масштаба. Объективно возникающая необходимость обуздания мировой олигархии и упорядочивания движения мирового капитала достигается в восточно-азиатской модели организации современной экономики. С подъемом Китая, Индии и Вьетнама вслед за Японией и Кореей все более явственно просматриваются контуры перехода к новому мирохозяйственному укладу с совершенно иной, соответствующей интересам устойчивого и гармоничного развития человечества системой институтов, открывающей дорогу новому вековому циклу накопления капитала.
Глава 2. От имперского к интегральному мирохозяйственному укладу
Исчерпание потенциала роста доминирующего технологического уклада стало причиной глобального кризиса и депрессии, охватившей ведущие страны мира в последние годы[119 - С.Глазьев. О политике развития российской экономики. Доклад. – М., 2013.]. Переживаемая в настоящее время фаза родов нового технологического уклада на поверхности экономических явлений предстает как сочетание финансовой турбулентности, сопровождающейся образованием и схлопыванием финансовых пузырей, и экономической депрессии, характеризующейся снижением прибыльности и объемов привычных производств, падением доходов и цен, в том числе на основные энергоносители и конструкционные материалы, а также быстрым распространением принципиально новых технологий, находящихся на начальных фазах своего научно-производственного цикла.
Эпицентр кризисных процессов находится в ядре нынешнего мирохозяйственного уклада – в финансовой системе США. Первый толчок глобального финансового кризиса поразил его ключевые институты – крупнейшие в мире инвестиционные банки Lehman Brothers, JP Morgan Chase, Bear Stearns, Deutsche Bank, Credit Agricole, Barclays, Credit Suisse, BNP Paribas. Вслед за ними обрушились несущие конструкции государственных институтов, обеспечивавших воспроизводство капитала, – страховые и ипотечные агентства. И, хотя американская финансовая система устояла за счет резкого наращивания денежной эмиссии, ее диспропорции с тех пор лишь усилились: скачкообразно вырос государственный долг, продолжилось раздувание финансовых пузырей деривативов (Рис. 20).
Рис. 20. Крупнейшие (top-5 и top-25) американские финансовые холдинги – держатели деривативов: объем деривативов, активов (трлн. долл.) и их соотношение (разы)
(Источник: М.Ершов по данным Office of the Comptroller of the Currency. – Эксперт. – 2015, № 36)
Экспоненциальный рост американского долга (Рис. 21) свидетельствует о выходе американской финансовой системы за пределы устойчивости. Искусственно стимулируемого таким образом притока капиталов в американскую экономику уже не хватает для обслуживания лавинообразно нарастающих обязательств федерального правительства, расходы на которые приближаются к трети ВВП США.
Рис. 21. Динамика американского государственного долга
Параллельное наращивание эмиссии долларов свидетельствует о том, что она работает в режиме финансовой пирамиды: текущие обязательства обслуживаются за счет эмиссии новых. Этот режим вошел в фазу обострения, когда система теряет устойчивость и становится уязвимой к внешним и внутренним шокам. Все это свидетельствует о достижении пределов расширения Американского векового цикла накопления капитала и исчерпании возможностей экономического развития в рамках имперского мирохозяйственного уклада. Понимая это, властвующая элита США хватается за традиционную «соломинку»: чтобы нейтрализовать эти угрозы, она идет по пути дестабилизации и хаотизации стран-кредиторов, коллапс которых позволяет списать значительную часть американских обязательств и присвоить активы.
Теоретически США могут вернуться на траекторию устойчивого роста, если рост нового технологического уклада будет достаточно мощным, чтобы генерировать поток доходов, достаточный для обслуживания накопленных обязательств. Однако существующая система институтов, обеспечивая воспроизводство капитала в рамках сложившегося мирохозяйственного уклада, едва ли предоставит такую возможность. Слишком велики экономические, финансовые, социальные и технологические диспропорции.
Выход из нынешней депрессии будет сопровождаться масштабными геополитическими и экономическими изменениями. Как и в предыдущих случаях, страны-«чемпионы» демонстрируют неспособность к совместным кардинальным институциональным нововведениям, которые могли бы канализировать высвобождающийся капитал в структурную перестройку экономики на основе нового технологического уклада, продолжая воспроизводить сложившуюся институциональную систему и обслуживать воплощенные в ней экономические интересы.
Как указывалось выше, в настоящее время разворачивается структурная перестройка мировой экономики, связанная с ее переходом на новый технологический уклад, основанный на комплексе нано-, биоинженерных и информационно-коммуникационных технологий. Вскоре передовые страны выйдут на длинную волну его экономического роста. Падение цен на нефть является характерным признаком завершения периода родов нового технологического уклада и выхода его на экспоненциальную часть траектории роста за счет бурного распространения новых технологий, кардинально улучшающих ресурсоэффективность и снижающих энергоемкость производства. Именно в такие периоды глобальных технологических сдвигов у отстающих стран возникает возможность для экономического рывка к уровню передовых стран, пока последние сталкиваются с перенакоплением капитала в устаревших производственно-технологических комплексах.
Такой рывок совершают сегодня Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. За три последних десятилетия Китай добился впечатляющих успехов. Из глубокой периферии мировой экономики он шагнул в число лидеров, выйдя в 2014 году на первое место в мире по физическому объему ВВП и экспорту высокотехнологичной продукции. За три десятилетия объем ВВП вырос в Китае в 30 раз (c 300 млрд. долл. до 9 трлн. долл. по текущему курсу юаня к доллару), промышленного производства – в 40–50 раз, валютных резервов – в несколько сотен раз (с нескольких десятков млрд. долл. до 4 трлн. долл.). По уровню экономического развития, измеряемого показателем ВВП на душу населения, Китай поднялся с места в конце списка беднейших стран до места в первой тридцатке стран (среднего достатка)[120 - Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС. / Под. ред. В.Садовничего, Ю.Яковца, А.Акаева. – М.: МГУ – Международный институт Питирима Сорокина-Николая Кондратьева – ИНЭС – Национальный комитет по исследованию БРИКС – Институт Латинской Америки РАН. 2014.].
Китай становится мировым инженерно-технологическим центром. Доля китайских инженерно-технических и научных работников в их мировой численности достигла в 2007 году 20 %, удвоившись по сравнению с 2000-м годом. (1420 и 690 тыс. соответственно). К 2030 году, по прогнозам китайских ученых, в мире будет насчитываться 15 млн. инженерно-технических и научных работников, из которых 4,5 млн. человек (30 %) будут составлять ученые, инженеры и техники из КНР[121 - 2030 Чжунго: маньсянгунтунфуюй, С. 30.]. К 2030 году Китай по объему затрат на научно-технические разработки выйдет на 1-е место в мире, и его доля в объеме мировых затрат составит 25 %[122 - Указ. соч. В.Садовничего, Ю.Яковца, А.Акаева.].
После появления аббревиатуры «БРИК» в 2001 году объем ВВП этих стран увеличился более чем в 3 раза, на них пришлась треть прироста объема мирового производства. «Пятерка» (с присоединением Южно-Африканской Республики), занимая 29 % земной суши (без учета Антарктиды), имеет почти 43 % мирового населения. По доле в суммарном валовом продукте мира по ППС удельный вес БРИКС составляет почти 27 %, но по вкладу в прирост мирового продукта в 2012 году доля «пятерки» свыше 47 %.
Вместе страны БРИК занимают четверть мирового производства высокотехнологичной продукции с перспективой увеличения этой доли до 1/3 к 2020 году[123 - По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), 2013.]. Растут расходы на научные исследования и разработки, совокупный объем которых по странам БРИК приближается к 30 % от общемирового объема. Они уже обладают достаточной научной и производственно-технологической базой для совершения технологического рывка.
Одновременно с быстрым ростом ядра Азиатского цикла накопления ядро Американского относительно уменьшается. Этот процесс носит устойчивый характер и в перспективе продолжится (Табл. 3).
Табл. 3. Сопоставление ВВП ядра Американского и Азиатского циклов накопления капитала[124 - Данные ВВП сделаны по показателям паритета покупательной способности (ППС); расчеты за 1820–2000 гг. проведены А.Мэддисоном; расчеты за 2010–2030 гг. проведены китайскими учеными на основе расчетов А.Мэддисона.]
В отличие от стран ядра существующего мирохозяйственного уклада, навязавшего миру универсальную систему финансово-экономических отношений как основу либеральной глобализации, формирующееся ядро нового мирохозяйственного уклада отличается большим разнообразием. Это отличие проявляется и в общих ценностях БРИКС: свобода выбора путей развития, отрицание гегемонизма, суверенность исторических и культурных традиций. Иными словами, объединение «пятерых» представляет собой качественно новую модель сотрудничества, отдающую дань разнообразию в противовес униформизму либеральной глобализации, что одинаково приемлемо для стран, находящихся на разных стадиях экономического и социального развития.
Главными факторами сближения стран БРИКС являются:
• общее стремление партнеров по БРИКС реформировать устаревшую международную финансово-экономическую архитектуру, не учитывающую возросший экономический вес стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран[125 - Направления такой реформы могли бы охватывать вопросы формирования совместной платежной системы стран БРИКС с учетом планов по созданию национальной платежной системы; учреждения совместного многостороннего агентства по гарантированию инвестиций; разработки международных стандартов определения рейтингов и деятельности рейтинговых агентств; создания собственной глобальной системы международных расчетов; согласования правил действия национальных денежных властей.];
• твердая поддержка участниками объединения общепризнанных принципов и норм международного права, неприятие политики силового давления и ущемления суверенитета других государств;
• наличие у участников БРИКС схожих вызовов и проблем, связанных с потребностями масштабной модернизации экономики и социальной жизни;
• взаимодополняемость многих секторов экономики государств-участников[126 - См. Концепцию участия России в объединении БРИКС, утвержденную Президентом В.Путиным 21 марта 2013 г.].
Историческая миссия БРИКС как новой общности стран и цивилизаций – предложить новую, отвечающую потребностям устойчивого развития парадигму, которая принимала бы во внимание экологические, демографические и социальные лимиты развития, необходимость предотвращения экономических конфликтов[127 - Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС. / Под. ред. В.Садовничего, Ю.Яковца, А.Акаева. – М.: МГУ – Международный институт Питирима Сорокина-Николая Кондратьева – ИНЭС – Национальный комитет по исследованию БРИКС – Институт Латинской Америки РАН. 2014.]. Разделяемые странами БРИКС принципы международного устройства принципиально отличаются от характерных для предыдущих мирохозяйственных укладов, формировавшихся западноевропейской цивилизацией по признанию С. Хантингтона «не благодаря превосходству своих идей, нравственных ценностей, или религии (в которую было обращено население лишь немногих других цивилизаций), но скорее в результате превосходства в использовании организованного насилия»[128 - С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций. (англ. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order; 1996) (Указ. соч. – один из самых популярных геополитических трактатов 90-х. Возникшее из статьи в журнале Foreign Affairs, оно по-новому описывает политическую реальность и прогноз глобального развития всей земной цивилизации. Издание содержит знаменитую статью Ф. Фукуямы «Конец истории»).].
Формирование нового мирохозяйственного уклада ведется странами БРИКС на равноправной, взаимовыгодной и консенсусной основе. По этим принципам создаются региональные экономические объединения – ШОС, ЕАЭС, МЕРКОСУР, АСЕАН-Китай – и финансовые институты (Банк развития и пул валютных резервов БРИКС).
Для России наибольшее значение в выборе стратегии экономического развития имеет опыт Китая, который не только является крупнейшим соседом и лидером в формировании нового мирохозяйственного уклада, но и творчески использует достижения общего для двух стран опыта построения социализма. Китайский подход к построению рыночной экономики кардинально отличается от постсоветского своим прагматизмом и творческим отношением к реформам. В их основе лежат не догматические шаблоны, исходящие из идеологических и оторванных от реальности представлений о социально-экономических процессах, а практика управления хозяйством. Подобно инженерам, конструирующим новую машину, китайские руководители последовательно отрабатывают новые производственные отношения через решение конкретных задач, проведение экспериментов, отбор лучших решений. Терпеливо, шаг за шагом они строят свой рыночный социализм, постоянно совершенствуя систему государственного управления на основе отбора только тех институтов, которые работают на развитие экономики и повышение общественного благосостояния. Сохраняя «завоевания социализма», китайские коммунисты встраивают в систему государственного управления регуляторы рыночных отношений, дополняют государственные формы собственности частными и коллективными таким образом, чтобы добиваться повышения эффективности экономики в общенародных интересах.
Сами китайцы называют свою формацию социалистической, развивая при этом частное предпринимательство и выращивая капиталистические корпорации. Коммунистическое руководство Китая продолжает строительство социализма, избегая идеологических клише. Они предпочитают формулировать задачи в терминах народного благосостояния, ставя цели преодоления бедности и создания общества средней зажиточности, а в последующем – выхода на лидирующие позиции по уровню жизни. Они стараются избежать чрезмерного социального неравенства, сохраняя трудовую основу распределения национального дохода и ориентируя институты регулирования экономики на производственную деятельность и долгосрочные инвестиции в развитие производительных сил. В этом общая особенность стран, формирующих ядро нового мирохозяйственного уклада.
Возвышение Китая влечет реформирование мирового экономического порядка и международных отношений. Возрождение планирования социально-экономического развития и государственного регулирования основных параметров воспроизводства капитала, активная промышленная политика, контроль за трансграничными потоками капитала и валютные ограничения – все это может превратиться из запрещенного Вашингтонскими финансовыми организациями меню в общепринятые инструменты международных экономических отношений. В противовес Вашингтонскому ряд ученых заговорили о Пекинском консенсусе, который является куда более привлекательным для развивающихся стран, в которых проживает большинство человечества. Он основан на принципах недискриминации, взаимного уважения суверенитета и национальных интересов сотрудничающих государств, ориентируя их не на обслуживание международного капитала, а на подъем народного благосостояния. При этом может возникнуть новый режим защиты прав на интеллектуальную собственность и передачи технологий, могут быть приняты новые нормы международной торговли в сфере энергетики и ресурсов, новые правила международной миграции, заключены новые соглашения об ограничении вредных выбросов и т. д. Китайский подход к международной политике (отказ от вмешательства во внутренние дела, от военной интервенции, от торговых эмбарго) дает развивающимся странам реальную альтернативу выстраивания равноправных и взаимовыгодных отношений с другими государствами[129 - J.Ramo. The Beijing Consensus. London: The Foreign Policy Centre. May, 2004.]. Китай принципиально отвергает применение силы, а также использование санкций во внешней политике. Даже в своих отношениях с Тайванем Китай всегда делает упор на расширении экономического и культурного сотрудничества, в то время как тайваньские власти сопротивляются этому[130 - Беседа В. Попова с П. Дуткевичем из книги «22 идеи о том, как устроить мир (беседы с выдающимися учеными)». – М.: Издательство Московского университета, 2014 – С. 470–471.].
Апологеты американской гегемонии стараются не замечать ключевых элементов китайского подхода к реформам. Вместо того чтобы взять китайский опыт на вооружение, они придумывают «объективные объяснения» быстрого роста китайской экономики то иностранными инвестициями, то имитацией западных технологий, то перетоком дешевых трудовых ресурсов из отсталого сельского хозяйства в городскую промышленность. Китайские реформы иногда сравнивают с НЭПом, для которого тоже было характерно сочетание социалистических и капиталистических элементов, а также высокие темпы роста.
Все эти «объективные» объяснения высоких темпов роста китайской экономики ее изначальной отсталостью отчасти справедливы. Отчасти, потому что игнорируют главное – творческий подход китайского руководства к выстраиванию новой системы производственных отношений, которая по мере выхода китайской экономики на первое место в мире становится все более самодостаточной и привлекательной. На наших глазах формируется новая, более эффективная по сравнению с предыдущими, социально-экономическая система, центр мирового развития перемещается в Юго-Восточную Азию, что и позволяет ряду исследователей говорить о начале нового – Азиатского – векового цикла накопления капитала[131 - Giovanni Arrighi, The long twentieth century: money, power and the origins of our times. London: Verso, 1994.],[132 - А.Айвазов. Периодическая система мирового капиталистического развития. – Сайт автора. – 2012.].
Наряду с Китаем в формирование ядра нового мирохозяйственного уклада вовлечены Япония, Сингапур и Ю.Корея. Несмотря на существенные отличия от Китая по политическому устройству и механизмам регулирования экономики, между ними формируется множество устойчивых кооперационных связей, быстро растет взаимная торговля и инвестиции.
К формирующемуся ядру нового мирохозяйственного уклада подтягиваются как близлежащие страны – Россия, Индия, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, так и Бразилия, Венесуэла, Куба и другие страны Латинской Америки. Усиливается притяжение к нему стран африканского континента. В совокупности экономическая мощь этих стран уже сопоставима со странами ядра Американского цикла накопления. Есть у них и общий элемент, который может сыграть роль своего рода тоннеля для перемещения капитала из одного цикла в другой – Япония, обладающая мощной банковской системой.
Вне зависимости от доминирующей формы собственности – государственной, как в Китае или во Вьетнаме, или частной, как в Японии или Корее, для нового мирохозяйственного уклада Азиатского векового цикла накопления характерно сочетание институтов государственного планирования и рыночной самоорганизации, государственного контроля над основными параметрами воспроизводства экономики и свободного предпринимательства, идеологии общего блага и частной инициативы. При этом формы политического устройства могут принципиально отличаться – от самой большой в мире индийской демократии до крупнейшей в мире коммунистической партии Китая. Неизменным остается приоритет общенародных интересов над частными, который выражается в жестких механизмах личной ответственности граждан за добросовестное поведение, четкое исполнение своих обязанностей, соблюдение законов, служение общенациональным целям. Причем формы общественного контроля могут тоже принципиально отличаться – от харакири руководителей обанкротившихся банков в Японии до исключительной меры наказания проворовавшихся чиновников в Китае. Система управления социально-экономическим развитием строится на механизмах личной ответственности за повышение благополучия общества. Примат общественных интересов над частными выражается в характерной для нового мирохозяйственного уклада институциональной структуре регулирования экономики. Прежде всего – в государственном контроле над основными параметрами воспроизводства капитала посредством механизмов планирования, кредитования, субсидирования, ценообразования и регулирования базовых условий предпринимательской деятельности. Государство при этом не столько приказывает, сколько выполняет роль модератора, формируя механизмы социального партнерства и взаимодействия между основными социальными группами. Чиновники не пытаются руководить предпринимателями, а организуют совместную работу делового, научного, инженерного сообществ для формирования общих целей развития и выработки методов их достижения. В свою очередь, предприниматели вписывают мотив максимизации прибыли и обогащения в этические нормы, защищающие интересы общества. Расширяется использование институтов предпринимательской деятельности, ориентированных не на максимизацию прибыли, а на социально значимый результат – некоммерческих организаций, институтов развития, исламского и православного банкинга. При управлении денежными потоками принимаются во внимание этические нормы и вводятся ограничения против финансирования преступной и аморальной деятельности. На это настраиваются и механизмы государственного регулирования экономики.
Государство обеспечивает предоставление долгосрочного и дешевого кредита, а бизнесмены гарантируют его целевое использование в конкретных инвестиционных проектах для развития производства. Государство обеспечивает доступ к инфраструктуре и услугам естественных монополий по низким ценам, а предприятия отвечают за производство конкурентоспособной продукции. В целях повышения её качества государство организует и финансирует проведение необходимых НИОКР, образование и подготовку кадров, а предприниматели реализуют инновации и осуществляют инвестиции в новые технологии. Частно-государственное партнерство подчинено общественным интересам развития экономики, повышения народного благосостояния, улучшения качества жизни. Соответственно, меняется и идеология международного сотрудничества – парадигма либеральной глобализации в интересах частного капитала ведущих стран мира сменяется парадигмой устойчивого развития в интересах всего человечества.
Китайское руководство скромно продолжает называть свою страну развивающейся. Это так, если судить по темпам роста. Но по своему экономическому потенциалу Китай уже встал на уровень ведущих стран мира. А по структуре производственных отношений Китай становится образцом для многих развивающихся стран, стремящихся повторить китайское экономическое чудо и сближающихся с ядром нового мирохозяйственного уклада. Рассматривать сложившиеся в Китае производственные и общественно-политические отношения следует рассматривать не как переходные, а как характерные для самой передовой в этом столетии социально-экономической системы.
Еще в 1964 году проживающий в США замечательный русский мыслитель П. Сорокин предвидел этот исторический переход и дал определение ключевого отличия новой эпохи от предыдущей: «Доминирующим типом возникающего общества и культуры не будет, вероятно, ни капиталистический, ни коммунистический, а тип sui generis, который мы обозначили как интегральный тип. Этот тип будет промежуточным между коммунистическим и капиталистическим порядками и образами жизни. Он должен вобрать в себя большинство позитивных ценностей и быть свободным от серьезных дефектов каждого типа. Больше того, возникающий интегральный строй в своем развитии не будет, вероятно, простой эклектичной смесью специфических особенностей обоих типов, но объединенной системой интегральных культурных ценностей, социальных институтов и интегрального типа личности существенно отличных от капиталистических и коммунистических образцов»[133 - П.Сорокин. Главные тенденции нашего времени. – Российская академия наук, Институт социологии. – М.: Наука, 1997. – С. 350.].
Глава 3. Переход к новой идеологии управления глобальным экономическим развитием
Как было показано выше, идеологическим обоснованием и оправданием либеральной глобализации является доктрина рыночного фундаментализма, исповедующая вредность государственного вмешательства в экономику и предписывающая демонтаж институтов госрегулирования для свободного движений капитала. Она находится в органическом единстве с интересами крупного американского капитала, подчинившего этим интересам институциональную систему американского цикла накопления. Научное опровержение доктрины рыночного фундаментализма[134 - С. Глазьев. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на экономическое чудо. – М.: Экономическая газета, 2011. – 576 с.] существенно ослабит скрепы этой системы и облегчит ее демонтаж, в том числе с точки зрения продуктивной элиты США и их союзников, которым новый мирохозяйственный уклад идейно чужд и плохо понятен.
Идеология рыночного фундаментализма, отвергающая целесообразность государственного регулирования экономики, теоретически базируется на виртуальных моделях рыночного равновесия. Они иллюстрируют гипотетическую самодостаточность механизмов свободной рыночной конкуренции, которые в моделях автоматически обеспечивают оптимальное распределение имеющихся ресурсов в отсутствии государственного вмешательства. Последнее оправдывается только в целях защиты частной собственности, обеспечения конкуренции и национальной обороны. И, хотя ни одна из аксиом, лежащих в основе этих моделей (об абсолютной информированности экономических агентов и обладании ими самыми совершенными технологиями, их независимости друг от друга, ориентации на сиюминутные прибыли) в реальности не наблюдается, как и само состояния рыночного равновесия, это не мешает данной идеологии быть востребованной властвующей элитой, значительной частью чиновников, деловым и экспертным сообществом.
Если в процессе экономической эволюции и есть что-то постоянное, то это – научно-технический прогресс (НТП), обеспечивающий поступательное развитие производительных сил и последовательное повышение роста производительности труда и эффективности производства. На современном этапе экономического развития его вклад в прирост ВВП передовых стран достигает 90 %[135 - С.Глазьев. Экономическая теория технического развития. – М.: Наука. 1990.]. Он же является главным фактором повышения эффективности и снижения издержек производства, обеспечивая снижение инфляции при росте инвестиций в освоение новых технологий. Поэтому основанная на парадигме экономического равновесия идеология рыночного фундаментализма неадекватна реальности, а основанные на ней практические рекомендации в лучшем случае бесполезны, а как правило, вредны.
Характерный для ведущих отраслей современной промышленности и сферы услуг непрерывный инновационный процесс не позволяет экономике достичь состояния равновесия, она приобрела хронически неравновесный характер. Главным призом рыночной конкуренции становится возможность извлечения интеллектуальной ренты, получаемой за счет технологического превосходства, защищаемого правами интеллектуальной собственности и позволяющего иметь сверхприбыль в результате достижения большей эффективности производства или более высокого качества продукции. В погоне за этим технологическим превосходством передовые фирмы постоянно производят замену множества технологий, широко варьируется производительность факторов производства, не позволяя определиться точке равновесия даже теоретически. Возникающие в эволюции экономической системы аттракторы, определяемые пределами развития существующих технологий, носят временный характер, так как исчезают и заменяются другими с появлением новых технологий.
В современной экономической науке сформировалась новая парадигма, изучающая процессы развития экономики во всей их сложности, неравновесности, нелинейности и неопределенности[136 - Эволюционная теория экономических изменений / Под ред. Ричарда Р. Нельсона, Сиднея Дж. Уинтера. – 2002. – 536 с.]. Одновременно имперский мирохозяйственный уклад, который идеологически обслуживали доктрины рыночного фундаментализма и равновесия, уступает место интегральному, идеологической основой которого является системный подход к достижению гармонии интересов на основе роста общественного благосостояния и теория устойчивого развития. Из этого следует необоснованность претензий рыночных фундаменталистов на «тайное знание» лучших способов управления экономикой, а также нелепость утверждений о конце света в смысле окончательного утверждения американоцентричной модели глобальной либерализации. На самом деле она достигла пределов в своем развитии и вошла в фазу саморазрушения под воздействием внутренних противоречий.
Как показано Т. Сергейцевым[137 - Т.Сергейцев. Падение мировой сверхвласти: крымский рубеж. – М.: Однако. Июнь-июль 2014 (174).], система ценностей, лежащая в основе образа американской сверхсилы, олицетворением которой является глобальное доминирование американоцентричной олигархии, исходит из постмодернистской концепции освобождения человека от Бога и установленных им нравственных ограничений. Абсолютизация человеческого произвола, в конечном счете, выливается в право сильного, что и демонстрирует американская олигархия, которая пытается управлять по своему усмотрению всей планетой, опираясь на присвоенную ею монополию эмиссии мировой валюты. Положить конец этому произволу можно только на основании более высокой системы ценностей, ограничивающей свободу человеческой воли. Выше воли человека и человеческого общества могут быть только объективные законы мироздания, признаваемые рациональным мышлением, а также установленные Всевышним нравственные заповеди, признаваемые религиозным сознанием. Первые устанавливаются на основе научной парадигмы устойчивого развития, вторые должны приниматься за аксиомы в системе глобального законотворчества.
Все великие религии ограничивают свободу человеческого произвола соблюдением определенной системы нравственных норм. Современная постхристианская западная цивилизация не признает абсолютного характера этих норм, интерпретируя их как относительные и устаревшие, которые можно нарушать, если позволяют возможности и требуют обстоятельства. Американская олигархия располагает возможностями глобального доминирования в той мере, которую позволяют международные обстоятельства. Эти обстоятельства можно изменить, ограничив возможности США путем расширения возможностей их конкурентов. Это изменение достигается в рамках существующего миропорядка посредством мировой войны. Чтобы ее избежать, нужно изменить сам миропорядок – ввести абсолютные ограничения на произвол как человеческой личности, так и любых человеческих общностей, включая государства и их объединения. Тем самым будет ликвидировано само основание существования сверхсилы, угрожающей безопасности человечества в институциональной системе имперского мирохозяйственного уклада.