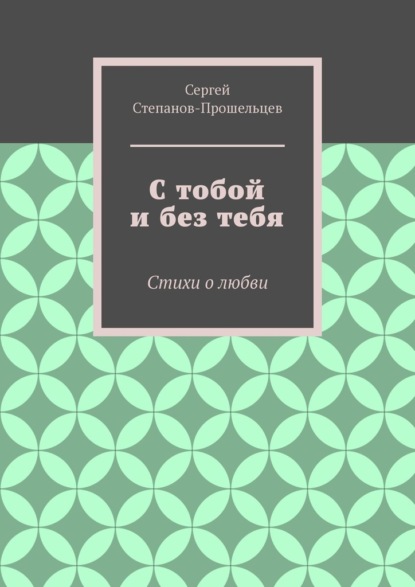По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
С тобой и без тебя. Стихи о любви
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
худой, как у камина кочерга,
в плаще, до неприличия потёртом,
когда молчит охрипший телефон…
Ты извини: я – это только фон,
унылый фон, увы, для натюрморта.
Художник не напишет этот бред:
тут фруктов нет, нарциссов тоже нет,
а есть тоска, мы к ней теперь приступим.
Она везде, куда ни наступи,
она, как будто марево в степи,
колышется незагустевшим студнем.
А может, не приду я никогда,
я это так, спонтанно, нагадал,
чтоб воскресить, чему не быть в помине,
что быть могло, но вот – не суждено,
я это знал, я это знал давно,
но в этом я ни капли не повинен.
Я виноват, пожалуй, только в том,
что не стучусь в тот опустевший дом,
не ем омлет, тефтели с кашей пшённой,
что никакая мы с тобой семья,
что в этом доме не остался я
штрихом случайным и незавершённым.
* * *
Давно всё забыто.
Сгорела мечта без огарка.
Живу, как придётся,
скукоженный, как запятая.
Но я вспоминаю
хрустящую белую гальку.
Зачем – я не знаю.
Но всё-таки я вспоминаю.
И девочку эту.
Зачем я так быстро уехал?
Зачем всё мелькнуло,
как будто пейзаж заоконный?
Но я вспоминаю —
и нежности слабое эхо
находит меня
так настойчиво и незаконно.
Два-три поцелуя
да быстрое рукопожатье…
Нельзя и подумать,
что быть надо как-то смелее.
И белое это,
пронзительно-белое платье —
как будто из снега, да нет,
даже снега белее.
Не сон ли всё это?
Я сам сомневаюсь отчасти.
в плаще, до неприличия потёртом,
когда молчит охрипший телефон…
Ты извини: я – это только фон,
унылый фон, увы, для натюрморта.
Художник не напишет этот бред:
тут фруктов нет, нарциссов тоже нет,
а есть тоска, мы к ней теперь приступим.
Она везде, куда ни наступи,
она, как будто марево в степи,
колышется незагустевшим студнем.
А может, не приду я никогда,
я это так, спонтанно, нагадал,
чтоб воскресить, чему не быть в помине,
что быть могло, но вот – не суждено,
я это знал, я это знал давно,
но в этом я ни капли не повинен.
Я виноват, пожалуй, только в том,
что не стучусь в тот опустевший дом,
не ем омлет, тефтели с кашей пшённой,
что никакая мы с тобой семья,
что в этом доме не остался я
штрихом случайным и незавершённым.
* * *
Давно всё забыто.
Сгорела мечта без огарка.
Живу, как придётся,
скукоженный, как запятая.
Но я вспоминаю
хрустящую белую гальку.
Зачем – я не знаю.
Но всё-таки я вспоминаю.
И девочку эту.
Зачем я так быстро уехал?
Зачем всё мелькнуло,
как будто пейзаж заоконный?
Но я вспоминаю —
и нежности слабое эхо
находит меня
так настойчиво и незаконно.
Два-три поцелуя
да быстрое рукопожатье…
Нельзя и подумать,
что быть надо как-то смелее.
И белое это,
пронзительно-белое платье —
как будто из снега, да нет,
даже снега белее.
Не сон ли всё это?
Я сам сомневаюсь отчасти.