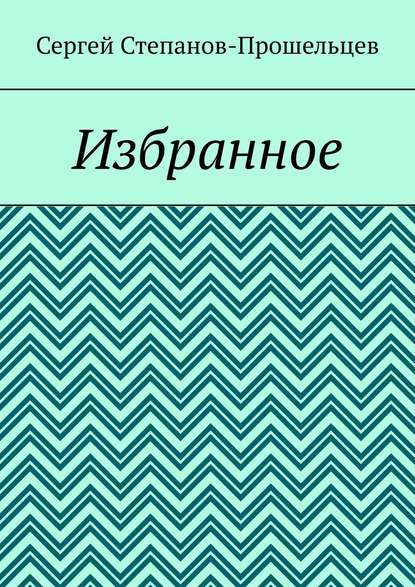По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Избранное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
Куда же вы, птицы? Зачем вы срываетесь с крыши
и с веток иссохших осеннего зябкого сада,
когда уже поздно, и мягко крадется по-рысьи
по листьям опавшим вечерняя мгла и прохлада?
Куда же вы, птицы? Какая такая забота
вас гонит из дупел, из гнезд под высоким карнизом?
Вы ходите плохо. Вы созданы лишь для полёта,
для горнего ветра, что светом и волей пронизан.
Мы тоже такие. Такое же общее свойство
мы с вами имеем: не надо нам тесного рая —
в путь снова зовет нестареющий дух беспокойства.
Ты нас излечи, ощущенье простора без края!
.
* * *
На колпаке шута звенели бубенцы.
Кривлялся он и пел — уродство не помеха.
И, как кули с мукой, вельможи и купцы
валились под столы и корчились от смеха.
А шут торжествовал. Он знал прекрасно роль.
Смотрел, разинув рот, слуга, не поняв толком,
кто шут, а кто король. Не знал и сам король.
Смеялся он — и всё. Смеялся он — и только.
* * *
Не чувствуя с миром разлада,
ты жил, никогда не скуля,
но мир вдруг становится адом —
и всё начинаешь с нуля.
И день тот обрадует летний,
и не возмущает, когда
шуршат по-мышиному сплетни —
теперь от них мало вреда.
И вовсе не надо разборок.
Ты лишь бескорыстия ждёшь
от той, нет дороже которой,
совсем не способной на ложь.
* * *
Возможно, это – только давний сон…
Мы день на полуслове обрываем.
Наш дом – как остров. Он необитаем,
поскольку был давно уже снесён.
Но мы придём сюда, устав от слов,
от спешки, жизнью вызванной шальною,
чтоб надышаться тёплой тишиною,
что притаилась, словно птицелов.
Тот год ещё не предвещал потерь,
не думалось, что рушатся стропила.
И всё тогда куда понятней было,
и всё открыто, как входная дверь.
Не знали мы, что станет всё чужим,