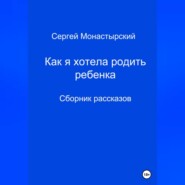По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Старый дом на захолустной улице
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Старый дом на захолустной улице
Сергей Семенович Монастырский
Дом этот в начале прошлого века построил купец Иннокентий Серебряков. Для долгой и счастливой жизни. Но, пронеслась мимо дома красная конница, поделив эпоху на ту и на эту. В той остался порубленный красноармейцами купец Серебряков, в этой хозяйка дома Наталья Серебрякова. Жизнь действительно была долгой, как и завещал Иннокентий, но счастливой лишь иногда. И прошла в стенах дома судьба ряда поколений.
Сергей Монастырский
Старый дом на захолустной улице
Старый одноэтажный купеческий дом до сих пор стоит на этой улице в тихом центре, разросшегося с тех пор, города. Выдолбленный асфальт блестит после дождя глубокими лужами, в которых с брызгами проваливаются редко проезжающие здесь машины, деревянные заборы тоже зияют дырами сгнивших или выбитых досок. История притаилась за заросшими бурьянами кучами мусора. Словом, и дом, и улочка доживают свой век, вместе с их обитателями, поколения которых сменялись за эти годы. И лишь цветущей весной, одичавший яблоневый сад, помнит о тех славных временах, когда, гуляли по этой улочке, взявшись за руки гимназистки, барышни с книжкой французских стихов сидели на скамейках, искоса взглядывая на молодых щегалей, проходящих мимо, но впрочем, делая вид, что увлечены стихами.
Дом этот, как и церковь, стоящую рядом, и там же расположенное богоугодное заведение для инвалидов, построил купец Иннокентий Серебряков, но не на нажитые тяжким трудом деньги, а на неожиданно свалившееся счастье – выигрышный лотерейный билет.
Церковь – для бога, для города и для отпущения своих имевшихся, наверное, грехов, дом – для себя, а богоугодное заведение, как доходный бизнес за счет казны.
И было купцу без малого сорок лет. Он уже пять лет, как овдовел, и на купца был совсем не похож – в европейской одежде, с неплохим, но конечно, не университетским образованием, и только борода – лопатой выдавала в его происхождение.
Впрочем, он считал, что она делает его солидным.
В ту весну привел он в этот сад Наташу, только что окончившую женские курсы. И в ее восемнадцать лет, бывшей необыкновенно хорошенькой и начитанной девушкой.
– Вот, Наташа, это все теперь ваше хозяйство, – обвел он руками и дом и сад, а вот и ассигнации для покупок на первое время, – и он вытащил увесистую пачку денег из толстого кошелька.
Наташа тусклым взглядом обвела хозяйство, денег не взяла, словно не заметила, и осталась неподвижно стоять под яблоней посредине двора, как и стояла.
На то были свои причины.
… Год назад она в этом же захолустном городе встретила свою судьбу, свою первую любовь – молодого офицера царской армии, проводившего после училища и перед отправкой на фронт две недели у бабушки, жившей в этом городке, и собственно выраставшей его после смерти родителей.
Две недели сияющего счастья, клятв и объятий, яблоневых садов встречающих их на каждой улице и планов, планов, планов.
Две недели, оборвавшиеся с его отъездом, и ожидания его писем, его отпуска через полгода, когда они поклялись друг другу обвенчаться и навсегда – навеки – принадлежать друг другу!
Письма с фронта были страстные, украшенные собранными в конверт лепестками! Потом пришло еще одно, самое последнее и счастливое:
«Я ранен! Не бойся, легко. После госпиталя меня отправляют для прохождения нестроевой службы, так как для фронтовой службы я считаюсь инвалидом! Еду к тебе! Весь положенный мне отпуск пробудем вместе! Дам телеграмму, встречай!»
В тот день, она оделась особенно нарядно. В тот день родители приготовили особенный обед. В тот день даже солнце сияло по-особенному!
Она стояла на перроне с маленьким, изящным букетиком цветов и в такой же маленькой шляпке. Нет, не стояла! Стоять она не могла. От волнения она ходила взад и вперед по перрону, постоянно уточняя у дежурного, где должен остановиться вагон номер пять?
Пыхтя и выпуская клубы дыма, подошел поезд. Он стоял на станции всего пять минут. Наташа горящими глазами вглядывалась в окна вагона.
Но из вагона никто не вышел. Отчаянно она бегала по перрону, все еще надеясь, что он просто перепутал номер вагона! Но нет. Пыхтя, поезд тронулся. И тут на пустом перроне, после того, как промчался последний, товарный вагон, прицепленный к составу, она увидела какого-то офицера, стоящего в дальнем конце. У ног его лежал большой черный мешок.
… Поезд с фронта ехал четверо суток. И у раненого в ногу Наташиного жениха развилась гангрена. Врача в поезде не было. На вторые сутки офицер скончался. Его зашили в мешок, перегрузили в товарный вагон, и товарищ его, который дал клятву умирающему жениху, доставил тело до указанной станции.
Что было дальше, Наташа помнила слабо. Нет, она не упала в обморок, не бросилась с рыданием на мешок с телом любимого. Она просто стояла, молча, глаза ее были бессмысленными, и только силой удалось ее увезти с перрона.
Всю дальнейшую свою жизнь она плохо понимала. Приняла спокойно и то, что через несколько месяцев, тихо сказала ей мать за вечерним чаем:
– Наташенька, любимого не вернешь. А тебе надо выйти замуж.
– Зачем? – безразлично спросила Наташа.
– Ты же знаешь, в нашем роду и нашей вере такой обычай – младшая сестра не может выйти замуж вперед старшей. И сестренка твоя уже год, как твоей свадьбы ждала!
– Говорите за кого, выйду! – так же безразлично ответила она.
… Так появилась Наташа в саду Иннокентия Серебрякова.
***
И стала она женой и хозяйкой этого купеческого дома. Но к беде Иннокентия Константиновича, совершенно безучастной ко всему происходящему. Безучастно она отнеслась и к тому, что стала женщиной, понимая лишь, что должна делать то, что должна. Не проронивши, ни единого слова, не издала ни одного вздоха, Иннокентий, вроде как, даже усомнился, девица ли она.
Но время лечит. Иннокентий Константинович очень старался. Не то чтобы он влюбился в Наталью до умопомрачения, но он был человеком очень обстоятельным и справедливо считал, что семья должна быть любящей и счастливой.
По утрам он завтракал непременно с женой, и по ходу чего пересказывал ей новости из-за раскрытого за столом свежего номера газеты. Нежно целовал ее в щеку, перечислял, какие указания она должна дать прислуге по хозяйству. И уходил на базарную площадь, где у него были несколько лавок и складов.
Наташа же шла во флигель, где жила прислуга, молодая, ее лет девушка со своей мамой, выполняющей обязанности кухарки, и плакала, обнявшись с ними по своей несчастной судьбе.
По выходным Иннокентий Константинович любил принимать гостей. Это было действительно весело и очень мило.
Стол был заставлен в большой комнате, а не на кухне, где они обыкновенно трапезничали вдвоем.
На столе было все! И дичь, и свежая астраханская рыба, и копчености, и солености!
Зимой из подвалов доставались собственной рукой облитые воском арбузы и дыни, прекрасно хранившиеся в темных, прохладных подвалах.
Гостей обычно бывало человек пятнадцать. Во-первых, родные – семья Наташи и сестра Иннокентия с мужем, батюшка из построенной Иннокентием церкви – отец Виталий с женой – матушкой Марфой. Это из обязательных. Кроме того, время от времени приглашались и другие – из партеров Иннокентия и городских властей.
Обед затягивался до позднего вечера, с разговорами, шутками, а иногда и с танцами под клавесин.
– А что это ты, отец Виталий, ни разу детей сюда не привел! Пусть бы – полакомились!
– В строгости их надобно держать, в строгости! Все должно быть по порядку – сначала учеба, потом работа, а уж потом лакомство!
– Это что же, когда уже зубы выпадут? – приговаривала сестра Иннокентия. – Какая-то скучная у вас религия, на каждый шесток у вас свой порядок!
– У нас-то что! – весело огрызался отец Виталий, – а вот у евреев…, там уж буквально каждый чих расписан! Даже … ни здесь,– он сделал паузу – а ну-ка, девушки, закройте уши!
Они поспешно закрывали руками уши, а батюшка трагическим голосом сообщал:
– Даже, когда детородное дело делают – все по графику!
– А когда?! – весело смеялась сестра.
– Подслушивать – грех! – ругался батюшка. – Но раз уж ты слышала, то скажу – когда хочешь, но по четвергам обязательно!
Все смеялись и начинали друг у друга спрашивать – у кого, какие планы, на четверг!
Сергей Семенович Монастырский
Дом этот в начале прошлого века построил купец Иннокентий Серебряков. Для долгой и счастливой жизни. Но, пронеслась мимо дома красная конница, поделив эпоху на ту и на эту. В той остался порубленный красноармейцами купец Серебряков, в этой хозяйка дома Наталья Серебрякова. Жизнь действительно была долгой, как и завещал Иннокентий, но счастливой лишь иногда. И прошла в стенах дома судьба ряда поколений.
Сергей Монастырский
Старый дом на захолустной улице
Старый одноэтажный купеческий дом до сих пор стоит на этой улице в тихом центре, разросшегося с тех пор, города. Выдолбленный асфальт блестит после дождя глубокими лужами, в которых с брызгами проваливаются редко проезжающие здесь машины, деревянные заборы тоже зияют дырами сгнивших или выбитых досок. История притаилась за заросшими бурьянами кучами мусора. Словом, и дом, и улочка доживают свой век, вместе с их обитателями, поколения которых сменялись за эти годы. И лишь цветущей весной, одичавший яблоневый сад, помнит о тех славных временах, когда, гуляли по этой улочке, взявшись за руки гимназистки, барышни с книжкой французских стихов сидели на скамейках, искоса взглядывая на молодых щегалей, проходящих мимо, но впрочем, делая вид, что увлечены стихами.
Дом этот, как и церковь, стоящую рядом, и там же расположенное богоугодное заведение для инвалидов, построил купец Иннокентий Серебряков, но не на нажитые тяжким трудом деньги, а на неожиданно свалившееся счастье – выигрышный лотерейный билет.
Церковь – для бога, для города и для отпущения своих имевшихся, наверное, грехов, дом – для себя, а богоугодное заведение, как доходный бизнес за счет казны.
И было купцу без малого сорок лет. Он уже пять лет, как овдовел, и на купца был совсем не похож – в европейской одежде, с неплохим, но конечно, не университетским образованием, и только борода – лопатой выдавала в его происхождение.
Впрочем, он считал, что она делает его солидным.
В ту весну привел он в этот сад Наташу, только что окончившую женские курсы. И в ее восемнадцать лет, бывшей необыкновенно хорошенькой и начитанной девушкой.
– Вот, Наташа, это все теперь ваше хозяйство, – обвел он руками и дом и сад, а вот и ассигнации для покупок на первое время, – и он вытащил увесистую пачку денег из толстого кошелька.
Наташа тусклым взглядом обвела хозяйство, денег не взяла, словно не заметила, и осталась неподвижно стоять под яблоней посредине двора, как и стояла.
На то были свои причины.
… Год назад она в этом же захолустном городе встретила свою судьбу, свою первую любовь – молодого офицера царской армии, проводившего после училища и перед отправкой на фронт две недели у бабушки, жившей в этом городке, и собственно выраставшей его после смерти родителей.
Две недели сияющего счастья, клятв и объятий, яблоневых садов встречающих их на каждой улице и планов, планов, планов.
Две недели, оборвавшиеся с его отъездом, и ожидания его писем, его отпуска через полгода, когда они поклялись друг другу обвенчаться и навсегда – навеки – принадлежать друг другу!
Письма с фронта были страстные, украшенные собранными в конверт лепестками! Потом пришло еще одно, самое последнее и счастливое:
«Я ранен! Не бойся, легко. После госпиталя меня отправляют для прохождения нестроевой службы, так как для фронтовой службы я считаюсь инвалидом! Еду к тебе! Весь положенный мне отпуск пробудем вместе! Дам телеграмму, встречай!»
В тот день, она оделась особенно нарядно. В тот день родители приготовили особенный обед. В тот день даже солнце сияло по-особенному!
Она стояла на перроне с маленьким, изящным букетиком цветов и в такой же маленькой шляпке. Нет, не стояла! Стоять она не могла. От волнения она ходила взад и вперед по перрону, постоянно уточняя у дежурного, где должен остановиться вагон номер пять?
Пыхтя и выпуская клубы дыма, подошел поезд. Он стоял на станции всего пять минут. Наташа горящими глазами вглядывалась в окна вагона.
Но из вагона никто не вышел. Отчаянно она бегала по перрону, все еще надеясь, что он просто перепутал номер вагона! Но нет. Пыхтя, поезд тронулся. И тут на пустом перроне, после того, как промчался последний, товарный вагон, прицепленный к составу, она увидела какого-то офицера, стоящего в дальнем конце. У ног его лежал большой черный мешок.
… Поезд с фронта ехал четверо суток. И у раненого в ногу Наташиного жениха развилась гангрена. Врача в поезде не было. На вторые сутки офицер скончался. Его зашили в мешок, перегрузили в товарный вагон, и товарищ его, который дал клятву умирающему жениху, доставил тело до указанной станции.
Что было дальше, Наташа помнила слабо. Нет, она не упала в обморок, не бросилась с рыданием на мешок с телом любимого. Она просто стояла, молча, глаза ее были бессмысленными, и только силой удалось ее увезти с перрона.
Всю дальнейшую свою жизнь она плохо понимала. Приняла спокойно и то, что через несколько месяцев, тихо сказала ей мать за вечерним чаем:
– Наташенька, любимого не вернешь. А тебе надо выйти замуж.
– Зачем? – безразлично спросила Наташа.
– Ты же знаешь, в нашем роду и нашей вере такой обычай – младшая сестра не может выйти замуж вперед старшей. И сестренка твоя уже год, как твоей свадьбы ждала!
– Говорите за кого, выйду! – так же безразлично ответила она.
… Так появилась Наташа в саду Иннокентия Серебрякова.
***
И стала она женой и хозяйкой этого купеческого дома. Но к беде Иннокентия Константиновича, совершенно безучастной ко всему происходящему. Безучастно она отнеслась и к тому, что стала женщиной, понимая лишь, что должна делать то, что должна. Не проронивши, ни единого слова, не издала ни одного вздоха, Иннокентий, вроде как, даже усомнился, девица ли она.
Но время лечит. Иннокентий Константинович очень старался. Не то чтобы он влюбился в Наталью до умопомрачения, но он был человеком очень обстоятельным и справедливо считал, что семья должна быть любящей и счастливой.
По утрам он завтракал непременно с женой, и по ходу чего пересказывал ей новости из-за раскрытого за столом свежего номера газеты. Нежно целовал ее в щеку, перечислял, какие указания она должна дать прислуге по хозяйству. И уходил на базарную площадь, где у него были несколько лавок и складов.
Наташа же шла во флигель, где жила прислуга, молодая, ее лет девушка со своей мамой, выполняющей обязанности кухарки, и плакала, обнявшись с ними по своей несчастной судьбе.
По выходным Иннокентий Константинович любил принимать гостей. Это было действительно весело и очень мило.
Стол был заставлен в большой комнате, а не на кухне, где они обыкновенно трапезничали вдвоем.
На столе было все! И дичь, и свежая астраханская рыба, и копчености, и солености!
Зимой из подвалов доставались собственной рукой облитые воском арбузы и дыни, прекрасно хранившиеся в темных, прохладных подвалах.
Гостей обычно бывало человек пятнадцать. Во-первых, родные – семья Наташи и сестра Иннокентия с мужем, батюшка из построенной Иннокентием церкви – отец Виталий с женой – матушкой Марфой. Это из обязательных. Кроме того, время от времени приглашались и другие – из партеров Иннокентия и городских властей.
Обед затягивался до позднего вечера, с разговорами, шутками, а иногда и с танцами под клавесин.
– А что это ты, отец Виталий, ни разу детей сюда не привел! Пусть бы – полакомились!
– В строгости их надобно держать, в строгости! Все должно быть по порядку – сначала учеба, потом работа, а уж потом лакомство!
– Это что же, когда уже зубы выпадут? – приговаривала сестра Иннокентия. – Какая-то скучная у вас религия, на каждый шесток у вас свой порядок!
– У нас-то что! – весело огрызался отец Виталий, – а вот у евреев…, там уж буквально каждый чих расписан! Даже … ни здесь,– он сделал паузу – а ну-ка, девушки, закройте уши!
Они поспешно закрывали руками уши, а батюшка трагическим голосом сообщал:
– Даже, когда детородное дело делают – все по графику!
– А когда?! – весело смеялась сестра.
– Подслушивать – грех! – ругался батюшка. – Но раз уж ты слышала, то скажу – когда хочешь, но по четвергам обязательно!
Все смеялись и начинали друг у друга спрашивать – у кого, какие планы, на четверг!