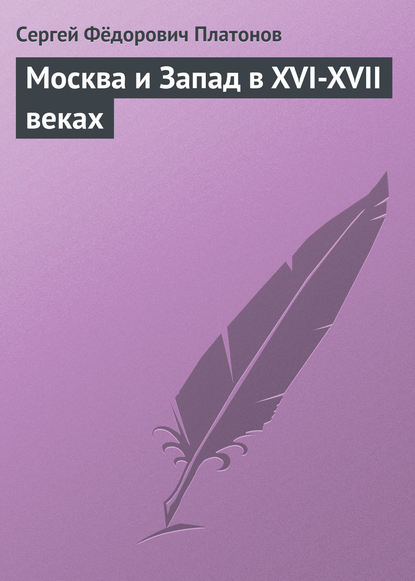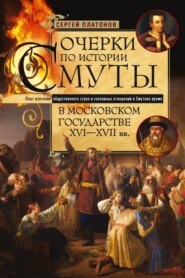По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Москва и Запад в XVI-XVII веках
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сергей Федорович Платонов
«…В предлагаемом труде автор не имел претензии дать исчерпывающий очерк сложного и не во всем объеме исследованного вопроса европеизации России. Его целью было указать на главные моменты этого культурного процесса; материалом же служил тот круг научных пособий, в котором слагался его университетский курс. Автор почувствует себя вполне удовлетворенным, если внушит читателям убеждение, что связь Московской Руси с Европейским западом завязалась ранее и была крепче, чем обычно принято думать. На более ранние эпохи поэтому автор обратил в своем изложении наибольшее внимание…»
Сергей Федорович Платонов
Москва и Запад в 16–17 веках
В предлагаемом труде автор не имел претензии дать исчерпывающий очерк сложного и не во всем объеме исследованного вопроса европеизации России. Его целью было указать на главные моменты этого культурного процесса; материалом же служил тот круг научных пособий, в котором слагался его университетский курс. Автор почувствует себя вполне удовлетворенным, если внушит читателям убеждение, что связь Московской Руси с Европейским западом завязалась ранее и была крепче, чем обычно принято думать. На более ранние эпохи поэтому автор обратил в своем изложении наибольшее внимание.
Глава первая. XVI-й век и смута
I
Надо перестать верить старой басне о том, что в 1486 году некий немецкий рыцарь Поппель, странствуя по мало известным в Европе отдаленным краям, каким-то образом попал в Москву и, воротясь домой, рассказывал императору Фридриху III о Москве, как о своем политическом и географическом открытии; а пораженный будто бы его рассказом о могуществе Москвы император послал того же Поппеля в Москву просить у великого князя Ивана III руки его дочери для своего племянника и в вознаграждение за это предложить московскому князю королевский титул. Это сам Поппель хвалился в Москве, во второй свой приезд в 1488 году, что только от него в Германии узнали, насколько могуществен и богат «вельможный и борзомудрый государь» Иван III. Но похвальба эта была пустая и лживая. Она свидетельствовала о том, что Поппель был легкомысленный и неумный человек. Такие свойства Поппеля с особой яркостью выразились и в сохранившемся до нашего времени его наивном и невежливом письме к великому князю Ивану III (в 1490 году) с жалобами на бояр и с разными мелкими просьбами. Достаточно прочитать это послание, чтобы уразуметь всю несерьезность его автора и чтобы одобрить отзыв о нем москвичей, что Поппель «писал к государю к нашему свою грамоту не по пригожу», не так, как пишут великим государям. Когда Поппель рассказывал в Москве, что он открыл для Европы Московское государство, Москва была уже открыта для иноземцев. Аристотель Фиораванти уже построил в ней Успенский собор, освященный в 1479 году, и строил другие церкви, работал на пушечном дворе и чеканил монету. Иные мастера-иноземцы (Антон Фрязин, Марко Руффо, Пьетро Соларио, Алевиз) с участием того же Аристотеля строили Кремлевские башни и стены. Начиналась постройка каменных «палат» Кремлевского дворца. В Италию посылалось посольство за посольством для набора техников и мастеров всякого «дела». По приглашению из Москвы и без всякого приглашения ехали в Москву на службу итальянцы, греки и немцы («Ольберт немчин из Любка»). Для всех для них дорога шла на Русь через ту самую Германию, где будто бы только от Поппеля узнали о Москве. Лет за двадцать до откровений Поппеля московское правительство вело уже дипломатические сношения с итальянскими дворами и намечался брачный союз Ивана III с находившейся у папы греческой «деспиной» царевной Палеолог. С появлением же в Москве этой царевны Софии Фоминишны и ее свиты (1472 г.) было положено прочное начало московской иноземной колонии, из которой вышло немало великокняжеских дипломатов. Один из них – Марко Руффо вывез из Персии в Москву венецианского дипломата Контарини, едва не погибшего во время своего посольства. Попав в Москву (за десять лет до Поппеля – в 1476 году), Контарини нашел там много итальянцев и греков и свел со всеми ими тесное знакомство. Для него оказалось возможным снарядить из Москвы в Венецию посланца за деньгами, и он спокойно ожидал в Москве его возвращения, проведя там всю осень и часть зимы 1476 года. Наблюдая московскую жизнь, Контарини узнал, что «в Москве во время зимы съезжается множество купцов из Германии и Польши для покупки различных мехов». В начале 1477 года, ранее, чем он рассчитывал, Контарини был отпущен из Москвы частным порядком, без конвоя, с одним лишь «приставом» (un huomo del signore) и направился на родину через Литву, Польшу и Германию тем самым торным путем, каким ездили в Москву польские и немецкие купцы. На дороге, в Иене, он встретился со своим посланным, который вез ему из Италии деньги, и затем с ним вместе благополучно прибыл домой в Венецию. Все приведенные здесь мелкие подробности свидетельствуют ясно о том, что к исходу XV века сношения московского двора и рынка с Западом были уже завязаны, и Москва вовсе не нуждалась в том, чтобы ее «открывали» странствующие рыцари. Правда, эти сношения ограничивались потребностями политики и торговли и еще не разрастались в общую культурную связь. Но для такой связи почва не стала готова и двумя столетиями позже.
II
Если мы усвоим себе мысль о том, что Москва еще с XV века была знакома с иностранцами, сносилась с европейскими правительствами, допускала на свои рынки (в Новгороде и Москве) иностранных купцов, принимала на службу иноземных мастерови техников, – то для нас не будет ничего удивительного в той роли, какую принял на себя довольно известный авантюрист середины XVI века Ганс Шлитте. Он побывал в Москве в годы отрочества и юности Ивана Грозного, занимался там коммерцией, изучил русский язык и, как многие иноземцы той эпохи, стал агентом московского правительства по сношениям с Западом. Ему было поручено навербовать за границей всякого рода сведущих людей и доставить их в Москву. Шлитте обратился за этим делом в Германию и обставил его необычными атрибутами. Он выдал себя императору за посланника московского государя, имеющего дипломатическую миссию. От лица Ивана Грозного он предлагал Карлу V начать переговоры об унии православной церкви с католической. Правда, в грамоте Грозного не было и помина о соединении церквей: грамота содержала только просьбу разрешить проезд в Москву мастеров и ученых людей. Но для Шлитте было важно придать делу именно такую окраску религиозного характера. Нет нужды считать его утопистом и фантазером; у него, по-видимому, был чисто практический расчет на личные свойства императора Карла V и на обстоятельства того политического момента. Шлитте представился императору в Аугсбурге в дни наибольшего торжества Карла-католика над протестантскими князьями Германии. Происходя сам из Гослара, протестантского города, Шлитте должен был засвидетельствовать перед Карлом, для успеха своего дела, свою ортодоксальность. Он сделал это очень ловко, представив католическому монарху возможность торжества не только над протестантами в Германии, но и над православием в Москве. Льстивое средство подействовало: император дал разрешение Шлитте приглашать нужных ему людей под условием, что никто из них не проникнет к туркам, татарам и вообще в нехристианские земли. Шлитте набрал 123 человека, по современному известию, «докторов, магистров и других ученых, колокольных, рудокопных и золотых дел мастеров, зодчих, гранильщиков, колодезников, бумажников (papirmaker), лекарей, типографщиков и других подобных художников». Все они были доставлены в Любек для дальнейшего следования на Русь, но здесь задержаны. Сам Шлитте был даже арестован в качестве якобы неисправного должника до уплаты долга городу Любеку и посажен в тюрьму; а пока шло дело о его освобождении, собранные им люди разбрелись. Предприятие таким образом расстроилось.
Причина этого заключалась, конечно, не в задолженности Шлитте. Набор мастеров и ученых для Москвы, шедший в Германии, огласился очень быстро Хорошо знакомые с московскими делами ганзейские руководящие сферы не поверили тому, что Москва согласна на соединение церквей, и учли все возможные последствия свободного обмена людей между Москвой и Западом. Из Ревеля официально писали в Любек, в центр Ганзейского союза, прося не пропускать Шлитте в Москву во избежание тех страшных бед, какие последуют не только для Ливонии, но и для всей немецкой нации, если московиты усвоят себе военное искусство и вообще технику Запада. Эта боязнь Москвы владела не одним Ревельским «ратом», но и другими соседями Москвы. Когда, убежав из Любека, Шлитте возобновил свою интригу в пользу Москвы не только в Германии, но и в Риме, играя все на той же идее церковной унии, то против него выступило и польское правительство. Оно в 1553 году послало к императору и папе специальные посольства с тем, чтобы объяснить им всю тщету надежд на сближение с Москвой. Совершенно справедливо поляки указывали на непримиримое отношение русских к папе и католичеству и на несбыточность союза с Москвой и против турок. Так же, как и ганзейцы, поляки боялись военного усиления Москвы и раскрывали перед папой те опасности, какие грозили бы Европе в случае чрезмерного усиления московского великого князя. Таким образом, благодаря интригам Шлитте, перед Европой впервые конкретно стал вопрос о «русской опасности» и о необходимости вести в отношении Москвы политику изоляции и репрессий. Как император, так и папа насторожились и на все те предложения союза и тесного сближения, какие Шлитте делал облыжно от имени Грозного, они отвечали или уклончиво, или же прямым отказом. Ганзейские же и ливонские города твердо усвоили манеру не пропускать через Московскую границу ни людей, которые могли бы «цивилизовать» Москву, ни товары, которые могли бы усилить боевую мощь московского государя. Москва протестовала против этой политики ливонских властей; в 1551 году она грозила им даже войной, если они будут стеснять на границах русскую торговлю и задерживать едущих в Москву иностранцев. При таких условиях русским оставалось всеми способами добывать нужных им техников помимо гласных и официальных путей, и наиболее удобным обходным путем, по-видимому, они считали Данию, под флагом которой можно было провозить с меньшим риском необходимых людей и грузы. Любопытен в этом отношении один случай, когда Москва получила необходимого специалиста именно от Дании. В 1535 году в войне с Литвой Москва впервые узнала прием штурма крепости посредством подкопа, мины: именно в этом году литовские войска взяли у Москвы город Стародуб с помощью «подкопа по подземелию ко граду». Московский гарнизон Стародуба погиб потому, что «того лукавства подкопывания не познали, что наперед того в наших странах не бывало подкопывания». В Москве решили перенять и усвоить «лукавство подкопывания» и ко времени взятия Казани (1552) уже имели у себя в войсках «немчина хитра, навычна градскому разорению», у которого были уже и «ученики», ведшие подкопы под Казань одновременно с учителем-немчином. По имени этого учителя, – Размуссен (москвичи произносили: Размысл), – заключаем, что он был датчанином, добытым Москвой из Дании. Это, конечно, не единственный случай сношений такого рода с Данией: известно, например, что в начале 1553 года Грозный обращался к датскому королю Христиану III с просьбой пропустить к нему в Москву какого-то Арнда «с цесаревыми людьми». По условиям того момента «цесаревы люди» не могли проникнуть в Москву ни через Ливонию, ни через Литву; оставался путь через Данию.
III
Так обострился в 50-х года XVI столетия вопрос о сношениях Москвы с Западом. Перенесенный в сферу политики, он получил неблагоприятное для Москвы разрешение. Но как раз в эти годы произошло в Московской жизни событие, на вид случайное, на самом деле стоявшее в тесной связи с общим ходом международной жизни Запада. Событие состояло в том, что в устье Северной Двины в 1553 году зашел английский корабль «Edward Bonaventure», в 160 тонн, принадлежавший к той экспедиции, которая была снаряжена компанией или обществом английских купцов для отыскания морского пути в Китай («Cathay») и Индию по северным морям. Такого пути найти не удалось; из трех кораблей два со всеми людьми замерзли в «становищах» на русском берегу Ледовитого океана, а третий, вместо Индии, попал к русскому Николаевскому Корельскому монастырю в южную часть Двинской дельты. Это было 24 августа. Капитан корабля Ричард Ченслер (Richard Chancellor) проехал с моря в главный русский поселок на Двине – в г. Холмогоры. Оттуда дали знать о появлении торговых английских «немцев» в Москву, а из Москвы последовал приказ доставить их в столицу. На зиму Ченслер с «гостями», то есть с купцами и с прочими спутниками, отправился в Москву, а его корабль с экипажем был укрыт в Унской губе, далеко врезанной в материк.
Появление англичан в Москве совпало с теми огорчениями, какие пришлось русским людям переживать от закрытия западной границы. Оно давало надежду на благополучный выход из создавшегося кризиса. Вместо балтийских гаваней и Смоленского рубежа, необходимые люди и товары могли проникать в Московское государство «Божьей дорогой – океан-морем» через Двинское устье. Притом английские корабли, как оказывалось, могли доставлять товары прямо из европейских гаваней без перегрузки в пути. До тех пор русские люди пользовались Беломорским путем лишь изредка для сношений с Данией. Из Белого моря они плыли вдоль Мурманского берега до Норвежского Дронтгейма (Трон-тьема), или даже до Бергена, а оттуда направлялись сушей до Копенгагена. Но эта дорога была сложна и неудобна; ею можно было пользоваться лишь в исключительных случаях и притом не для торговли, не для возки товаров. С появлением же англичан Беломорский путь, морем до Английских гаваней, обращался в наиболее удобный, совершенно независимый от враждебных соседей. Он создавал возможность прямых и правильных сношений с Западом как раз тогда, когда эти сношения насильственно прерывались на всех ранее действовавших путях. Понятна поэтому та радость и радушие, с какими были в Москве встречены английские гости, и та щедрость, с какой Московское правительство оказывало ласку и расточало льготы желанным пришельцам. В течение немногих лет англичане укрепили торговую связь с Москвой. У Николо-Корельского монастыря на острове Ягры в устье Двины они устроили свою пристань и поселок. Остров, где росло много диких красных роз, был назван «Розовым» (Rose Island). На нем стояли английские дома и амбары с товарами. Здесь происходила разгрузка кораблей; отсюда на мелких судах, «дощаниках» или «насадах», товар шел в Холмогоры и на Вологду; сюда же доставлялись русские товары для отправки в Англию. На всем пути между Холомогорами и Москвой, в главнейших городах, англичане получили усадебные места и построили дома и склады. Они особенно оценили Вологду, как лучшее место для склада английских товаров, так как «Вологда отлично расположена и торгует со всеми городами Московского государства», – и они построили там свою факторию, обширную, как замок, по выражению одного современника. В самой Москве у англичан была усадьба в Китай-городе на Варварке у церкви (и ныне существующей) Максима Исповедника. Во время пожара 1570 года (при нашествии крымцев) в строениях этой усадьбы погорело и задохлось около 30 англичан, мужчин, женщин и детей, из состава английской колонии в Москве. Кроме собственно торговых складов и поселений, англичане пытались устраивать и заводы для обработки русского сырья. Уже в 1557 году началась в Холмогорах постройка канатной мастерской с мастерами из Лондона. Немногим позже англичанам было дозволено устроить на р. Вычегде железоделательный завод для обработки обнаруженной там руды. Но все такого рода начинания играли лишь второстепенную роль в планах английских предпринимателей. Главное их внимание было устремлено на другие дела. Во-первых, они желали использовать природные богатства русского севера и, прежде всего, пушной товар; а во-вторых, они стремились через Московские владения связаться с азиатскими рынками и проникнуть до Китая и Индии. Обе эти цели они преследовали с необыкновенной энергией.
В короткий срок английские разведчики ознакомились с главнейшими путями в Поморье как на восток, так и на запад от Двины. Они успели проехать от Холмогор до Соловков, оттуда до устья р. Выга, Выгом до волоков к Повенцу, а затем озерами Онежским и Ладожским и р. Волховом дошли до Новгорода. С другой стороны они добрались сухим путем и на судах до р. Печоры, обследовав как морской ход до Печорской губы, так и речные маршруты Пинегой, Мезенью, Пезой, а равно и зимние пути между главнейшими населенными пунктами от Холмогор до Усть-Цыльмы и Пустозерска. Особенно интересовала их Лампожня на Мезени – место, где дважды в год бывала крупнейшая ярмарка русского Севера. Туда с Печоры и даже с Оби (Мангазеи) свозились русскими промышленниками и туземцами все виды пушного товара, оленьи шкуры и моржовая кость. Там эти товары скупались торговцами с Холмогор и развозились по всему Московскому государству. В этой торговле англичане приняли живое участие и доставляли в Лампожню свои сукна и металлические изделия в обмен на дорогие меха, которые отправлялись в Англию. Одновременно с исследованием края шло обследование берегов и островов Ледовитого океана. Мысль о возможности обойти Азиатский материк с севера продолжала занимать англичан, несмотря на неудачу их первого предприятия 1553 года, и они отправляли на поиски этого пути новые экспедиции. Особенно замечательны были в Северном море изыскания Стефана Борро, который в одно лето (1556 г.) побывал на Кольской губе, затем достиг Канина носа, Югорского шара, о. Вайгача и даже Новой Земли. Но его надежда добраться до устьев Оби не сбылась, и он вернулся на зимовку в устье С.-Двины. Из многих плававших в Ледовитом океане англичан Борро был наиболее научным и точным исследователем; благодаря ему, главным образом, был в Англии добыт материал для хорошей карты северных берегов России. В конце XVI века англичане, можно сказать, совсем освоились с русским Севером и целыми годами жили, торговали и промышляли не только в бойких пунктах, какими были Холмогоры и Лампожня, но и в таких далеких и глухих углах, каковы Усть-Цыльма и Пустозерск на Печоре.
Ко второй своей цели – проникнуть через Московию в Азию – англичане стремились с неменьшей энергией. Их пионером здесь был замечательный путешественник Антон Дженкинсон, оставивший интересные записки о современной ему Москве. До своего появления в России он много ездил по Европе, был в Турции, Палестине, северной Африке. Зиму 1557–1558 гг. он провел в Москве и добыл у царя разрешение на поездку в азиатские страны. Весной поплыл он Волгой на восток, имея конечной целью Китай. Из Астрахани, на одном корабле с персидскими и татарскими купцами, пошел он в море и высадился на полуострове Мангышлаке, откуда с большими приключениями добрался до Бухары. В Бухаре Дженкинсон зимовал и весной 1559 года замышлял ехать в Китай. Но постоянные войны и разбои кочевников закрыли ему на этот раз все пути, и он принужден был возвратиться в Москву. На первой попытке он, однако, не остановился. В 1561 году он снова явился из Англии в Москву и с царского разрешения отправился в Персию. На этот раз путь его из Астрахани лежал на Дербент и Шемаху. Он побывал в Тавризе, нашел шаха в Казбине, зимовал там и летом 1563 г. благополучно возвратился в Москву. Наблюдательный и образованный, Дженкинсон был одинаково способен на дипломатическую, коммерческую и научную работу. Его географические наблюдения и измерения, этнографические описания, торговые справки, дипломатические переговоры принесли громадную пользу английскому правительству и тем торговым организациям, с которыми он был связан. Историк и географ одинаково пользуются трудами Дженкинсона, как полезнейшим материалом для знакомства с обследованными им странами. Заслужив милость Ивана Грозного, Дженкинсон успел выхлопотать у него широкие привилегии для английской торговли не только в Холмогорах и Москве, но и в Казани и Астрахани, в Нарве и Дерпте; и, что всего замечательнее, он получил для английской торговой компании, к которой принадлежал, право беспошлинного провоза товара в Персию и Среднюю Азию (Бухару и Самарканд). За Дженкин-соном были направлены по азиатским маршрутам и другие агенты английской торговой компании (Т. Алькок, Д. Ренн, Р. Чейни, Р. Джонсон, А. Эдуардс). Московское правительство до времени поощряло все такого рода предприятия англичан: создавало монопольное право их торговой компании на беспошлинный торг по всему Московскому государству, дозволяло ей строить в городах свои фактории с широкой автономией, допускало и отдельных англичан селиться и торговать в стране, поскольку компания этому не противилась; наконец, оно охотно обращалось в Англию за необходимыми ему специалистами, которых оттуда и получало. Но это длилось только до тех пор, пока не явились вслед за англичанами в северные русские «пристанища» (гавани) корабли других наций. Тогда между английским правительством и московскими властями начался разлад. Англия настаивала на сохранении за ней права не только на беспошлинную торговлю, но и на исключительное пользование путем в Россию, а русские этого права не признавали, потому что просто его не понимали. Англичане говорили, что они «впервые на Русь дорогу нашли морем с великими убытки и томлением» и потому «иным не пригодитца на Русь ездити, которые ся не убытчили и не промышляли тем первым путем». В таком московском переводе излагалась английская грамота с притязанием на торговую монополию и с общим указанием на то, что «те, которые дорогу проложат и пристанища находят, в великой чести бывают, и их везде берегут, во всех замлях». На это московские дипломаты отвечали, что торговые льготы англичан внутри Московского государства ничуть не уменьшены, что от русской торговли англичане не убытки потерпели, а «торгуючи беспошлинно много лет, многие корысти себе получили», и что не было времени, когда бы англичане одни приходили на Русь из-за границы. В те годы, когда они одни приставали в устьях С. Двины, все прочие иноземцы пользовались Нарвской гаванью. Только с той поры, как Москва потеряла Нарву (1581 г.), указано было всем вообще иноземцам приходить на С. Двину, и для торга там был поставлен новый Архангельский город (1584 г.). В этих объяснениях была правда. Московские люди исходили из той мысли, что «великая божья дорога океан-море» всем одинаково доступна и ее «затворить» или «перенять» невозможно. Они знали, что в одно время с торгом англичан на Двине, с 60-х годов XVI века, начался торг голландцев в Печенге и Коле на Мурмане; и они понимали, что в данных условиях сохранение английской монополии на севере невыгодно для государства и просто неисполнимо: не гонять же было от гаваней приходившие туда для торга не английские корабли. Таким образом, англичанам приходилось помириться с тем, что по северному пути в Московское государство открылся доступ и другим нациям. Для англичан всего горше и вреднее оказалось на Руси соперничество голландцев, которые в ту эпоху шли быстрым шагом к решительному преобладанию на поприще мировой торговли. Известно, что голландцы впервые появились в Ледовитом океане не раньше середины XVI века. Первый голландский корабль, как говорят, пристал к Вардегузу на северном берегу Норвегии в 1564 году. В следующем 1565 г. голландцы побывали уже в Печенгской губе, а затем и в Кольской у селения Колы. В 1566–1567 годах два голландца фон Салинген и де Мейер из Колы через Кандалакшу и Онегу без особого разрешения, можно сказать, тайком проникли в Москву, побывали в Новгороде и благополучно вернулись на родину с барышом и с запасом ценных для них наблюдений. С тех пор в Коле начались правильные наезды голландцев, образовался их торг с русскими людьми, и голландцы с такой же энергией, как англичане, принялись изучать северное побережье Московского государства. Из их среды вышли исследователи, не уступавшие Дженкинсону и Борро. Названный выше Салинген более тридцати лет провел в изучении русского севера, научился говорить по-русски, завел знакомство со многими поморами, служил переводчиком для датского правительства в его сношениях с Москвой, составлял доклады и записки о русских делах для голландцев и датчан, приезжал послом от датского короля в Москву, наконец, составил географическую карту Скандинавии, Лапландии и Финляндии. Для голландцев и датчан он был полезнейшим осведомителем по русским делам. Еще замечательнее была деятельность брюссельца Оливера Брюнеля. На одном из первых голландских кораблей он молодым человеком прибыл в Колу и оттуда был послан в Холмогоры учиться русскому языку. По какому-то доносу он был взят; его отправили вглубь страны и бросили в Ярославскую тюрьму. По обычаю того времени, иноземный «полон», взятый на войне, из тюрем давали на поруки на работу в частные хозяйства. В состав «полоняников», по-видимому, попал и Брюнель: его «выручили» из тюрьмы и взяли к себе на службу знаменитые Строгановы. У них он стал торговым агентом и не один раз возил их товар, меха, на продажу за границу, в Антверпен и Париж. Это было в 70-х годах XVI века. Позднее Строгановы направили его на восток. Он дважды ездил в Сибирь, к устьям р. Оби, спускаясь в море по Печоре, и, таким образом, хорошо освоился с условиями плавания вдоль Сибирских берегов. В 1581 г. Брюнель устраивал чрезвычайно любопытную экспедицию. От имени Строгановых ездил он в Голландию приглашать опытных моряков на построенные Строгановыми два морских корабля. С ними Брюнель должен был, обогнув Сибирь, проникнуть в Китай. Начатое в 1584 году плавание, однако, не удалось из-за льдов, и вскоре после этого Брюнель покинул Строгановых и поступил на датскую службу. Своими точными и богатыми наблюдениями он много послужил своим сородичам в их сношениях с Россией. Между прочим, ему приписывают почин того, что голландцы нашли дорогу в устья С. Двины. В 1577 или 1578 году именно под его руководством Ян фан де Балле привел первый голландский корабль к Никольскому монастырю. За ним уже легко нашли туда же путь и другие голландские корабли. Однако, голландцы не стали соседями англичан у св. Николая. Они прошли Пудожемским устьем Двины верст на 15 далее и там устроили свою первую пристань, а позднее (1582 г.) продвинулись по реке еще выше до Архангельского монастыря, где Московское правительство начало тогда же строить «город» (то есть, крепость), а под стенами города «гостиные дворы» для товаров. С постройкой этого нового города «Архангельского», имевшего значение организованной пристани, последовал царский указ (1585 г.) о том, чтобы впредь иноземцы приходили со своими кораблями исключительно к Архангельску и чтобы они перенесли туда свои склады и дома – английские с Розового острова, а голландские с Пудожемского устья. С тех пор Архангельск стал главным, даже единственным московским портом на севере, ибо одновременно с его постройкой правительство закрыло Мурманские гавани (Колу и Печенгу) для иностранцев, допустив там торг только треской, палтусом и китовым жиром.
С образованием Архангельского города условия Московского торга для всех наций стали одинаковы. Правда, английская компания сохранила свою прежнюю привилегию беспошлинной торговли внутри Московского государства, чего не имели ее конкуренты. Но привоз товаров к пристаням, распространение их по городам, постройка факторий в крупнейших центрах страны, свобода передвижения торговых агентов, – все это было одинаково как для англичан, так и для голландцев. И те и другие могли проявить с полной свободой свою деловую ловкость, и надобно сказать, что голландцы очень скоро показали себя опасными соперниками. Уже первый голландский торговец, проникший в Архангельск, Ян ан де Балле (получивший в Москве имя Ивана Деваля Белоборода) привлек особое благоволение Ивана Грозного тем, что привез ему «узорочные», особенно ценные товары, «а аглинские гости николи таких товаров не приваживали». Чем далее шло время, тем действительнее становилась конкуренция голландцев и тем прочнее они оседали в самой Москве и других городах, пока, наконец, не получили явного перевеса над англичанами. Весь XVII век есть время непрерывных успехов голландцев в Московском государстве.
IV
Таким образом, совершилась эмансипация Москвы от ее западных соседей в деле сношений с Западной Европой. Легко доступные, ни от кого не зависимые англичане и голландцы сменили собой итальянцев и «немцев цесарские земли» (то есть, германцев), которых не хотел пускать на Русь правительства Ливонии, Речи Посполитой и Ганзейских городов. Но это не значило, что Москва вовсе осталась без притока людей через ее западную границу. Напротив, этот приток усилился во второй половине XVI века, благодаря Ливонской войне Грозного. В начале 1558 года произошел окончательный разрыв Москвы с Ливонией. Московские войска вторглись в Эстляндию и Лифляндию, разорили страну и повели из нее на Русь многолюдный «полон», который и обращали в рабство. Та часть пленных, какая попадала в распоряжение частных лиц, или продавалась ими на сторону, или же крепилась за самими захватчиками в их «дворах» в «кабальные холопи». В громадном большинстве это было инородческое (финское или латышское) простонародье, представлявшее собой грубую рабочую силу. «Полон» более высокого качества – люди, принадлежавшие к высшим классам Ливонии, или же, выражаясь современным нам языком, квалифицированные, – делались обычно пленниками государственными, «полоняниками в государеве имени». Их правительство брало в свое распоряжение, на свою «службу», и рассылало по всей стране, образуя из них, например, гарнизоны городов в восточных областях государства. Любопытные данные об участи таких пленных обращались в ту эпоху в Германии. В одной из деловых записок по Балтийскому вопросу, составленной для императора, определенно указывалось на то, что московский царь с пленными немцами обращается милостиво, именно 9000 ливонских полоняников вовсе не проданы в рабство, как о том шел слух, а расселены по разным городам. О таком способе размещения пленных есть кое-какие сведения и в русских документах. К тому же самому времени, к какому относится немецкая записка (к 60-м годам XVI века), приурочены и русские данные о маленьком укрепленном городке Лаптеве на Каме. Городок ЭТОТ был поставлен на переправах через нижнее течение Камы и командовал над ними, защищая Казань от вторжений инородцев с востока. В его гарнизоне было помещено 150 «полоняников посадских жильцов», наделенных «полоняничными роспашми», пашней «доброй земли» в значительном количестве. Такие полоняники, «немцы» и «литва», в Поволжских городах остались сидеть и после окончания Ливонской войны; очевидно, обжившись на «доброй земле», они уже не стремились на старую оседлость. По крайней мере, лет через сорок после их водворения на Волге «литва и немцы» продолжают состоять в гарнизонах того края. Такую участь – рядовой военной службы терпели простые солдаты, взятые Москвой на бою. Более знатные полоняники устраивались лучше: они получали в самой Москве соответственное их знаниям и способностям положение. Кажется, самый яркий пример того, какую карьеру могли сделать полоняники, представляют собой лифляндские дворяне Иоганн Таубе и Элерт Крузе. Они принадлежали к ливонской знати, принимали участие в борьбе с Москвой и попали в плен к Ивану Грозному. Обещанием служить ему и содействовать подчинению Ливонии они заслужили доверие Грозного и попали к царю в милость. Он сделал их своими дипломатическими агентами и при их посредстве вел переговоры с Ливонскими властями и Датским правительством. На них возлагались и военные поручения. После неудачи организованного ими нападения на Дерпт они, боясь опалы, решили изменить Грозному и перебежали в Литву к гетману Хоткевичу, которому и посвятили свой известный мемуар или «послание» о «неслыханной тирании» Грозного. Не менее шести лет служили эти полоняники Москве раньше, чем ее бросили, и это были годы (1566–1572) самого напряженного террора опричнины, которая, однако, не сделала им ни малейшего зла. Сохранились сведения, что Крузе пользовался особенными милостями царя: ему возвратили его семью, дали каменный дом и землю, назначили денежное жалованье и довольствовали натурой от царского двора, а самое главное – обещали поручать ему только «честные дела» (die ehrbare Sachen). Также и Таубе получил от царя большое поместье на Рязани, земли в Дерпской епископии, значительное денежное жалованье и иные подачки. Такое преуспеяние этих «епископских советников» из Дерпта было известно в Германии. Там знали, что еще большим благоволением, чем Таубе и Крузе, в Москве пользовались Адриан Кальб и Каспар фон Эберфельд из того же Дерпта. Об Эберфельде шел даже такой слух, что по особому доверию к нему царя он постоянно призывался в боярскую думу и не раз отваживался беседовать с царем о преимуществах протестантского вероучения. Называли также в числе пленников, принятых в Москве с лаской и почетом, дерптского пастора Веттермана, которому царь поручил ознакомиться с греческими, латинскими и вообще иноязычными книгами царской библиотеки. Можно назвать еще много других имен ливонцев, живших на службе и иждивении Московского правительства и не терпевших в своем плену ни гонений, ни особой нуджды. Их и не могло быть мало, потому что Грозный в завоеванной им стране применял иногда так называемый «вывод», то есть массовое переселение жителей покоренного города внутрь Московского государства. Так он поступил в 1565 году с Дерптом: велел оттуда вывести «бурмистров и посадников и ратманов всех немец за их измены в Володимир, на Кострому, в Нижний Новгород, на Углич». Царь объяснял эту меру тем, что немцы из Дерпта «ссылалися с маистром Ливонским, а велели ему притти под город со многими людьми». Таким образом в первые же годы ливонской войны Москва и другие русские города увидали у себя ливонский «полон» в весьма достаточном количестве.
Но «полон» не был единственным источником, из которого тогда поступал на Русскую Землю с ее западного рубежа иноземный элемент. В первые же месяцы Ливонской войны, в мае 1558 года, московские войска взяли Нарву и таким образом Москва получила в свое обладание одну из лучших гаваней на восточных берегах Балтийского побережья. Значение ее Московское правительство понимало очень хорошо; по выражению исследователя Балтийского вопроса Г. В. Форстена, Нарва была любимым детищем Грозного. Русские быстро восстановили город, пострадавший от пожара и штурма, навели мост через Нарову и таким образом соединили Нарву с Ивангородом. Окрестным жителям русские воеводы помогли оправиться от разорения, выдав им зерно, лошадей и скот. Жители самой Нарвы получили свободу «жити по своим местом»; попавшие при штурме в плен были отпущены из плена; весь вообще нарвский «полон» велено было сыскать, «который был еще не распродан по иным землям», и вернуть в город. Городу было даровано право свободной и беспошлинной торговли с Московским государством и дана возможность торговать и сноситься с другими странами. В Нарвскую гавань всячески привлекались иноземцы, им обещали личную безопасность и всякие льготы для торга. К Нарве должна была перейти прежняя роль Новгорода, бывшего главным пунктом товарообмена между Русью и иноземными рынками Балтийского бассейна в Германии.
Появление русских в Нарве и открытие ими Нарвской гавани для свободного торга произвело сильное впечатление в заинтересованных кругах Германии и Скандинавских государств. До этого момента вся ганзейско-русская торговля была в руках ливонских городов и более всего Ревеля, который всячески противодействовал развитию торговли Выборга и Нарвы с московскими купцами. Ревель и теперь вооруженною рукой начал бороться с «Нарвским плаванием», задерживая силой корабли, шедшие в Нарву, и искал себе поддержки и союзников в соседних государствах. Отсюда его тяготение к Швеции, отдавшее в конце концов всю Эстляндию шведам. Наоборот, чрезвычайную радость открытие Нарвской гавани вызвало в Любеке и вообще в западных ганзейских городах. Оттуда в Нарву охотно посылались корабли, которые миновали теперь Ревель и шли прямо по назначению, избегая остановок и перегрузки в Ревеле и избавляясь от связанных с этим лишних расходов. Равным образом и датские корабли направлялись в Нарву независимо от тех колебаний, какие происходили в политических отношениях Дании и Москвы. Узнали о возможности свободного торга в новой Московской гавани и голландцы, а равно и английские купцы из тех, кто не входит в состав английской компании, обладавшей торговой монополией в устьях С. Двины. Даже шведский король Эрик, поддерживая Ревель в его борьбе против Нарвы, смотрел сквозь пальцы на то, что его шведские и финляндские подданные ездили в Нарву и выгодно вывозили оттуда необходимые шведам товары. Словом, «Нарвское плавание» получило сразу очень важное значение, ибо оно открыло Европе новый путь для получения русского сырья, бывшего, по современному выражению, неисчерпаемым источником благ. Нарва стала оживленным портом, и на путях к ней закипала ожесточенная борьба. Как противники, так и защитники «Нарвского плавания» действовали насилием, держали в море каперские суда и грабили своих противников и конкурентов. Москва в этом отношении не отставала от других: и она имела на Балтийском море своих каперов для защиты шедших в Нарву торговых судов. Распоряжался ими «корабленик» немчин Керстен Род (Carsten Rode): он захватывал всех тех, кого считал врагами царскими и своими, и действовал столь же разбойнически, как и прочие каперы, почему и попал в конце концов в Датскую тюрьму. Несмотря, однако, на все опасности плавания и риск понести убытки по дороге на новый русский рынок, Нарва привлекала к себе много торговцев и стала, как и Двинское устье, оживленным местом товарообмена между средней Европой и Русью до тех пор, пока Москва ею владела, то есть до 1581 года.
V
Итак, с 50-х годов XVI века в Московском государстве произошел массовый наплыв западноевропейцев. Англичане в Поморье, в Вологде, в Ярославле, в самой Москве; они же на путях в Среднюю Азию; они же в Нарве и Новгороде; голландцы в Мурманских гаванях, на С. Двине и вслед за англичанами по всему пути от Холмогор до Москвы; они же в Нарве и Новгороде; «немцы» из Ливонии – полоняники, рассеянные по всему государству, жившие целыми общинами со своими пасторами и молитвенными домами; немцы-купцы из Германии и Ливонии, проникавшие через Нарву и другими путями на русские рынки, открытые для них, несмотря на войну, – весь этот люд был необычной новинкой для Москвы и ее внутренних областей. Он не мог остаться без влияния на русских людей и прежде всего на придворные и торговые круги. Сам Грозный, с его острым умом и нервной впечатлительностью, подпал под обаяние любопытных пришельцев. В записках бывших в Москве при Грозном англичан встречаются ценные на то указания. Царь не ограничивался милостивым благоволением в условиях этикета: он легко вступал и в приватное общение с английскими дипломатами и торговыми агентами. Так, встретив в Кремле на водосвятьи (6 января 1558 года) англичанина Дженкинсона, царь узнал его, несмотря на то, что на Дженкинсоне было русское платье, и вступил с ним в разговор? пригласив его лично к своему обеду. Когда, полтора года спустя, Дженкинсон вернулся в Москву из Бухары, царь за обедом беседовал с ним о странах, откуда тот прибыл. Англичанина Горсея он в частной беседе расспрашивал о военном флоте Англии и затем приказал дьяку Елизару Вылузгину записать сообщенные Горсеем сведения. Горсей, если только ему верить, утром того дня, когда царь умер, видел его в его домашней обстановке в кругу ближайших его придворных. Грозный при нем рассматривал дорогие каменья в своей казке, не предчувствуя близкой кончины. Из официальной записи конца 1583 года известна беседа Грозного с английским послом Боусом, вышедшая за пределы делового обмена мыслей. Царь похвалился послу теми вещами, какие ему продал голландский купец фан де Балле (по-московски «Иван Белобород»): «сняв с руки, государь показал послу перстень» и указал ему на «запону, которая на колпаке, – изумруд большой», да говорил, что «английские гости николи таких товаров не приваживали». Английский посол перстень поцеловал с похвалой и очень высоко оценил запону на колпаке (то есть застежку на царской шапке). Эта мелочь свидетельствует о степени той непринужденности, с какой царь обращался с иноземцами, и того расположения, какое он к ним питал. Любопытно, что когда Грозный скончался, то его дьяк А. Щелкалов приказал о том известить Боуса словами: «ваш английский царь умер»; он не стеснялся этой насмешкой осудить излишнюю, по его мнению, склонность царя к англичанам. Не один Щелкалов был недоволен отношением Грозного к иноземцам. Когда в милость к царю вошел прибывший из Англии медик и астролог Елисей Бомелий, это вызвало общий соблазн (1570). Бомелий оказался большим интриганом и ловким пройдохою. Он, как говорится, обошел Грозного, втерся в его доверие, гадал ему, как «звездочет», и служил ему ядами для отравления опальных людей. Его считали опаснейшим клеветником и вредным советником у царя. Ему приписывали гибель многих бояр; думали, что он навел Грозного на мысль жениться на английской королеве Елисавете. Его влияние на Грозного считали необычайным и радовались, когда он сам был обвинен в «измене» и мучительски казнен (1580). Известность Бомелия была настолько широка, и слава о его могуществе так шумела, что даже глухая провинциальная летопись того времени повествовала о нем в эпически-сказочном тоне. По летописи, враги Москвы, немцы и литва, хитростью подослали к Грозному Бомелия – «немчина, лютого волхва, нарицаемого Елисея, и бысть ему любим в приближении, и положи на царя страхование и (царь стал) выбеглец от неверных нахождения, и конечно был отвел царя от веры: на русских людей царю возложи свирепство, а к немцам на любовь преложи». Враги Грозного «узнали своими гадании, что было им до конца разорении быти, того ради такового злого еритика и прислаша к нему». И они рассчитали верно: еретик Бомелий «много множества роду боярского и княжеска взути (возбудил) убити цареви, последи же и самого приведе на конец, еже бежати в Аглинскую землю и тамо женитися, а свои было бояре оставите побити». Злодейское влияние Бомелия было, по летописи, пресечено боярами, которые, наконец, самого его «смерти предаша». Такие представления о московских событиях ходили в далеких от Москвы областях. Московский же дьяк, писатель той эпохи, Иван Тимофеев, судил о деле более здраво, хотя и более осторожно. Он коротко говорит, что Грозный своих вельмож избил или изгнал в иноверные земли, а в их место «возлюбил» иностранцев: одних «богатил» щедрыми подачками, а кое-кого сделал и своими поверенными советниками. Были и такие, кто был приближен царем по его «врачевной хитрости» (намек на Бомелия); но они, вместо здоровья, приносили ему душевный вред и «ненавидение ему на люди его». Тимофеев удивляется, что царь, «толикий в мудрости», был побежден не врагами, а только «слабостью своея совести», и сам вложил свою голову «в уста аспида». «Увы! – восклицает он, – вся внутренняя его в руку варвар быша»; они делали с ним все, что хотели! Таково было представление о Грозном у людей, видевших своими глазами московскую жизнь и дворцовую обстановку его времени. Очевидно, что значение иностранцев в Москве за время Грозного выросло настолько, что стало вопросом для москвичей и давало им повод обвинять царя в отпадении от старого обычая в сторону новоявленной иноземщины.
Сами иностранцы с особым ударением отмечали ту свободу, с какой Грозный выходил из рамок этикета и официальности в общении с ними. Если даже не верить Горсею, который мог из хвастовства преувеличить свою близость к царю, то нельзя не дать веры, например, английскому послу Томасу Рандольфу в его любопытнейшем сообщении о ночном свидании с Грозным (в феврале 1569 г.). Царь пожелал говорить с ним секретно и вызвал его, несколько дней спустя после открытой аудиенции, поздним вечером через ближнего доверенного боярина. «Место свидания было далеко (говорит Рандольф), ночь холодная, и я, переменив свое платье на русское, испытывал от этого большое неудобство; я говорил с царем около трех часов, к утру был отпущен и возвратился домой». В этом необычном свидании обсуждались и решались вопросы политические и коммерческие вне всяких привычных официальных форм; формы же были соблюдены позднее, через несколько недель после ночного свидания. Отмечали иностранцы и ту свободу, с какой Грозный обращался в разговорах с ними к религиозным темам. В Любеке, центре германской торговли с Нарвой и Москвой, в 60-х годах XVI века, рассказывали, что Грозный любит с ливонскими пленными касаться церковных вопросов, рассуждает о различиях православия и католичества и будто бы серьезно думает о соединении церквей. Указывали на то, что дерптский пленник Эберфельд свободно раскрывал перед царем преимущества протестантского вероисповедания, что пастор из Дерпта же Иоганн Веттерман был допущен в собственную библиотеку Грозного для ознакомления с ее теологическими сокровищами, что Грозный с полной терпимостью дозволял отправление протестантского богослужения и разрешил постройку кирки для пленных немцев, Такого рода сообщения оправдываются документами, не вызывающими сомнения. Известен эпизод с богословом Яном Рокитой, принадлежавшим к секте «моравских братьев». В числе прочих членов этой секты он ушел из Чехии в Польшу, а оттуда в свите литовского посольства к Грозному в 1570 году попал в Москву. Представленный Грозному, он удостоился долгой с ним беседы «о вере» и, конечно, не сошелся с православным царем в своем исповедании. Оба собеседника потом положили свой спор на бумагу: Рокита изложил прение с царем по-польски, и его труд был опубликован в латинском переводе в 1582 году; царские же речи до XIX века оставались в рукописном виде и обращались в руках московских и западно-европейских книжников. Трудно сказать, сам ли Грозный записал их или же это было сделано кем-либо другим по его приказанию. Но самый факт прения царя с пастором остается вне сомнения, как и данная Роките возможность свободного изъяснения пред царем своего сектантского учения. Впрочем, Грозный не всегда выдерживал эту манеру религиозной терпимости. Существует рассказ и о том, как пострадал в разговоре с царем пастор, не в добрую минуту сравнивший Лютера с апостолом Павлом: царь, будто бы, ударил его палкой по голове и сказал ему: «ступай к чорту со своим Лютером». Можно думать, что проявления терпимости и доброго внимания к иноверцам диктовались Грозному не столько его внутренним интересом к церковным различиям, сколько соображениями практического характера. Нельзя, конечно, допускать мысли о том, чтобы царь хотя бы на один миг поколебался в своем московском православии. В отношении протестантских учений, для царя новых, возникших только в его эпоху, направленных против католичества (как и само православие было направлено против католичества), – Грозным могло руководить любопытство и живое желание узнать новое религиозное движение. Что же касается до «римской веры», то прение о ней могло быть царем допущено только в силу обстоятельств. Именно так и было с знаменитым папским послом Антонием Поссевином. Он был направлен в Москву в целях мирного посредничества между Грозным и Баторием с указанием всячески стараться о соединении церквей и подчинении Москвы видам папского престола. С самой первой минуты появления Поссевина на московской почве вопрос «о вере» стал предметом опасений для Грозного. Приставу, посланному встретить Поссевина на границе (в июле 1581 года), было уже указано уклоняться от разговора на исповедные темы: «а будет (Поссевин) учнет задирать и говорить о вере о греческой или о римской, и (приставу) Залешенину отказати: грамоте не учивался; да не говорить ничего про веру». По приезде же Поссевина в Москву и сам царь всячески откладывал обсуждение церковных вопросов, выдвигая на первый план политические дела, ради которых явился Поссевин. Он отсылал Поссевина к Баторию за миром и обещал, что когда мир будет достигнут, «тогда мы тебе дадим знать о вере». Но и тогда, когда было достигнуто перемирие, и Поссевин снова явился в Москву (в феврале 1582 года), Грозный не склонен был вступать с ним в богословскую беседу. Поссевин же своей основной задачей полагал выяснение возможности церковной унии Москвы с Римом и потому настаивал на том, чтобы царь хотя бы раз выслушал его речи об унии («штоб хоти одновчи послухал Антонья наодинове», как было сказано «в тетрадях», поданных Поссевином бояром). Грозный отказался слушать иезуита «наодинове», без свидетелей, но не счел удобным вовсе лишить его желаемого им разговора. Разговор произошел при немногих свидетелях и был официально записан московскими дьяками. По этой записи совершенно точно выясняется поведение царя. Он отказывался говорить о вере по двум основаниям: во-первых, он не имеет на то «благословения и рукоположенья» православного духовенства, а во-вторых, боится нарушить политическое согласие богословской ссорой. Но «посол Антоций упрямился» и «говорил государю с докукою, что брани некоторые в том не будет, а захотел с государем говорите о вере». Уступая упрямству Поссевина, Грозный не прекратил беседы, но свел ее к пустякам, прямо объяснив, что «мы больших дел говорите с тобою о вере не хотим, чтобы тебе не в досаду было». Умышленно начал он с малого вопроса, почему Поссевин стрижет свою бороду, хотя это и «не велено»: «ты в римской вере поп, а бороду сечешь, и ты нам скажи, от кого ты то взял и от которого ученья?» Когда Поссевин пресек этот насмешливый сюжет заявлением, что «он бороды не сечет, не бреет», Грозный перешел к другому сюжету, столь же малому, о том, что папе кланяются земно, а «на сапоге у папы крыж (крест), а на крыже распятие». По мнению Грозного, «нельзя целовать папу в ногу», также нельзя «крест ниже пояса носити», «ниже пояса всякой святыни быть непригоже», а у папы «от гордыни такой (неприличный) чин установлен». Поссевин объяснил, почему папе воздается такой почет, и в знак того, что земно почитать надлежит не одного папу, сам «в ноги ко государю Антоней поклонился». Но Грозного это не тронуло: он нашел, что вообще «в ноги людям падать непригоже», и что папа должен не гордиться, а «показывать смиренья образ»; а «который папа не по Христову ученью и не по апостольскому преданью почнет жити и тот папа волк есть, а не пастырь». На этом Поссевин убедился, что прока от беседы не будет, «и перстал говорити: коли де уж папа волк, и мне что уж говорити!». И Грозный тогда заметил: «яз тебе даве ж говорил: коли нам говорити о вере, и нам без раздорных слов не будет». Он милостиво отпустил иезуита, погладив его рукой и дав ему ее поцеловать[1 - У Грозного была манера таким образом выражать свое благоволение и ласку; так, например, он приласкал в 1570 г. герцога Магнуса при конце аудиенции: похлопал его по плечу и стал уверять в своей любви к немцам. Официально это выражалось словами: «положив руку свою на него и пожаловал его».]. Нельзя отказать царю в полемической ловкости: умышленно держась на «малых делах» и не допустив «больших дел говорити о вере», он в сущности вовсе уклонился от обмена мыслей об унии и оставил иезуита, а за ним и папу Григория XIII безо всякого удовлетворения. Менее всего можно видеть в поведении царя наивность и простодушие; можно поспорить лишь о том, что в нем преобладало: расчетливое лукавство или свойственная Грозному склонность к шутке и издевательству. Поссевин, по-видимому, усмотрел последнее: в дальнейших разговорах с Грозным он только слушал царя, но воздерживался от речей, хотя и не скрывал своего недовольства.
VI
Таков был сам царь Московский в его отношении к иностранцам. Из всего сообщенного выше ясно, что он не чуждался их и привык к ним, находился в постоянном с ними общении и часто показывал к ним расположение и ласку. Эта ласка, по мнению москвичей, иногда переходила всякую меру; они удивлялись и негодовали по поводу той близости, какую допускал государь в своем знакомстве с «варварами»; вспомнили слова Тимофеева: «вся внутренняя его в руку варвар быша». К сожалению, у нас почти совсем нет материала для того, чтобы судить, как глубоко и широко шло иноземное влияние в различных слоях московского населения. Конечно, придворная и служилая среда, окружающая Грозного, вместе с ним привыкала к общению с представителями европейских правительств и торговых организаций. В дипломатических сношениях с ними в самой Москве («в ответех», как тогда говорилось), равно в поездках к иностранным дворам приобретались новые знания и навыки и формировались такие типы, каким был, например, Федор Писемский, профессиональный дипломат времени Грозного. Он происходил из галичских дворян, попал в 1550 году в дворяне Московские, участвовал в покорении Астрахани, не раз бывал в посольствах в Крым и в Польшу, участвовал в переговорах с Поссевином, был на съезде со шведскими послами (1590), наконец, правил посольство от Грозного к королеве Елисавете Английской (в 1582 году). Ему случилось еще в молодых годах попасть в плен к ливонцам, и он поразил их своими знаниями и умом. Он, по их отзыву, владел латинским, греческим, польским и русским языками и отчасти разумел по-французски и по-немецки, и был очень умен и понятлив. Так как нет никаких оснований думать, что Писемский провел свою молодость за границей, то остается предполагать, что его знания приобретены были в Москве, и притом в раннюю пору – в 50-х годах XVI века (в плен он попал в 1559 году). По-видимому, Писемского смолоду готовили к дипломатической службе, в которой он и получил свою историческую известность. Иначе приобретали образование другие его современники. У Курбского есть любопытнейший, хотя, к сожалению, немного сбивчивый рассказ о двух казненных Грозным лицах из рода Лыковых. Вкратце Курбский так восстанавливает перед читателем биографии Лыковых. Один из них, Михаил Матвеевич Лыков, в детстве попал в плен к «королю старому Сигизмунду». Его отец Матвей Лыков погиб при взятии Сигизмундом-Августом Радогоща в 1534 году, семья же его уцелела и в Польше у короля содержалась очень хорошо. Король повелел «их не токмо питати во своих царских палатах, но и доктором (ученым) своим повелел их научити шляхетских наук и языку римскому». В 1542 году московские послы в Кракове «упросиша их у короля во отечество», и два брата Лыковы, Иван и Михаил, вернулись в Московское государство, где и служили отечеству «неблагодарному и недостойному ученых мужей», по выражению Курбского. Курбский упомянул о Лыковых в своей «Истории о великом князе Московском» потому, что, по его сведениям, Михаил Лыков был казнен Грозным. С ним вместе был убит и его «ближний сродник», имени которого Курбский не приводит, но который для нас даже более интересен, чем другие Лыковы. По описанию Курбского, это был «юноша зело прекрасный»; он «послан был на науку за море, во Ерманию, и тамо навык добре алеманскому языку и писанию: бо там пребывал, учась, не мало лет и объездил всю землю Немецкую, и возвратился был к нам в отечество». Это сообщение Курбского устанавливает любопытнейший факт посылки за границу для науки московского «юноши» в середине XVI века[2 - В брошюре проф. В. И. Саввы «несколько случаев изучения иностранных языков русскими людьми во второй половине XVI века» (Харьков, 1913) указываются посылки и поездки москвичей за границу для изучения языка. Большинство посылок – на Восток для греческого языка; поездки же на Запад, по-видимому, были тогда еще очень редки.].
Можно ограничиться приведенными примерами для того, чтобы удостоверить в данную эпоху факт некоторого сближения высших слоев московского населения с иностранной, западно-европейской культурой. Но можно говорить еще и о том, что при Грозном низы московского населения также стали привыкать к общению с «фрягами» и «немцами». Весь рабочий люд, живший и трудившийся тогда на путях торгового оборота Москвы с заграницей, вступил в деловые связи с иностранными купцами, служил им на пристанях и судах, на сухопутных дорогах и в гостиных дворах, словом, всюду, где двигался и хранился заморский товар. Население тех городов, куда внедрялись на житье или на службу пленные «немцы», привыкало видеть их на улицах и рынках, даже в собственных домах на временном постое. В самой Москве всего больше было на житье таких иноземцев, невольных колонистов, брошенных судьбой в распоряжение московской власти. Они были поселены где-то «на Болвановке близь Москвы» (по определению Горсея), вернее всего, в Замоскворечьи, а затем в особой «слободе» на берегу речки Яузы, где с 1575–1576 гг. у них была своя протестантская церковь. Один из современников, поляк Немоевский, говорит про эту слободу, что в ней было построено около полутораста халуп (хат), по московскому обычаю с черными избами, над рекой Яузой; на реке же под заборами стояли городские мельницы. Кроме особо отведенных им мест, иноземцы, по-видимому, имели возможность селиться и двигаться в самой Москве, в различных ее кварталах, если только не подлежали, по службе или по иным причинам, прикреплению к какой-либо «слободе» или «двору». Любопытные бытовые черты записаны в дневнике датского посла Акселя Гюльденстиерне, бывшего в Москве с герцогом Гансом в 1602 году. Он пишет, между прочим, что в первое время по приезде герцога в Москву его со свитой поместили на большом подворье у самого Кремля, а затем отвели датчанам еще несколько дворов по соседству, образовав из них одну усадьбу. Сначала неохотно разрешали людям герцога ходить по городу; но затем датчане «не стали ни у кого спрашиваться и шли, куда хотели, гулять или делать покупки». Им в этом не мешали, но запрещали русским и жившим в Москве немцам разговаривать с датчанами без казенного толмача, даже арестовали некоторых немцев за то, что они нарушили запрещение. Но это не помогло: «наши люди и местные немцы все же украдкой сходились поговорить между собой» (говорит посол). Тогда русские «позволили нашим дворянам и прислуге ходить и ездить верхом по городу, куда им угодно, с тем, однако, чтобы они брали с собой пристава; это и соблюдалось два-три дня, а после того всякий выезжал и уходил, куда хотел без пристава». Как известно, принц Ганс умер в Москве и был погребен у протестантской кирки в немецкой слободе на Яузе. При подробном описании похорон посол упоминает, между прочим, о том, что при следовании торжественной похоронной процессии от датского подворья в слободу «немецкие дворяне, воины и купцы, как московские, так и из немецкой слободы, присоединились к процессии частью в городе, частью за городом и провожали тело до места погребения; множество немецких дам, девиц и горожанок тоже встретили погребальное шествие частью вне церкви, частью в церкви».
Все эти подробности живо рисуют нам жизнь при Борисе Годунове немецкой колонии в Москве, многолюдной и мало стесненной. Можно думать, что такова же была эта жизнь и при Грозном. Раз только, в последние годы своей жизни, Грозный «опалился» на немцев, живших в немецкой слободе, и учинил в ней жестокий погром, после чего, однако, слобода оправилась и зажила прежней жизнью. Посторонний наблюдатель этой своеобразной протестантской общины, католик Маржерет рисует быт этой слободы любопытными чертами. Он говорит о ливонцах, поселенных в слободе, что «потеряв отечество и имущество, сделавшись рабами народа грубого и жестокого, под правлением государя самовластного, они, вместо смирения по причине таких бедствий, вели себя столь гордо, поступали столь высокомерно, одевались столь роскошно, что казались принцами и принцессами; женщины, посещая церковь, наряжались не иначе, как в бархат, атлас, камку; самая последняя носила тафтяное платье, хотя ничего более не имела». Источником благосостояния слободы была, по Маржерету, торговля, в особенности торговля вином, корчемство. Такие подробности свидетельствуют как будто о чрезвычайно благоприятной материальной обстановке: иноземец в Москве в XVI веке мог жить, что называется, припеваючи, не терпя особых стеснений ни от правительства, ни от окружающей среди, доступной его общению и эксплуатации. Только грубая уличная толпа иногда оскорбляла насмешками и бранью непривычных для нее иноземцев, усвоив для них поносительные прозвища и самую их слободу прозвав неофициальным именем «Кокуй».
VII
Областью материальных и практических заимствований и сношений не ограничивалось общение Москвы с культурным Западом. С Запада на Русь в XV–XVI вв. проникали и те идеи, на которых вырастало миросозерцание эпохи Возрождения. Но там, на Западе, это миросозерцание имело блеск и силу утреннего солнца, ярко светившего пробужденному разуму; здесь же на Руси оно пока мерцало редкими зарницами, не разгонявшими ночного мрака и страшившими косное суеверие массы. Удаленная ото всех культурных центров, задавленная борьбой за самое существование народности, порабощенная татарщиной, «Москва XV века (по словам проф. М. Н. Сперанского) вырабатывает однобокий, отсталый тип средневекового миросозерцания на основах непонятого или дурно понятого византивизма: религиозная, позднее национальная, исключительность, формальное отношение к идеям религии, буквалистика, обрядность, отсутствие образования, заменявшегося лишь начетничеством, – все черты общего средневекового склада ума, но доведенные до односторонности, подчас уродливости». Это «направление, властно проводимое в жизнь церковью и Государством в тесном их союзе», возбудило против себя реакцию прежде всего там, где русские люди соприкасались с западноевропейцами – на западных рубежах Руси, именно в Новгороде и Пскове. Не говоря о мало известной ранней ереси «стригольников», позднейшее движение «жидовствующих» несомненно заключало в себе элементы западно-европейского рационализма. Оно широко охватило круги новгородских книжников, перекинулось в Москву и проникло даже в руководящую правительственную среду. Необходимы были особые усилия иерархии и светской власти для того, чтобы справиться с «ересью» и подавить ее. Ересь была осуждена; ее исповедники пострадали, но созданное ими настроение критики и скепсиса в отношении догмы и церковного строя не умерло. Оно передалось в другие круги, менее радикальные, не шедшие на ересь и отступничество, но склонные верить лишь тому, что «согласно моему разуму к благоугождению божию и к пользе души». В этих кругах работа мысли приводила к желанию знать не только свою письменность, но и западную, относящуюся к делу литературу. Поэтому вырос интерес к переводам, которые предпринимались даже официально. На рубеже XV и XVI веков было переведено несколько богословских книг, ученых трактатов («Логика и «Космография») и астрологических сочинений. «Начало обновления идейной жизни Московской Руси было таким образом положено» (говорит М. Н. Сперанский): «уже к половине XVI века в Москве ясно намечаются результаты этой работы». Становится явной борьба двух направлений, прогрессивного и консервативного. Сторонники обоих одинаково чувствуют, что «старое отошло», но разно понимают, чем надлежало бы его заменить. Одни тянутся к Западу, «постепенно увеличивая запас западной литературы в обиходе русской и тем подготовляя окончательное торжество западной культуры на Руси». Другие стремятся «сдержать порывы вольнодумцев, доказать их ненужность, доказать, что старые основы не отжили, что они живы, только затерты небрежением». Не заимствование со стороны, но обновление своих старых устоев становится задачей этого направления, к которому принадлежал сам Грозный и его духовный пестун митрополит Макарий[3 - Цитаты взяты нами из любопытнейшего очерка М. Сперанского: «Идейные движения в старой Москве» (в сборнике «Москва в ее прошлом и настоящем», часть II, вып. 4-й, изд. Т-ва «Образование»).]. Но именно на Грозном и видна сила новых культурных веяний в московской жизни. Охранитель ветхих верований и идеалов, он сам настолько подался в сторону «варварской» новизны, что возбудил, как мы видели, изумление и негодование московских националистов, считавших, что «вся внутренняя его в руку варвар быша». Младенческое состояние культурно-политической мысли в ту эпоху не могло установить внутреннюю связь между различными сторонами жизни: боясь новшеств в сфере идей и верований, охотно шли на материальное заимствование со стороны.
VIII
Грозный умер в начале 1584 года. С его смертью окончился террор, потрясавший Московское государство, и власть перешла в мягкие и ловкие руки Бориса Годунова. Воспитанник Грозного, Борис не воспринял от него наклонности к тирании и террору, но усвоил многое из его политической системы и, между прочим, его интерес и любовь к продуктам западной культуры. Все иностранцы в один голос говорят о большой любезности к ним Бориса. Он принимал чрезвычайно милостиво тех иностранцев, которые по нужде или по доброй воле попадали в Москву на службу, для промысла или для торга; он много и часто беседовал с своими медиками иностранцами и с дипломатами европейских государств; он отличался религиозной терпимостью ко всем протестантским толкам. Он, далее, умел ценить науку и ученых: как при Грозном, при Борисе принимались меры к вызову на Русь ученых и техников, и за границей прошла молва даже о том, что Борис желает устроить в Москве университет. Борис, наконец, настойчиво желал породниться с какой-либо европейской династией и дважды начинал сватовство дочери Ксении с принцами шведским и датским. К сожалению, оба сватовства были неудачны. Шведский королевич Густав, которого изгнали из Швеции и пригласили в Москву «на удел», оказался человеком неудобным и непристойным; он не склонен был ради Ксении изменить ни своей религии, ни своей морганатической привязанности, которую привез с собой из Данцига; поэтому его пришлось удалить с царских глаз в Углич. Датский королевич, герцог Голштинский Ганс был много лучше; но, прибыв в Москву, он месяца через полтора расхворался и умер. Состоявший при нем датский посол Аксель Гюльденстиерне свидетельствует о необыкновенной ласке Бориса к посольству и о сильной печали его от утраты герцога: со слезами причитал Борис у гроба: «Ах, герцог Ганс, свет мой и утешение мое! по грехам нашим не могли мы сохранить его!» Царь будто бы от плача едва мог говорить.
При Борисе Московское правительство впервые прибегло к той просветительной мере, которая потом вошла в обычай. Оно отправило за границу «для науки розных языков и грамоте» нескольких «русских робят», молодых дворян. Они должны были учиться «накрепко грамоте и языку» той страны, в которую их посылали. Документально известно о посылке в Любек пяти человек и в Англию – четырех. По свидетельству же частному, было послано всего 18 человек, по шести в Англию, Францию и Германию. Любопытно, что из посланных с ожидаемыми результатами не вернулся никто. Некоторые умерли; другие оказались «непослушливы и поучения не слушали», даже от учителей «побежали неведомо за што»; а кое-кто, усвоив «поученье», остался навсегда за границей. Один из таких Никифор Алферьевич Григорьев стал в Англии священником, «благородным членом епископального духовенства», и, дожив до старости, во время пуританского движения (1643) даже пострадал за стойкость в его новой вере, лишась прихода в Гентингдон-шире. Напрасно московские дипломаты пытались за границей заводить речь о возвращении домой таких отступников: ни сами «робята», ни власти их нового отечества не соглашались на возвращение их в Москву[4 - Любопытные данные об этих «русских робятах» за границей собраны в труде Н. В. Голицына «Научно-образовательные сношения России с Западом в начале XVII века» (Чтения в Моск. Общ. Ист. и Древн.» 1898 г).]. В свою очередь, московские власти при Борисе готовы были оказывать гостеприимство иностранцам, приезжавшим в Москву не для прямого практического дела, а с целью, например, изучения языка, и даже из простой любознательности – «для науки и посмотреть в государствах обычаев». Так, известно, что в 1600 году в Москве изучали русский язык «францовский немчин Жан Паркет, лет в 18, да англиченин Ульян Колер, лет в 15, робята молоди». В то же время русский посол в Лондоне Гр. Ив. Микулин радушно приглашал в Москву путешественников, «Муравьевские земли князей» (моравян), трех братьев, «а отечеством словут бароны»; он объяснял им, что царь Борис охотно принимает на службу иноземцев, и они «живут в его царском в великом жалованье в покое и в тишине и во благоденственном житии». Микулин спрашивал этих «князей баронов», как они хотят ехать в Москву к царю Борису: «на его ли имя служити или, быв у его царского величества, ехати в свою землю?» Очевидно, он вполне допускал возможность посещения Москвы из одной любознательности просвещенным туристам, которые «ездили по разным государствам для науки и посмотрети в государствах обычаев, своею вольностью».
Торговая политика Бориса в отношении иностранцев отличалась большой выдержкой и искусством. Он умел твердо соблюдать интересы государства и в то же время ласкать иноземных купцов, являя им всякие знаки своей милости. Англичане были очень им довольны, так как после смерти Грозного он лучше других сановников обошелся с ними и оказал им много услуг и покровительства. Но ни в его правление, ни в его царствование английская торговая компания не вернула себе тех исключительных льгот, какими наделил ее Грозный в 1569 году до его размолвок с королевой Елисаветой. Борис твердо держался того взгляда, что московские гавани должны быть открыты для всех стран и что правом приезда в устья С. Двины должны равно пользоваться торговые иноземцы всех государств. Когда английская торговая компания пыталась возобновить свое домогательство на исключительное пользование Двинским путем, ей было указано, что московское правительство считает неразумным, ради английских купцов, запрещать многим людям изо многих государств приходить в Архангельск, и что англичанам надлежит довольствоваться той исключительной льготой, что они одни освобождены от пошлин на московских рынках. Таким образом, английская компания оставалась как бы наиболее благопри-ятствуемой, но это не мешало Борису благоволить и ко всем прочим иноземцам. Такое направление в правящих московских кругах обозначилось даже раньше, чем Борис стал во главе правительства. В июле 1584 года один английский купец, не принадлежавший к привилегированной компании, писал другим таким же, что в Московском государстве после смерти Грозного «торговати вольно»: приглашают отовсюду приезжать с товаром, «чтоб вопче торговали бы, всякой себе, по своей воле» (так перевели московские толмачи английскую речь); «не бойся, будет нам всем добро на Москве». Борис вполне оправдал такие чаяния иноземцев: при. нем, действительно, стало «всем добро на Москве», и иноземцы не уставали хвалить его за его способности и расположение к ним. Иностранная колония в Москве при Борисе чувствовала себя очень хорошо, о чем свидетельствуют записки обжившихся в Москве иностранцев, вроде Исаака Массы (голландца) и Конрада Буссова.
IX
До сих пор мы видели, что Европа была представлена в Москве торговыми предпринимателями, военным и мирным «полоном» и всякого рода техниками, потребными для московской власти. Таких посетителей, как помянутые выше «Муравьевские земли князья», ездившие «своею вольностью» из любознательности по разным государствам, Москва не знала. Они явились – и при том веселой и шумной толпой – при царе Димитрии Ивановиче, который сам на себя «возложи царское имя», и которого поэтому зовут Самозванцем.