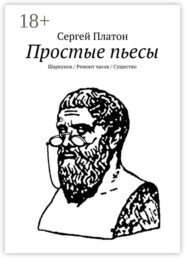По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Город Бург. Рассказы, миниатюры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Странный Виктор
Печальный, беспокойный город, весь день бежит куда-то, суетится и почти не радуется ничему. Красивым стал, высоток понастроил, на улицах прибрался, похорошел, но не обрадовался.
Откровенно говоря, жить в этом городе было скучно во все времена, в любые годы, и в любое время года. Нам здесь стабильно тоскливо всегда, что весною, что осенью… в будни и праздники… в молодости, и в старости… Здесь безумно уныло за каждым углом, как бы эти углы не декорировали сегодня модными архитектурными прелестями да ажурными фонарями центральных районов. Здесь невесело веками, тут безрадостно всем почти, здесь давно уже врос в географию черно-белый ген всеобщего уныния. Ведь настоящий образ города заметнее не на фасадах, а на лицах горожан. И ампиру-то тут у нас, посреди пустырей, автостоянок и помоек совсем кисло живется, и конструктивизму, рядом со стройками, долгостроями, складами и овощными базами как-то безрадостно.
Тяжко наш город рождался, трудно жил. Отчего же теперь ему стать беззаботным, и ни с того ни с сего радостными лицами вдруг расцвести? А вот же, тужится-пыжится он, да и расцветает время от времени. Хочется ему простой радости, хочется ясной жизни. А когда сильно хочется – получается. Не сразу, и не прямо, а ведь выходит у него не то что бы радостно жить, но хотя бы усмехнуться иногда, вздохнуть спокойно. Солнышко выглянет – город и рад!
Когда безоблачно и безветренно, город расплывается в ясной улыбке. Гляньте, как же он прекрасен, оживлен, совершенен! Особенно в центре и утром. Наши вечно озабоченные городские жители в добрую погоду приветливее не становятся, однако все они делаются немного добрее, это заметно.
Петр Палыч свой музей не любил, как и город. Музейного дела он не понимал, да и понимать не хотел, но уже второй год честно работал здесь сутки через трое, как говорится, ночным директором с широкими полномочиями – сторожем и охранником, грузчиком и гардеробщиком, дворником и уборщиком, оформителем и смотрителем, иногда даже кассиром и билетером. Молодому пенсионеру выбирать не приходится, зацепляется там, где берут, он и так это место два года искал.
Конечно, проще было бы сторожить понятный гараж, офис или банк, например. Пришел, все двери-форточки проверил, сигналку принял-сдал, замки закрыл, – вот и ходи себе по периметру, следи за обстановкой, или думай о городе, или пиши-читай, когда оно получается. А тут чего? Вечные мероприятия, монтажи-демонтажи экспозиций, открытие выставок и прочая шуруда. Ночь-полночь, а эти всякие научные сотрудники все еще по кабинетам сидят, винцо попивают, или по залам таскаются с непонятными разговорами и гостями. И искусство-то у них такое же непонятное, это же музей как бы нашей истории, а на стенках вывешивают постоянно какую-то заграничную белиберду. Не про нас это всё, не о нас.
Петр быстро разобрался в творческих пристрастиях жуликоватых музейщиков, те просто-напросто пропагандировали что-то чужое, за которое чужие им, наверняка, что-то платили. Ну, и наплевать на них на всех, на бессовестных, уходили бы вовремя.
Странно получилось. Вместе с ним на музейной вахте служило еще три писателя. Двое, как и он, пенсионеры (нумизмат и краевед), а один – довольно молодой еще и очень чудной, даже наглый тип, всем встречным-поперечным часто докладывающий, что он-то тут не просто так, дескать, он здесь не только историю сторожит, а еще и материалы собирает, художественную прозу пишет, и, главно-дело, за людьми исподтишка подглядывает.
Как же много писателей наплодили нам города в новом веке, кто же это добро читать теперь будет? Мне вот почему-то не хочется. Да и Петру Палычу читать произведения этого сторожа истории совсем не хотелось. Петр не то что бы в музее, он и дома-то никому не рассказывал о том, что сам пишет повести. Сначала надо было написать хоть один пристойный текст, чтоб ни убавить, ни прибавить, а уж потом о нем рассказывать.
Вопреки ожиданиям, на дежурстве в музее совсем не писалось, зато читалось там хорошо. Петр Палыч за год музейных ночей подробно перечитал полное собрание сочинений Антона Палыча, чему был несказанно рад. А прочитать из непрочитанного вовремя оставалось еще много чего.
Ночь в музее мелькала моментом, без мистики и метафизики, особенно под тексты Олеши или Андреева. А потом наступало самое милое время – ясное городское утро. Петр очень любил эти прекрасные рассветы, из-за них-то, наверное, и не разыскивал нового места работы.
Выходишь серым утром на крылечко городской усадьбы, как какой-нибудь дореволюционный лабазник или лавочник, стоишь, покуриваешь у раскрытой двери подбоченясь, а перед носом у тебя, едва глаза продравши, город во всей красе вышагивает. Сначала проезжают рекламисты, сдирают старые плакаты, новые вывешивают. Потом идут уборщики большой узкоглазой бригадой, захватывают в плен всё содержимое ночных урн, лихо машут метелками, зашвыривают быстро в медленный мусоровоз скопившиеся за ночь черные пакеты, а за мусорками – пылесосы, подметалки, поливалки едут. Светлеет город. Вот и троллейбусы поехали, вот и народ пошел. Вот и к газпромовскому офису на горке красивые автобусы красивеньких сотрудников подвозят. Вот и банковские менеджеры всю стоянку у музея машинёшками своими запрудили. Вот и помятые студенты из маршруток вываливаются, и оркестранты в филармонию бредут на утреннюю репетицию. Вот и проснулся город окончательно, побежали все, кто в нем есть: туристы и артисты, бомжи и дети, чиновники и менеджеры, студенты и преподаватели, пенсионеры и трудяги, водители и пешеходы, торговцы и музейщики. Динамичные, яркие все, очевидно чего-то там важное, в койках своих, недоспавшие, и от этого хмурые, неприветливые. Ясно все с ними, им же, бедным, работать весь день, а не трое суток отдыхать.
– Сигаретку-то дашь? – тихо спросил из-за плеча очарованного сторожа, засмотревшегося на утреннее городское дефиле, знакомый хриплый голос.
Рядом стоял хорошо известный всем окрестным сторожам и вахтерам бомж Виктор, которого Петр постоянно гонял из музейного дворика. Сто лет назад этот двор назывался дровяным, а теперь в нем хранились ненужные музею экспонаты, по городу таких-то вот уютненьких дворов и не осталось уже совсем. Вот Виктор и наведывался сюда с новыми подругами, как он выражался «посидеть-пообщаться в культурной обстановке». А Петр был непримирим, Петр их выдворял. Однако кто-то из других сторожей этому бомжеватому разврату явно потакал, поэтому Петру приходилось в теплые времена несколько лишних раз обходить территорию.
– Кури, – протянул Петр Палыч сигаретную пачку в сторону Виктора, и ясно припомнил, как они познакомились. Было буквально такое же утро, только год назад.
«Бомж Виктор», – сказал тогда ужасающе грязный парняга лет сорока на вид, пахнул перегарчиком прямо в лицо и в две минуты поведал о том, кто и как тут живет на нашей Вознесенской горке. В том разговоре Петр и узнал, где тут у нас Газпром, Водоканал, где никому не нужный бывший ДК Горького, какие здания принадлежат тут храму, какие филармонии, а какие Литературному кварталу, что тут от города, а что от области, что в ведении Патриархии, и чем рулит Управделами президента.
– Видал, какую булку с маслом я сегодня к Чайнику довел? – спросил Виктор.
Действительно, размахивая руками во все стороны и даже приплясывая от восторга, Виктор поутру проскочил уже разок мимо Петра. Вот же шуруда!
Бородатый грязнуля вел в сторону училища Чайковского перепуганную девушку, крупную, покрасневшую, одетую в очень нарядную, по ее мнению, вишневую курточку с капюшоном. Странная парочка. И у того, и у другого, время от времени, в руках оказывалась ручка такого же крупного, как и хозяйка, чемодана на колесиках. Вот уж кто был во всей этой компании по-настоящему нарядным, так это чемодан. Прекрасный, крепкий, заграничный… весь в никогда не увядающих цветах! Европейской клумбы кусок на колесиках, а не чемодан, право слово! Городской бродяга в новой телогрейке и сельская красавица в мешковатой куртке выглядели рядом с ним, таким колоритным, столичным и стильным, совсем унылыми провинциалами с исторически тусклыми лицами, беспородными телами в бестолковой одежде, и скованными, какими-то даже извиняющимися за каждый шаг движениями.
Всего-то год назад, Петр не то что бы разговаривать с бомжами не стал, он бы и не посмотрел в их сторону. Да даже если бы и посмотрел, не понял бы он ничегошеньки в их болтовне в прошлом году, а теперь вот говорил спокойно, понимал, о чем рассказывают, даже чем-то интересовался. Он их по-прежнему не понимал, но и не осуждал, и нос от них уже не воротил, как раньше.
– Она поступать, что ли, приехала?
– Ну да. Еще одна михрютка. Я ей, понимаешь, говорю: «Что, на Фросю Бурлакову поступать приперлась?», а она мне: «Нет, я в Музучилише учиться». Баламошка! Я ей: «Фросю-то помнишь?», а она: «Не знаю, не знакомая я с Бурлаковыми». Ха. Тоже, как и мы с тобой, откуда-то из-под Чусовой приехала, наша девка-то, деревенская. Глуподырая еще пока, не знает ничего. Ты же вот Фросю Бурлакову знаешь?..
– Нет.
– Да ладно… И кино не видел?
– А… В кино-то видел…
– А вот эта мимозыря даже кино еще не видела ни разу! Представляешь?
– Опять нам деревня города заселяет зачем-то, – буркнул Петр.
– Ага… Эта-то дурочка думает, веселее ей будет здесь, типа легче заживется. Вон, сидит на крылечке, артистка, и радуется. А у нас, на самом деле, скукота здесь, как дома.
– Ага… вот я и вижу: ты весь день как белебеня колобродишь, рот до ушей. Чота несильно заскучал…
– Да мне-то чо? Я же на кочерге, мне хоть дома, хоть не дома – хорошо! Сигаретку-то дашь еще? И это… Может, у тебя какие старые ботинки есть? Смотри, чего ношу. – Виктор вытянул ногу, с удовольствием разглядывая новехонькие туфли из какой-то, видимо, крокодиловой кожи. – Гламурятина какая! В них только летом по машинам сидеть и в ресторанах по паркетам шараёбиться. Скажи ты мне, они мне осенью куда? Промерзают, заразы. Батюшка телагу выдал, а обуви у них не будет, говорит.
– Ну, я порою дома. У тебя какой размер?
– Чем больше, тем лучше, можно же потом носками утеплить.
– Вас чо там, батюшка в храме, одевает, что ли?
– Как бы да. Надо только службу отстоять.
– Хороший у вас батюшка, правильный.
– Толстый, молодой и глупый у нас батюшка. Я его вообще сынком зову.
– А он?
– А он меня – странным Виктором. Я ему, понимаешь, говорю: «Бомж Виктор я, сынулька, ничего странного», а он: «Все вы, типа, странники, поэтому и странные». Тоже скучный, в скит какой-то хочет нас загнать, чтоб мы там робили, не пили и молились. Я вот не поеду. Это… ты ботинки посмотри, пожалуйста. Сегодня первое?
– Первое.
– Завтра приду к тебе, ладно?
– Так-то у меня дежурство только через трое суток.
– Хорошо. Четвертого приду.
– Пятого утром приходи. Ладно, вали уже, у меня вон, уборщицы идут.
Петр Палыч прекрасно знал, что в назначенное время Виктор не придет, но твердо решил обязательно собрать ему, тайком от жены, посылочку с шерстяными носками, сигаретами, какими-нибудь шоколадками, конфетками там. Лишних зимних ботинок у него у самого не имелось. Но, хоть что-то. Даже блудяге надо помогать, особенно, когда оно тебе и не стоит-то почти ничего. Хоть немного согреть шалопута, когда вновь нарисуется.
Землячок. Тоже ведь из-под Курьи приехал, тоже ведь после армии домой не вернулся. Да и что ему делать там, дома-то? С мамкою в огороде копаться, рыбачить, за скотиной ходить, в леспромхозе батрачить, по теплицам навозы разбрасывать, банчить грибами на трассе, или бухать с мужиками? Не семейный он, вовремя не женившийся, не разродившийся. Детки с бабьем мужика-то у дома крепко удержат, никаких городов не понадобится. Это вон Петр вовремя чухнул, в городе сразу учиться пошел, да не куда-нибудь, а на инженера МПС, там и квартиры быстро давали, и с деньжатами всегда нормально было. Вот и с квартирой теперь он живет, и с женой. Как положено, на ноги встал, хорошо обжился, своевременно остепенился. А этот все болтается, шлындра, никак не успокоится. Работа у бомжей тяжелая, неблагодарная, попробуй, посиди весь день на паперти, потом пойди, бутылки-банки собери по урнам, а по дороге мелочь у прохожих повыклянчивай. Та еще пахота. В этом смысле алкоголик-трудоголик Виктор носился по центру, как веник, прекрасно зная тяжелый физический труд.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: