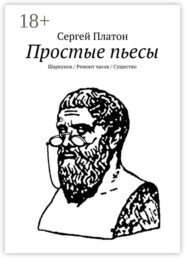По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Город Бург. Рассказы, миниатюры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы здесь не находили блока сигарет случайно? – спрашиваю.
– Где?
– Вот здесь, у зеркала.
Широколицый чоповец смеется.
– Когда?
– Да минут семь назад. Возможно, кто-нибудь нашел, и вам оставил?
– Ага! Сейчас! – все больше потешается охранник. – Ты что, не знал, куда идешь? Это же налоговая! Тут все – предприниматели. Даже не надейся, эти не вернут!
Советский дворик
Не единожды, не дважды, многократно уже слышал от водил, подвозящих меня к дому, об этом необычном свойстве нашего двора. Хотя, чего такого в нем удивительного? Ничего особенного, двор как двор. Их, таких, остановившихся во времени, как упрямых пенсионерок, не желающих наряжаться в новые колоритные одежды, в каждом районе каждого города отыщется немало.
Вот бабушка со второго этажа, с самого дня основания проживающая в моем подъезде, вечно сидит на крылечке в стареньком таком, миленьком и замызганном пальто цвета поблекших фасадов окружающих ее домов, а в магазин через дорогу всегда идет в нарядной желтой курточке с капюшоном и в лаковых синих ботиночках. А потому, что перейти через дорогу – это уже «выйти в город». Выйти на люди, показаться из дому во внешний мир для нее целое дело. Туда в домашнем выходить нельзя, неприлично как-то, стыдновато даже в затрапезном-то наряде.
– Ух, ты! Прям советский дворик! Будто в восьмидесятые въехали, – довольно лепетнул и вчерашний таксист, миновав витиеватое кольцо узких дорожек среди девяти-двенадцатиэтажных коробок. Долго мы с ним петляли у подножия нескольких двадцати-тридцатиэтажных высоток, накрутив добрый десяток зигзагов между арками, гаражами, помойками. Наконец, остановились у подъездного палисадника, сдерживающего буйную трехметровую сирень ржавым заборчиком, сикось-накось сваренным из случайных железок.
Вот я и дома! Добрался. Здесь моя сота, нора, тихая гавань.
Ничем не примечательная биография на рассвете жизни выдала мне это ничем не выдающееся однокомнатное логово в одной из двух параллельно стоящих длиннющих брежневских пятиэтажек. Здесь моя единственная, а точнее – единственно моя ДВЕРЬ. Где бы ни странствовал и где бы ни жил, возвращаюсь я к ней, волоку в сторону своего порога по детской площадке, заросшей теперь вымахавшими выше крыш разлапистыми березами, всё-всё, что насмотрел и напереживал во внешнем мире.
Вот они, с рождения покореженные качели среди песочниц без песка. Вот они, кривые железные горки и лазалки. Целыми-то были они хоть когда-нибудь? Не припомню. Рядышком нарушают стилистику визуального ряда несколько новых скамеек и урн, слева гудит изукрашенная корявыми граффити трансформаторная будка, а рядом с ней еще какие-то не менее живописные жэковские строения, плюс пара гаражей. Чуть поодаль – мусорная площадка (куда же без нее?), утопшая в яблонево-рябиновых зарослях. Вот никогда не просыхающее постельное белье на балконных курятниках, кругом колышутся влажные флаги трусов. Чуть дальше торчит понурый баскетбольный щит без кольца, над ним раскачиваются паутинные гирлянды проводов от крыши к крыше, а в центре композиции – белый гипсовый вазон на пьедестале в обрамлении крапивной клумбы.
Этот-то откуда здесь у нас взялся? Цветов в нем отродясь не произрастало, так, разве что у постамента. Однако жил он тут всегда, и дворник Башкирин (фамилия это или прозвище по национальной принадлежности?) всякую весну подставлял короткую лесенку и жирно красил его белой известковой жижей. Пузатые бока вазона, как и основания деревьев, давным-давно уже никто не красит, видно помер уже Башкирин, отжил свое.
Покосила смертушка с тех пор вдоволь, высвобождая место во дворе для новых ритмов, человеческих повадок, синтезированных звуков, гламурных поколений и диковинных предметов. А вот мало кому нужную малую архитектурную форму в стиле «сталинский ампир» не разрушает, милует. А я и есть тот самый «мало кто», которому немало радости приносят все эти ностальгические тривиальности. Куда я без них?
Прекрасно помню, как мелкою юлой носился вокруг клумбы в семьдесят лохматом году, вопя: «у меня новый папа». Счастьем фантастическим с двором делился. Очень уж хотелось радостную новость сообщить всем людям во дворе. А за мною бегали мама и ее новый друг, безуспешно пытаясь заткнуть фонтан писклявого ликования. Двор хохотал. Да и мама со своим новым приятелем, не особенно смущаясь, тоже хихикали. Мама тогда была моложе меня теперешнего. Изловил «щенячью радость» спокойно ухмыляющийся Башкирин. Усадил экскаваторными ладонями меня, горланящего на все лады, прямо в вазон, приговаривая «защекочу-защекочу-защекочу», и ушел неторопливо, предоставив оживившимся обитателям двора самостоятельное решение задачи по выковыриванию пятилетнего нарушителя дворового спокойствия из вазонной чаши. Попробуй, позабудь такое.
Вот и соврал, прилгнул, присочинил. Нет никакого вазона в нашем дворе. Из другого он двора, простите. Тоже из моего, но из самого первого, которого уж нет на свете. Так почему бы его и не переселить сюда, ко мне поближе? Он же мой. Хотя бы в этом сочинении пусть здесь живет. Ведь есть он у меня. Я его помню.
А еще хорошо помню навсегда ушедшие из нынешних времен широкие дворовые столы с домино и шашками. А рядом со столами – множество инвалидов (еще не ставшая историей война). Помню торчащие из окон большие деревянные колонки, в хорошую погоду орущие на весь двор дефицитными голосами Пугачевой и Высоцкого. Помню непременнейшие атрибуты надворной реальности – обильные сараи и широкие огороды. Нет их ныне, и не будет уже никогда. Как и кулис белья, белыми диагональными занавесами разделяющих двор на квадраты. Как и валиков зимней ваты между рамами в каждом окне. Как и страшных коварных цилиндров металлических колонок с водой, добывать которую, не защемляя пальцы, надо было уметь. Повиснешь всем телом на длинном рычаге, подсунешь под скобку камушек подходящего размера, жди, пока вода пойдет. Повисел, изловчился, подсунул, – слезай, пей на здоровье. Помню частые похороны и свадьбы. И то, и другое – на весь двор. Громкое горе с оркестром, и шумная радость с танцами.
Радость и горе справляют сейчас в иных, специально отведенных местах. И не сидят вечерами все вместе, всеми поколениями, в одном месте, в одном дворе. Закончилось то время. Расслоился народ на юнцов и уголовников, на бабушек и девушек, на выпивох и автолюбителей, на работяг и лоботрясов… да много еще на кого. У каждой группы – свое пространство во дворе и во времени суток. Рядом, но не вместе. Тесно, а не близко. Ошибаются таксисты; ничегошеньки советского здесь не осталось.
Курение вредит!
Отвратительный сюжет из теленовостей: группа детей-активистов шла по центру Екатеринбурга и обливала водой всех встречных граждан, курящих в неположенных местах. Зашуганные курильщики не особенно сопротивлялись унижению, просто утирались и сбегали с места происшествия.
Ремня бы этим юным активистам всыпать вовремя, чтобы перекачать мозги из задниц в головы. Энергичное, свежее поколение прогрессистов. Они же скоро подрастут, они же очень скоро станут активничать совсем в других ситуациях и пространствах. Но рядом шли довольные организаторы процесса – широкозадые родители с родительницами, пара грушевидных полицейских, съемочная группа хорошо откормленных журналистов, и стандартный, несколько плешивый, луноликий депутат в золотеньких очочках, неграмотный, активный, говорливый.
Вот до чего это вредное дело доводит, курение. Гадость редкостная.
ДК Горького
Чудесный, необычный дом на Первомайской улице советского Свердловска.
Удивительное было место и занятнейшее время. На первом этаже, в театральной студии, не столько ставил спектакли, сколько упражнялся в театральной школе и готовился к преподавательской карьере маленький режиссер Грачев. На втором этаже, в комнатке любительского ВИА, пел Шахрин, и что-то замышлял. На третьем этаже, в агитбригаде, озорно выпивал с тремя восторженными девами изгнанный из театра Коляда, время от времени он спускался на первый этаж поиграть Поприщина, показывал распечатанные под копирку короткие рассказики, и явно что-то затевал. Под самым чердаком, в каморочке с табличкой «Киностудия ДК», готовился к самоубийству (да, так просто) загадочный и нервный кинорежиссер.
Ах, боже мой, забыл ведь его имя напрочь. Туманов, кажется, возможно, Витя.
В сыром подвале, среди сохнущих гуашевых щитов, тихо позвякивали гранеными стакашками и шуршали холстами своих новеньких работ веселые безбашенные художники (имен не помню). Сговаривались о чем-то парни, а верховодил ими пиратоподобный Воскресенский.
Тридцать с лишним лет биография шлифовала мои воспоминания о тогдашних реальностях этого дома. Недошлифовала. Дом, инфицированный творчеством. Теперь в нем банк, магазины, офисы. Не в творчестве, конечно, в доме… Хотя…
Опять символика, опять все точно. Переменились времена. Но если ты желаешь дальше жить, – переживай, раздумывай и ностальгируй. Как можно чаще вспоминай, и думай, думай, думай! К примеру, вот о том, как быстро дом культуры стал доходным домом.
В нем есть пристойный зал на двести мест с прекрасной сценой. Ныне он затаился. Просцениум, порталы, занавес, колосники, карман, балкон, прожектора, софиты спят. Теперь в него так просто не попасть, пространство творчества сегодня заняли финансы. Зачем же банку зал, зачем ему софиты? Не знаю. Да и финансовые командиры тоже этого не знают. Недавно пробовали сдать в аренду, никто не взял. Так и стоит пока порожняком. Но, всё же, – жив! А значит, – ждет! Чего? Иных времен, конечно. По мне, так и дождется.
Такие вот дома, в таких-то вот местах, ой, как упрямы. И «Чайник» здесь, рукой подать (училище Чайковского), и старый ТЮЗ, ставший Учебным театром, рядышком Литературный квартал и Дом Метенкова, Центр современной драматургии, Киноконцертный зал «Космос», филармония и Камерный театр, новая коробка ТЮЗа, студия Пантыкина, Музей истории города и Музкомедия недалеко, бывший Дворец пионеров (по-нынешнему ДДТ) на самой вершине и Станция юных натуралистов в парке. Да много здесь еще чего подобного в округе. Все это – подножье Вознесенской горки. Именно отсюда расползается по окрестностям творчество!
Мои московские, вологодские и костромские гости выспрашивают, где же ваши горы? Да вот же! Вот они и есть! Такие у нас горы!
Зеркало
Очередь первого часа работы Сбербанка и Почты поведает о городе намного лучше самых виртуозных краеведов и литераторов.
Есть такое удивительное время в жизни всяческих присутственных мест, которое легко расскажет нам о нас, нужно только выбрать нужное время и внимательно приглядеться-прислушаться. Подглядывать можно и в тривиальном супермаркете, и в коммунальной конторе, и в поликлинике, и в надменном госучреждении, и в пенсионном фонде, да еще в несметной бездне многих других жизненно важных народному быту и животу пространств.
Время в очереди очень красноречиво, оно наполнено характерами, драмами, комедиями, глупостями, странными поведенческими особенностями, премудростями, бессмысленностями, низменными привычками и высочайшими интеллектуальными ценностями определенного времени. Драматургам, думаю, надо бы ходить в такие очереди, как на работу, сюжетам учиться и темы вынюхивать. Там, где есть прилавок, касса или стойка, в утренних очередях стоят, сидят, руководят, скандалят, модничают, чопорничают, судачат, сплетничают, плачут и смеются, оживляются и даже умирают неисчерпаемые источники драматургии – трогательные бабушки-гномы. Это их законное пространство, их излюбленное время, только здесь они водятся в таком количестве. К обеду эта «плотность гномов» в городе неторопливо разжижается и гаснет, разбавляясь другими типами народонаселения, да и очереди, кстати говоря, куда-то исчезают.
И при чем здесь гномы? В позапрошлом веке жену городского домового здесь у нас называли Доманя. Это вам не какая-нибудь деревенская Домашка или Домовиха в сатиновом сарафане, простенькая и темная. То ли дело прилично одетая Доманя или Домна – звучит гордо, прогрессивно, статусно!
Ныне наши Домани плотно наполняют зал какой-нибудь конторы коммунальных платежей с утра пораньше, и абсолютно не смотря ни на какие электронные очереди, подробно, прямо в лоб, дотошно выясняют, кто за кем, куда и как. Они безостановочно выспрашивают, повествуют, хихикают, показывают непонятные бумаги, грустят и ностальгируют, подшучивают над собой и окружающими, обижаются на шутки, разнообразно ссорятся и мирятся, и часто, но недолго, плачут. Именно здесь они по-настоящему живут и дышат. Бабушка-доманя – это не возраст, среди них есть и молодые мамушки, и тетушки средних лет, и некоторые девушки, давным-давно готовые ими стать. Да почему же некоторые? Почти все.
За стойкой, разделяющей зал пополам, для полноты картины отделенные от сборища домань полупрозрачным стеклом, в пространстве сканеров, принтеров, мониторов, проводов, бумаг, клавиатур носятся довольные и терпеливые девчушки-операторы, пока искренне убежденные, что очередь – не о них, не для них, не для их дочерей.
Осознает ли эта зычноголосая молодка, мясистая и нагловатая, что ежедневно видит сквозь стекло по ту сторону стойки собственное будущее? Взгляните, как идеально накладывается на ее широкое лицо физиономия желчной старухи с точно такими же мелкими глазками, переполненными несгибаемым убеждением в собственной правоте, недоверием ко всем на свете, и твердой верой в личное безоблачное завтра.
Вынос
Обветшалый подъезд брежневской пятиэтажки прощается с новоселами.
Обкуренные санитары несут на стуле запоздалую старуху. Равнодушные хип-хопперы, покуривая, наблюдают вынос тела в тонированное окно облупленной «девятки», распухающей изнутри басами и ритмами нового века. Одутловатая врачиха в застиранном халате средних лет (и у нее, и у халата – средние годы), докуривает и запихивается в новехонький реанимобиль. Перспективные детсадовцы, неуправляемым косяком акульих мальков срываются из песочницы, и бегут, запинаясь, поедать новое зрелище. За ними несутся грузные мамочки, стараясь пресечь наблюдение, оградить от вредных впечатлений. Подходит крепко спаянная группа иностранных специалистов в сфере сантехники и дворовой уборки. Им интересно, у них на родине такое происходит не так. Подтягиваются утренние выпивохи, мастера замусорить дворовые территории. Им тоже хочется позырить.
Вынос тела – вынос мозга.
В чистейшем небе, над проводами и антеннами, блестит авиалайнер, оставляя на синем фоне белый облачный след. А в самолете, наверное, летит престарелая дочь старухи. Черкает записки, мызгает заметки, мнет бумажки, готовится к выступлению на конференции. Она еще не знает. Ей пока не до дум об отеческих пятиэтажках. Потом приедет, на поезде.
Какая-то невидимая форточка громко транслирует на весь двор дискотеку восьмидесятых. Как редко эти песни звучали в первые годы жизни дома! Классический школьный дуэт (ну, просто Роман и Юлька из фильма) ускоряет шаг, практически бежит от тягостной картины. Пока нет места этим зрелищам в их жизни. Приземистый дед поливает шлангом с балкона приподъездные деревья. Ему не до выноса, не хочет он думать об этом. Карликовая тетушка, надрываясь, волочет гигантские вязанки обоев. Ей тоже не до этого.
И мне не до того! Включаю телек и зашториваю окна. Но в эфире – фестиваль прекрасного кино восьмидесятых. Отвлечься не выходит. По всем каналам мелькают лица и глаза редчайших в свое время артистов и образов. Ну, просто половина телетрафика – то самое кино. Его достали со всех полок, вынули из всех хранилищ. Теперь вот достают им нас.
А неплоха была эпоха у старухи! Жаль, быстро миновала. Да и зачем, вообще, эпохам миновать? Чем наша лучше? Нам бы лет пятьсот прожить в одной эпохе.