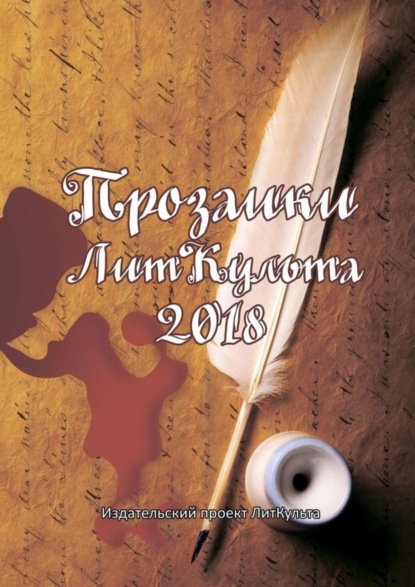По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прозаики ЛитКульта 2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как можно назвать того, кого совсем не знаешь?
Нет, здесь ты не прав, усатый. Алису я вот совсем не знала. Имя выбрала ещё до девяти месяцев ожидания. Сейчас я знаю её уже лучше: научилась слышать, как она улыбается; порой просыпаюсь, если ей снится кошмар – переманиваю монстров из её снов в свои. Некоторые до сих пор не дают мне покоя, как тот мужчина в чёрном. Хотя утром сон уже кажется таким банальным, что и говорить не стоит. Ну, и что там кот по имени Кот?
– Кот – это не имя, а должность, – отзываясь на мои мысли, поясняет лохматый.
Меня отвлекает телефонный звонок. Это подруга. Хотя, по-честному, уже давненько просто знакомая. Череда бессмысленных новостей: муж, бывшая работа, дети, а ты-то как? А каша всё ещё так себе выходит? Научись уже готовить – всё-таки ребёнок. Детям это очень полезно. Вот я – хлеб пеку. У тебя что нового?
– У меня кот говорящий, – чуть не ляпаю я в сердцах, но о таком не говорят. О чем рассказать? О снах? Нет, не хочу, я по своим кошмарам не соскучилась, чтобы о них беседовать. – У меня как обычно.
Да, как обычно – окончательно очеловечившийся кот и слегка одичавший ребёнок. Ещё карты не врут. Это хорошо, только больно. О таком не говорят. Помню, в детстве, подбрасывая монетку в ожидании ответа, я каким-то шестым чувством чуяла, что нельзя. Многие верят, что, если рассказать, не сбудется. А сейчас хоть всему городу разболтай – куда хуже. Только город не станет вдумываться, у него дороги, дома, люди, у людей – карьеры, каши, дети.
В последнее время я разговариваю с картами чуть меньше, чем с котами. А с тобой болтаю постоянно, пока ты ещё отвечаешь. Видишь, что со мной творится? Когда ты мне улыбался, живой, я читала книги только в оригинале, ты восхищался тихо и спокойно, и я так хотела дотянуть до этой высокой оценки, я смотрела только умное кино. В день по умному фильму – это много. Я тоскую. Почему нельзя скучать заранее? – начал, а потом – раз и всё, лимит исчерпан, живите себе спокойно, солнышку радуйтесь. Самое грустное как раз в том, что от меня остаётся. Быть тенью становится столь привычно, что начинает казаться нормальным. Растить ребёнка, варить супы… Я не помню, как повесила трубку. Должно быть, попрощалась.
Кот монотонно урчал.
– Однажды человек открыл дверь, но ни кота, вежливо, по обыкновению, ждущего честной порции, ни мышек не было. На следующий день снова никого. Время шло. Возле дома появилась миска свежего молока. Человек сам себе стеснялся признаться, что скучает. Но чуда не вышло. К вечеру миска была всё ещё не тронута.
– Что случилось?
– Он просто ушёл – произносим мы почти одновременно.
Время от времени кто-то уходит.
– А дальше?
– Дальше человек тосковал. Так нужно. Он передвигал миску со свежим молоком в кусты, где обычно дожидался скромняга, но нет.
– Зачем, зачем он так с ним? – шмыгает носом Алиса.
– Он научил его дружить, не грусти.
– Не хочу больше! Не хочу сказок!
А я-то как не хочу, ты не представляешь, малышка! Спохватываюсь, наливаю в блюдце молока домовому, ставлю на верхнюю полку подальше от любопытных глаз. Хорошо, что есть дочка – странных кукол на полке у входа гости молча приписывают ей. С ними пара браслетов с рисунками-переплетениями, кулоны, колода в темно-зелёном, любовно выбранном мешочке. Карты не врали. Карты никогда не врут. Я тасовала их снова и снова, вертела в руках, раскладывала веером. Бесполезно. Я убирала их, они лезли под руку, вываливались из сумки. Как-то я швырнула колоду в мусорное ведро, наутро карты ждали меня в тумбочке на своём привычном месте. Перебирать колоду уже потеряло всякий смысл. Я могла бы выступать с этим трюком в цирке: заранее знала, какую карту вытяну. Только кому нужен такой нелепый фокусник со смертью в руках? Кот, кот, как мы без тебя? О таком не говорят.
Кот требовательно скребёт лапой дверь, выходит, в первый и последний раз трётся о мои ноги и уверенно направляется к входной двери. Без споров выпускаю. На прощанье зверь сердито шикает. Стоит щёлкнуть замку, как в коридоре слышатся тяжёлые шаги и такой знакомый низкий голос: «Иди, иди сюда, маленький».
Из детской топочет Алиса.
– Кот ушёл?
– Да, милая. Его хозяин забрал.
– Мама, он сказал, что во сне будет рассказывать мне ещё сказки, если я буду есть ту кашу.
– Ту самую? Противную? – я всё-таки плачу.
– Извини, мама.
Я обнимаю, баюкаю малышку. Однажды она развернётся лицом к своему кошмару, откроет дверь и шагнёт в другой мир. Тогда я перестану быть нужной – даже во сне. Смогу ли я так же закрыть дверь, выходя из её жизни, пошутить на пороге? Иногда, кажется, что смогу. Только шутку стоит придумать заранее.
Дети мира
Странно – с первых кадров я вижу Мессалину, не помню, когда снимал это.
– Мальчишка! – она смеётся, красиво взмахивая черными, закручивающимися в тугие кудри волосами.
Скоро ей наскучивает болтать со мной. Она встаёт, подходит к окну и замирает, глядя на что-то вдали. Замирает, конечно, ровно так, чтобы чётко вырисовывался профиль. Ей шестнадцать, она взрослая и знает, что красива. Мессалина. Я долго не мог запомнить. Имя звонкое, но странное. Хорошо, что оно везде написано: табличке на шкафчике, нашивка на одежде, только национальный костюм без подписи, но это так у всех. У неё и костюм классный! Тога с множеством складок, струится, словно на стройной статуе. Отороченный пурпурной лентой подол открывает тонкие щиколотки. Жаль, надевать костюмы можно только по праздникам.
Мессалина кокетливо поворачивается у окна, словно модель перед камерой. Её фотограф всегда при ней. Ли не отрывает взгляд, смущённый и какой-то привычный, да и она, повзрослевшая под этим взглядом, словно вросла в него каждой прядью волос. Ли невысок, но по-своему красив. Аккуратно сложенный, темноглазый, он много молчит, говорит всегда что-то умное и краткое. Самые меткие послания на стенах – всегда его рук дело. Дальше на экране я. Волосы жутко отросшие, чёлка почти закрывает глаза. Я кручусь на офисном стуле и что-то высматриваю под ногами. Чёрно-белые полосы превращают экран в море. Изображение мельтешит, шорох в кустах, топот, охрана. Вспомнил! Это же парень с камерой, который через забор перелез, – так хотел узнать, как мы живём. Вы, наверняка, помните все эти легенды. Мы, в общем-то, тоже в курсе. Вроде того, что мы все из семей были. Ага, так и поверили! А парень тот ноги переломал, бедолага. Дальше опять я – злой с красными щеками:
– Снимать мне сегодня запретили, чтобы не отвлекался. Тогда расскажу: встаём мы в семь утра, завтракаем, потом школа, там же обедаем, после трёх воспитание – отдельно для девочек и мальчиков, ну, или по запросам из анкет. В прошлом году все хотели играющих на фортепиано, так скрипачи чуть смычки со злости не переломали. Ещё у меня друзья есть и крестная. Говорят, в три года я был смешной, ходил за леди Анной по пятам, всё за подол платья ловил, словно собачонка, вот она меня и выбрала. Потом, конечно, труднее: за любой недочёт мне нагоняй от неё, но все равно приятно. Это же у вас почти семья считается, правильно? У меня и друзья есть: Вирджиния, Ли… ли-ии-ли-ии… шшш – квакающий звук сменяется шипением.
Темно. Слышны голоса.
– Чтоб они сдохли! – это Мессалина.
– Опять электричество отрубили! – Ли.
– Можно ещё лимонада! – это я, как обычно, не вовремя.
Вчера в столовку привезли всякого разного. Я лет в пять эту газировку страшно любил. Была семья одна: странные такие мужчина и женщина, представились Томас и Энни. Ну, нам настоящие имена нельзя говорить, вы в курсе, в общем. Каждые выходные выбирали только меня.
Мы гуляли долго-долго, в самом центре города, где пиццей пахнет на всю улицу! Кусочки приносят на тарелочках, к каждому нож, вилка и – лимонад! Телевизор огроменный, по нему пел все время кто-то. Я так помню, будто всё настоящее, понимаете, и было там, а не здесь. Стыдно так – крестной не говорите, обидится. Потом закон вышел: чтобы нас уберечь, один ребёнок – не больше двух раз в одни руки. Крестная сказала, что та пара отказалась брать других детей и уехала. Ещё она сказала, что у людей это называется «любить». У мамы – да, по правилам нельзя, но какие к чёрту правила? – сидели там, как крысы, – у неё платья всегда были разные, и подол развевался на ветру, как в кино старом, а папа улыбался, много нас фотографировал. Нам такие вещи хранить нельзя, само собой, а жаль. Мне без них потом так плохо было. Крестная уверяла, что это я к еде привык вредной.
Снова светлая комната. Картинка почти статичная. Эрнест курит у окна. Тогда курить было можно везде. Многое было можно. Эрнест. За семь лет до того мода была на писателей, художников всяких. «Породистые детки», как окрестила их Вирджиния. Сама она название получила не столько за литературные таланты, сколько за выдающийся нос, о чем, впрочем, не особо жалела, тихо ненавидя любые книжки.
Тогда пансион превратился в мою подводную лодку. Он обрёл десятки имён. Мессалина называла его помойкой из-за всех тех вагонов хлама, что привозили благотворители. Детская одежда и игрушки, какая-то бракованная униформа полицейских, просроченная еда, хотя вот она-то шла на ура. В выходные нас уже не выдавали – мне было скучно. Два дня, целых два дня я мог бы быть любимым ребёнком! Говорят, это все после той кампании по борьбе за наши права. Что с нами делать, в итоге, решить так и не смогли: моральные вопросы, права человека, скандал года! – забыли через неделю… Сначала приезжали какие-то представители чёрте чего, психологи, журналисты. Гении адаптации, мы говорили каждому то, что он хотел услышать, то, что сделает его счастливым. Только на второй день мы уже никому не понадобились. Цирковые зверята на пустой арене, мы вставали на тумбы в правильном порядке и преданно пялились вверх в ожидании награды.
А потом было то последнее наше утро, помню, кое-как успел камеру включить:
– Про-ект зак-рыт, – повторяет Мессалина по слогам.
Изображение пляшет: сцепленные руки Эрнеста, Вирджиния отвернулась, упёршись в стену лбом, Ли пытается схватить Мессалину. Когда её заклинивало, ладить с ней мог только он: то ли нужен был ремонт, то ли препараты. Когда ей становилось хуже, часовой ступор сменялся истериками и побоями – била она, в основном, себя. Последние кадры: пыльный ковёр с отпечатками грязной обуви – наверное, камеру я всё-таки уронил.
Потом было собрание. Директриса выступила с предложением «распустить немного раньше срока». Тогда я ещё не представлял, как это. Все дети верят в сказки. Моей сказкой была семья. Не обязательно семья, пусть разные семьи, но зато на все дни недели. Меня не разочаровала ни одна из них.
Когда Вирджиния рассказала о том, что будет дальше, я долго плакал, зарывшись в одеяло. Тогда я начал сомневаться в том, что нас ждёт. Вирджиния в своих длинных юбках, вечно оставлявшая где попало зонтики и пенсне, Вирджиния в неудобных и вообще непонятно зачем нужных кружевных перчатках – она всегда была расчётливой и жёсткой, сдержанный мужчина в теле приторной дамочки. Думаю, тогда она меня просто пожалела.
В целом, про семью я почти угадал. После роспуска мы так и оставались в прокатной индустрии: друг на вечер пятницы, приятная собеседница, уборщица, весёлый бармен, случайный попутчик, жена. «Кто угодно!», «Только ваш!» – слоганы не врали. Мы могли подстроиться под любого клиента. Пластилиновые характеры, тела, не испытывающие боли. Конечно, большая часть отправлялась в индустрию для взрослых. Посещать заведения можно с 21, а работать с 12. Нам рассказывали, что так работает закон отражённых чисел, но математику в мою модель не особо закладывали, так что я не уверен.
Пансион было решено закрыть. Когда стало ясно, что до роспуска пара дней, я решил возобновить видеодневник. Думаете, мои милые друзья записали мне на память обращения? Какой там! Только Эрнест добровольно влез в кадр. Готовился, поправлял любимый берет, никак не мог решить, отрывок из какого романа прочитать для меня. Ещё на плёнке остались стены пансиона. Стены с посеревшими от пыли посланиями: признаниями в любви и угрозами жестокой расправы, рецептами супов, стихами, схемами простейших роботов, слоном с ушами из переплетённых узоров, засушенными бабочками, живыми паучками, записками о встречах и покупках, слегка перекошенной Джокондой, моим кругом пиццы с солнечными лучами и смеющимся черепом посередине.
– Я рассказал все что помню. Можно мне оставить плёнки себе?
– Да, спасибо за беседу. Похоже, ты здоров. Хочешь познакомиться завтра с мамой и папой?
Сейчас здесь, среди чисто белых стен, белых рубах и белых халатов, весь тот разноцветный мир кажется бредом. Плёнки нашли в тайнике неделю назад, кто-то зарыл их у самого забора. Врачи все отсмотрели, а когда выяснили, что съёмки мои, даже камеру подарили, чтобы я быстрее в себя пришёл, но снимать я боюсь – мне хватает памяти. Эта тварь фиксирует всё только в черно-белом варианте. В прошлом цвета тоже тускнеют, только пятну пламени всё нипочём, через него я вижу, сквозь него тянется моя жизнь. Оно вспыхивает, обжигая глаза, когда я просыпаюсь, засыпаю, в начале каждого сна. Запах гари чудится повсюду. Хотя какой чудится? – я просто живу в нем, ем, читаю, делаю зарядку, соблюдая предписанные режим и спокойствие.