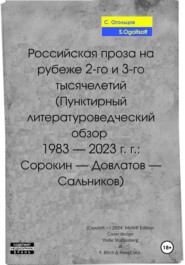По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из верхней доски лакированной рамы выступал карниз-полочка в сопровождении длинной полоски зеркала для отражения фигурок белого слоновьего стада построенного по росту в затылок друг другу – от большого до самого мелкого малыша. Слоники затерялись ещё во времена родительских легенд и полка их пустует, пока мы не начнём играть в Поезд. С наступлением ночи в вагоне, я забираюсь на полку вопреки узости карниза и, чтобы перевернуться на нём с боку на бок и ехать дальше, приходится слазить на пружинистое сиденье дивана, а потом вскарабкиваться обратно. Играть в Поезд ещё интереснее, когда Лида и Юра Зимины, соседние дети, приходят через лестничную площадку в нашу комнату. Поезд растёт в длину и, стоя в перевёрнутых табуретках-вагонах натасканных из кухни, мы расшатываем их во всю, до пристука сиденьями о доски крашеного пола, и тогда Баба Марфа, очнувшись от молчаливого сидения на своей койке, начинает ворчать, что хватит нам беситься будто оглашенные.
А когда уже совсем поздно, после игр и ужина, в центре комнаты расставляется моя раскладушка. Мама приносит и стелет на ней матрас и синюю клеёнку тоже, под простынь, на случай если я уписяюсь ночью. Потом огромную подушку и толстое ватное одеяло сверху. Баба Марфа выключает радио в левом углу возле двери и щёлкает выключателем света. Однако темнота в комнате довольно неполная – свет из окон соседнего, углового, здания и от фонаря во Дворе квартала проникает сквозь тюлевую сеточку оконных штор, а под дверь закрадывается полоска света из коридора между кухней и комнатой родителей… Я наблюдаю тёмный силуэт Бабы Марфы, которая стоит рядом со своей койкой и что-то шепчет в потолок у себя над головой. Но это странное поведение меня нисколечко не беспокоит, после того как Мама объяснила, что так Баба Марфа молится своему Богу, хотя родители не могут ей позволить, чтобы повесила икону в том углу, потому что наш Папа член Партии…
Утром самое надоедное – отыскивать свои чулки. Хочешь верь, хочешь нет, однако даже мальчики ходили тогда в чулках. Поверх трусиков одевался специальный матерчатый пояс с парой пристёгнутых спереди резинок. У каждой резинки на конце застёжка – резиновая кнопочка с откидным проволочным ободком, его нужно поднять, натянуть на кнопочку щепоть чулка и втиснуть её обратно в тугую проволочинку—щёлк! – получилось… Уфф!.
Всю эту сбрую, конечно, на меня одевала Мама, но находить чулки – моя забота, а они как-то всегда умудрялись найти новое место где прятаться. Мама зовёт из кухни идти завтракать: —«Ну, что ты там опять копаешься?» Потому что же ей ведь тоже на работу, а эти гады затаились где-то… Наконец—ага! – замечаю мятый нос одного, что высунулся из-под диванного валика на петлях, но двойняшки ещё спят и надо звать на помощь Маму, потому что Сашкина подушка опёрта на валик…
Я устал от утренних упрёков, подумал и нашёл красивое решение проблеме исчезающих чулков и, когда свет в комнате уже выключен, но Баба Марфа всё ещё шепчется со своим Богом, я привязываю их себе на щиколотки, потихоньку и отдельным узлом на каждую ногу, теперь не сбегут. Мои сестра и брат с подушками на разных подлокотниках большого дивана как всегда слишком заняты брыканием под общим одеялом, им не заметны мои манипуляции в темноте. И я успеваю очень вовремя укрыть ноги, когда Мама зашла поцеловать своих детей на ночь. Но она вдруг сделала такое, чего никогда раньше не делала. Мама включила свет, что живёт под потолком в стеклянном лампочном домике, вокруг которого свисает густая бахрома оранжевого абажура из тугого шёлка, чтобы в дневное время, после работы, свету удобней было спать. А сейчас ему пришлось выскочить из своей койки между тонких круглых стенок и показать—когда Мама сдёрнула одеяло с моих ног—чулочные оковы на каждой. «Что-то прямо-таки толкнуло меня заглянуть», – со смехом рассказывала она позже Папе. Мне пришлось развязать чулки и бросить поверх моей прочей одежды сваленной шохом-мохом на стул. А какая блестящая была идея…
~ ~ ~
Основную и самую пожалуй лишнюю неприятность вносил в детсадовскую жизнь «тихий час» – принудительное лежание в кровати после обед. Снимай с себя всё до трусиков с майкой, складывай одежду на белую табуреточку, поаккуратнее, но, как ни старайся, при подъёме после «тихого часа» всё окажется в полной перепутанице, а чулочная кнопочка на одной или другой резинке никак не захочет протиснуться в ободок. А до этого лежи так вот без толку целый час, смотри в белый потолок, или на белую штору окна, или вдоль длинного ряда кроваток с узким проходом после каждой их пары. Ряд тихо лежащих согруппников кончается у дальней белой стены, где далёкая воспитательница в белом халате тихо сидит на стуле и читает свою книгу, и только совсем иногда какой-нибудь ребёнок отвлечёт её и шёпотом попросится выйти в туалет. Она позволит шёпотом и, перейдя в негромкий голос, пресечёт поднявшийся было шумок шушуканья вдоль ряда кроваток: —«А ну, закрыли все глазки и – спать!» Возможно, время от времени я и вправду засыпал в какой-то из «тихих часов», хотя чаще просто лежал в оцепенелой полудрёме с открытыми глазами, не различая белый потолок от белой простыни натянутой поверх лица…
Но дремоту стряхнуло вдруг тихое прикосновение осторожных пальчиков, что ощупью скользили вверх по моей ноге, от коленки к ляжке. Я оторопело выглянул из-под простыни. Ирочка Лихачёва лежала на соседней кроватке крепко зажмурив глаза, но в промежутке между нашими простынями виднелся кусочек её вытянутой руки. Тихие пальчики нырнули ко мне в трусы и мягкой тёплой горстью охватили мою плоть. Стало невыразимо приятно. Но вскоре прикосновение послабилось и ушло прочь – зачем? о, ещё!
В ответ на бессловесный зов, её рука нашла мою и потянула под свою простыню положить мою ладонь на что-то податливо мягкое, провальчивое, чему нет имени, да и не надо, потому что надо только, чтоб это длилось и длилось. Однако когда я, крепко зажмурившись, привёл её ладонь ко мне обратно, она побыла совсем недолго и отскользнула потянуть мою к себе… И тут воспитательница объявила конец «тихого часа» и совсем громким голосом велела всем подниматься. Комната наполнилась шумом-гамом одевающихся детей.
“Хорошенько кроватки заправляем!»– напоминательно повторяла воспитательница, шагая вперёд-назад по длинной ковровой дорожке, когда Ирочка Лихачёва вдруг выкрикнула: —«А Огольцов ко мне в трусы лазил!»
Дети ожидающе затихли. Оглаушенный позорящей правдой, я почувствовал как накатила жаркая волна стыда выбрызнуться слезами из глаз попутно с моим рёвом: —«Сама ты лазила! Дура!» И я выбежал из комнаты на площадку второго этажа покрытую квадратиками жёлтой и коричневой плитки в шахматном порядке.
Посреди площадки бег мой остановился и я решил никогда больше в жизни не возвращаться в эту группу и в этот детский сад. Совсем никогда ни разу. Хватит с меня уже. Вот только времени не нашлось обдумать как же теперь жить дальше, потому что всё моё внимание приковал красный огнетушитель на стене.
Вообще-то, меня привлёк не огнетушитель целиком, а один только жёлтый квадрат картинки у него на боку, где человек в кепке рабочего на голове держал точно такой же нарисованный огнетушитель—но в рабочем положении, кверх ногами—и направлял пучок расширяющейся струи из своего огнетушителя на махровый куст широких языков пламени.
Должно быть, картинка служила наглядной инструкцией пользования огнетушителями в борьбе с огнём, поэтому применяемый человеком в кепке был представлен в мельчайших подробностях. Даже жёлтый квадрат картинки-инструкции на боку огнетушителя перевёрнутого в рабочее положение скрупулёзно воспроизводил махонького человечка в кепке, который—в перевёрнутом виде—боролся с перевёрнутым очагом возгорания струёй из крохотного огнетушителя.
И тут меня осенило, что на следующей, уже неразличимой, картинке (на боку меньшего из двух нарисованных огнетушителей) совсем уже крохотулечный человечишка находится в нормальном положении, ногами книзу. Зато ещё глубже, уменьшенным до невозможности, он снова окажется на голове и—самое дух захватывающее открытие! – эти кувыркающиеся человечки никак не могут кончиться, они способны лишь становиться всё меньше, превращаясь в невообразимо крохотные крапушки, и кувыркаться дальше, становясь переходным трамплином к вечному уменьшению, но вовсе исчезнуть им не дано просто потому, что этот вот Огнетушитель висит на своём гвозде в стене над площадкой второго этажа рядом с дверью старшей группы, напротив двери в прихожую туалета.
Зачарованность разбилась требовательными криками, чтоб я немедленно шёл в столовую где все группы детсада сидят уже за полдничным чаем после «тихого часа». Однако с той поры, проходя под Огнетушителем—носителем бесчисленных миров на своём крашенном боку—я проникался понимающим почтением. Что касается трусов на посторонних, та вылазка осталась единственной и неповторимой. Умудрённый полученным опытом, в последующие «тихие часы», когда мне нужно было выйти, по тихому разрешению воспитательницы, пописять, я понимал значение простыней вперехлёст меж пары кроваток, или почему так изо всех сил жмурится Хромов на своей кроватке рядом с кроваткой Сонцевой…
~ ~ ~
Мы жили на втором этаже и следом за нашей шла дверь Морозовых, супружеской пары пенсионеров на всю их трёхкомнатную квартиру. Напротив них через площадку была вторая трёхкомнатная квартира на нашем этаже, но семья Зиминых жили только в двух комнатах, а третью населяли бессемейные женщины, иногда сменявшие друг друга, случались и пары из двух женщин, которые объявляли себя родственницами, после обмена ухмылочкой друг с другом. А прямо напротив нас была квартира Савкиных, чей толстый весёлый папа носил очки и офицерскую форму
Глухую стену от двери Морозовых до двери Зиминых разделяла вертикальная железная лестница к постоянно распахнутому люку на чердак, где жильцы всего дома развешивали свои стирки, а отец в семье Савкиных, чья квартира была прямо напротив нашей, держал голубей, когда приходил домой со службы и переодевался в синий спортивный костюм.
Деревянная перилина на чёрных железных стойках тянулась от двери Савкиных к нашей по самому краю площадки, но не дотягивалась, а сворачивала вниз для сопровождения двух лестничных марша до площадки на первом этаже, четырьмя ступенями ниже которой жалась к стене навеки распахнутая дверь подъездного тамбура. Из него толкаешь широкую дверь и, одолев натяжение длинной ржавой пружины, выходишь в ширь общеквартального Двора, оставляя в подъезде ещё одну дверь, узкую и без пружины, за которой прячется крутой спуск ступенек без перил в непроглядную темень подвала.
Исходя из будущего жизненного опыта, могу уверенно предположить, что мы жили в Квартире № 5, хотя в то время я этого ещё не знал. Мне тогда ещё только-только начинало доходить, что основное население дома это его двери. За площадочной, с привинченным к ней широким самодельным ящиком для почты, открывалась прихожая, а в ней узкая дверь в тесную кладовку направо, а налево остеклённая выше пояса дверь в комнату родителей, где вместо окна снова дверь – на балкон, тоже широкая и наполовину стеклянная.
Прихожую продолжал длинный прямой коридор мимо двух глухих дверей справа: первая в ванную, следующая в туалет, а в стене слева всего лишь одна дверь и тоже глухая – в детскую, рядышком с замыкающей коридор кухонной дверью, в которую тоже вставлено стекло, но это не имеет значения, потому что за ним постоянно тёмно-зелёная краска стены и дверь её не покидает даже и на полшага, чтобы не загораживать вход на кухню.
В детской комнате целых два окна, из которых одно смотрит во Двор, а в другом вид на смутную серость окон в торцевой стене углового здания. В единственном окне кухни панорама той же оштукатуренной стены, а направо от распахнутой кухонной двери (буфет ей помогает никогда не закрываться), высоко под потолком – матовое стекло в квадрате туалетного окошка полное такой же серой мути как и окна напротив, когда там не горит свет. Ни в ванной, ни в кладовке в прихожей, окон вовсе нет, но из потолка каждой висит электрическая лампочка, просто щёлкни чёрным клювиком выключателя в коридоре и – вперёд, ведь, оказывается, все двери дома заходят внутрь своих помещений!.
Зайдя в туалет, я первым делом плевал на зелёную краску стены слева от унитаза и только потом садился делать «а-а» и наблюдать неспешное продвижение плюнутой капли, что оставляла за собой очень вертикальную слюнную полоску пройденного пути. Если слюне не доставало сил доползти до плинтуса над плитками пола, я помогал ей дополнительным плевком, чуть-чуть повыше застрявшего паровозика. Иногда на путешествие уходило от трёх до четырёх плевков, а иногда хватало и самого первого.
Родители терялись в догадках—отчего это стена в туалете всегда мокрая? – до того дня как Папа зашёл туда сразу после меня и на последовавшем строгом допросе я признался, что это моя работа, хотя и не смог объяснить зачем. С тех пор, в страхе перед наказанием, я затирал следы мокрого преступления кусками нарезанной в целях гигиены газеты ПРАВДА из матерчатой сумки на стене напротив, но очарование неслышных странствий исчезло.
(…мой сын Ашот, в возрасте пяти лет, иногда мочился мимо унитаза, на стену. Не раз я объяснял ему, что так неправильно, а если уж промахнулся, то будь добр подтереть за собою.
Однажды он заартачился и отказался вытирать лужу. Тогда я схватил его за ухо и отвёл в ванную за половой тряпкой, затем привёл обратно и, спёртым от бешенства голосом, приказал собрать лужу с пола. Он повиновался.
Разумеется, в более продвинутых странах я бы запросто мог нарваться на лишение родительских прав из-за бесчеловечного обращения с ребёнком, но до сих пор продолжаю считать себя правым в данном случае, потому что ни один биологический вид не способен выжить в собственных отходах… Я бы ещё мог понять, если б пацан просто плевал на стены, но в построенном мною доме их покрывала известковая побелка, а по извести никакая слюна не поползёт. Позднее наскреблись деньги и на облицовку кафелем, но дети стали уже взрослыми…)
Чувствуешь себя как бы Всемогущим, воссоздавая мир полустолетней давности, подгоняя детали так и эдак, по своему усмотрению, и некому ткнуть носом, если заврёшься где-то. Однако обмануть можешь кого угодно кроме самого себя и должен признаться, что на расстоянии в пятьдесят лет не всё складывается совсем гладко. Например, я не слишком уверен, будто помянутая вскользь загородка для голубей на чердаке вообще как-либо связана с Капитаном Савкиным. Вполне даже возможно, что сооружение принадлежало Степану Зимину, отцу Лиды и Юры… Или там было две загородки?
Честно говоря, теперь я как-то уж и не уверен в присутствии голубей в одной или другой из загородок (но разве их две было?) в тот день, когда я отважился пуститься вверх по железной лестнице к чему-то неизведанному, неразличимому в смутно-тёмном квадрате распахнутого люка на чердак над моей головой. И очень даже может быть, что мне просто вспомнилась реплика из разговора родителей, что даже голуби Степана страдают от его запоев.
В целом, лишь одно остаётся вне всякого сомнения – восторженный трепет первооткрытия, когда, оставив внизу мою сестру, с её зловещими пророчествами про убиение меня отеческой рукой, а рядом с ней внимательный взгляд моего брата, неотступно следящий за каждым моим движением, и все они уменьшались вместе с плитками пола площадки при оглядке с каждой следующей перекладины на подъёме в новый таинственный мир, что вот-вот расстелется предо мной под сереющим брюхом шифера крыши… Через два дня Наташа прибежала в детскую комнату гордо объявить мне, что Сашка только что тоже залез на чердак.
С учётом этого всего, вполне возможно, что голубей в чердачной загородке уже не оставалось, но во Дворе они летали толпами…
Своим дизайном, Двора являл собою систематизированный шедевр беспримесной геометричности. Внутри огромного прямоугольника ограниченного шестью двухэтажными зданиями был вписан эллипс дороги рельефно отчёркнутой вдоль обеих обочин неглубокими дренажными кюветами, что ныряли под короткие, но мощные мостки – чётко напротив каждого их 14-ти подъездов в шести домах нашего квартала.
Пара узких бетонных дорожек, проложенных под прямым углом к продольной оси эллипса, рассекали его площадь натрое, а центральный прямоугольник образованный дорожками и кюветами вдоль обочины делился далее на три равных сегмента дополнительными двумя дорожками (но уже параллельными оси эллипса и друг другу), соединявшими пару упомянутых в самом начале. Точки пересечения четырёх дорожек становились четырьмя углами срединного сегмента, в которых пара дорожек упомянутая последней преломлялась в центробежные бетонные лучи пересекающие Двор диагонально, каждый по направлению к центральному входу соответствующего углового здания, а линии между исходными точками лучей являлись диаметрами бетонных дорожек-полуокружностей описанных вокруг двух беседок из деревянных брусьев, так что в целом планировка смахивала на модель Версаля, пусть и попроще, зато из бетона.
(…столь рафинированный Bau Stile в природе просто-напросто не существует. Нет в ней циркульных окружностей, ни абсолютно равнобедренных треугольников, ни квадратов без малейшего изъяна – где-нибудь, как-нибудь да и выткнется, неизбежно нарушая безукоризненную выверенность, неутаимое шило из котомки Матушки-Природы…)
Конечно, никаких вычурных фонтанов в нашем Дворе не имелось, как не было в нём ни кустика, ни дерева. Возможно, впоследствии там что-то и выросло, но в своей памяти не нахожу даже саженца, а только траву, расквадраченную в геометрические фигуры бетонными дорожками, ну и, конечно же, стаи голубей перелетавших из одного конца необъятного Двора в другой на призывное: «…гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гууль!»
Мне нравилось, когда эти—так похожие друг на друга, но чем-то обязательно разные—птицы слетаются окружить тебя и торопливо склевать хлеб раскрошенный на дорогу, где машины не показывались вовсе, ну разве что в полгода раз проедет грузовик с мебелью въезжающих или съезжающих жильцов или неторопливый самосвал с дровами для чугунных топок котлов нагрева воды в ванных комнатах квартир.
Но ещё больше я любил кормить голубей на жестяном подоконнике кухонного окна. Хотя приходилось дольше ждать, пока кто-то из птиц догадается откуда ты им «гуль-гулишь» свой призыв и, разрезая воздух биением пернатых крыльев, зависнет над серой жестью с густой россыпью хлебных крошек, прежде чем спрыгнуть на неё своими голыми ногами и дробно застучать клювом по угощенью.
Похоже, голуби присматривают друг за другом, кто чем занят, или у них есть какая-то мобильная связь, но вскоре вслед за первыми слетаются и остальные, по двое, тройками, целыми ватагами, может даже из соседнего квартала. Подоконник исчезает в почти двухслойном столпотворении из оперённых спинок и головок ныряющих за крошками. Они суетливо толкаются, спихивают друг друга за край, припархивают обратно, втискиваются вновь. Используя суматошную неразбериху, можно свесить руку из форточки кухонного окна и потрогать сверху какую-нибудь из торопливых спинок, но осторожно и совсем слегка, чтоб не всполошились и не шарахнулись бы все разом прочь с громким хлопаньем крыльев, даже «спасибо» не сказав…
~ ~ ~
Кроме голубей мне ещё нравились праздники, особенно Новый год. Сначала на лестничной площадке появлялись две-три Ёлки с короткими иглами и пронзительно зелёным запахом. Папа знал которая из них наша и на следующий день обувал на неё крестовину, чтобы не падала, и устанавливал пахучее дерево в комнате родителей перед белой тюлевой шторой, что не могла в одиночку сдерживать холод балконной двери. Потом из тесной кладовки приносились фанерные ящики, что были почтовыми посылками, пока не превратились в ларцы для хранения ёлочных игрушек укутанных для сохранности в отдельные куски газеты, каждая в свой. Под шорох жёлтой от древности бумаги, поблескивая серебром и ярким лаком, на свет появлялись хрупкие стеклянные фрукты, гномики, колокольчики, деды-морозики, корзиночки, дюймовочки… Ворох газетных обёрток всё рос, а из следующих вылуплялись сверлообразные лиловые сосульки, зеркальные шары с примёрзшими по их бокам снежинками и гладкие шары, но тоже красивые, разноцветные искристые звёзды обрамлённые стеклом тоненьких трубочек, пушистые гирлянды дождика из золотой фольги… Папа редко участвовал в украшении Ёлки, но красную Кремлёвскую Звезду ей на макушку одевал только он.
Под конец, когда дерево обрастало игрушками и конфетами (да, потому что конфета на продетой сквозь фантик нитке тоже красочное украшение, которое можно снять или срезать и подсластить дни наступившего года), её крестовину покрывали большим, как сугроб, куском белой ваты, под которую заодно пряталась фанерная подставка Деда Мороза. Он не помещался в посылочные ящики и целый год ждал этого часа опрокинутым навзничь на тёмной полке, даже не сняв красную матерчатую шубу с широкими белыми отворотами. Одной рукавицей Дед Мороз сжимал свой высокий посох уткнутый в подставку, а вторая держала мешок переброшенный за спину, но тот был обвязан красной тесьмой и прострочен швом слишком крепким, чтобы проверить что это в нём такое бугрится.
Ой! Чуть не забыл разноцветное миганье крохотульных лампочек на тонких проводах!. Они развешивались по Ёлке раньше всего остального, а провода уходили в тяжёлый электрический трансформатор под тот же самый ватный сугроб. Электрогирлянду Папа сам сделал, а лампочки покрасил Маминым лаком для маникюра и ещё зелёнкой из аптечного ящика в прихожей, и ещё чем-то жёлтым.
И маску Медведя для детсадовского утренника тоже Папа сделал. Мама объяснила ему как, он принёс с работы какую-то особую глину и на куске фанеры вылепил морду с торчащим носом. Когда глина стала твердокаменной, Папа и Мама покрыли её слоями марли и размоченными в воде кусочками газеты. Прошло два дня, пока морда высохла и затвердела на табуретке рядом с батареей отопления, потом глину выбросили и—ух, ты! – получилась маска из папье-маше с дырочками для глаз. Потом маску покрасили коричневой акварелью и Мама пошила костюм Медведя из коричневого сатина, где в шаровары надо одеваться через курточку. Так что на утреннике я уже не завидовал дровосекам с их фанерными топориками через плечо.
(…и до сих пор Новый год для меня пахнет акварельными красками, или может они Новым годом, всё никак не могу определиться…)
А когда в спальне родителей разбирают большую кровать и приносят её в детскую, значит вечером в свободную от кровати комнату притащат много столов от соседей. Туда соберутся много взрослых, а в нашу комнату придут играть соседские дети. Когда станет совсем поздно и гостевые дети разойдутся по своим квартирам, я проберусь в комнату родителей, где шумно и гамно, и щиплет глаза синевато-тонкий туман папиросного дыма, и полно голосов, что перекрикивают друг друга. Старик Морозов объявит, что в молодости он грёб на вёслах на свидание за 17 километров, а его сосед за столом подтвердит, что значит оно того стоило и всех обрадует такая хорошая новость, люди счастливо засмеются, схватят друг друга и начнут танцевать от радости, заполняя всю комнату своим высоким ростом до потолка и кружась вместе с пластинкой, что поёт на патефоне, который принёс папа Савкиных.
Потом они снова раскричатся не слушая кто что говорит, а Мама за столом начнёт петь про огни на улицах Саратова полного холостых парней и её веки осоловело сползут до середины глаз. Мне станет стыдно, я заберусь к ней на колени и стану просить: —«Мама, не надо петь, ну, не пей, пожалуйста!». Она засмеётся и отодвинет свой стаканчик на столе и скажет, что вот не пьёт уже, и запоёт дальше. Потом гости начнут долго расходиться и уносить столы по своим квартирам и всё так же громко спорить, но не слушать на площадке за распахнутой дверью. Меня пошлют в детскую, гда Саша давно спит, а Наташа тут же вскинет голову со своей подушки. На кухне будет звякать посуда, которую моют Баба Марфа и Мама, а потом свет в нашей комнате ненадолго включат, чтобы унести части кровати родителей.
Кроме своей работы Мама ещё уходила по вечерам на Художественную Самодеятельность в Дом Офицеров, который очень далеко, и я это знал, потому что иногда родители брали меня туда в кино, на зависть Сашке-Наташке. Каждое кино начиналось очень громкой музыкой и большими круглыми часами на Кремлёвской башне, которые открывали новый номер киножурнала «Новости Дня», где чёрнолицые шахтёры толпой шагают в своих касках, а одинокие ткачихи в белых косынках на волосах ходят по длинным пустым залам, среди дёрганья длинных полос нитей в станках, и множество людей с непокрытыми головами радостно стоят в громадном светлом зале и быстро-быстро хлопают в ладоши. Но однажды меня до слёз напугала новость, где чёрные бульдозеры мяли гусеницами и толкали груды голых трупов, чтобы заполнить глубокие чёрные рвы Фашистского концлагеря. Мама сказала мне закрыть глаза и не смотреть и после этого меня уже больше в кино не водили.
Однако когда Художественная Самодеятельность представляла свой концерт в Доме Офицеров, Папа взял меня с собой. Разные люди Художественной Самодеятельности выходили на сцену петь под один и тот же баян и зрители им за это хлопали. Потом всю сцену оставили одному человеку, который долго что-то говорил, но я не мог разобрать что именно, хотя он говорил всё громче и громче, чтобы ему тоже похлопали. Наконец, вышли много тёть в длинных платьях танцевать с дяденьками в высоких сапогах и Папа сказал: —«Ага! Вот и Мамочка твоя!» Только я никак не мог её увидеть, потому что в одинаковых длинных платья все тётеньки совсем одинаковые. Папе пришлось показать мне ещё раз кто из них Мама и после этого я не сводил с неё глаз, чтобы не затерялась.
Если бы не такое пристальное внимание, я, может быть, пропустил бы тот миг, что застрял во мне на долгие годы, как заноза которую невозможно вытащить и лучше просто не бередить и не надавливать то место, где сидит… Танцовщицы на сцене кружились всё быстрей и быстрее, их длинные юбки тоже вертелись, подымаясь фонариком до колен, но юбка моей Мамы вдруг всплеснулась и оголила её ноги до самых трусиков. Нестерпимый стыд хлестнул мне по лицу и остальной концерт я просидел упорно глядя на красную краску половых досок далеко внизу от моих свешенных валенков, и не поднимал головы хоть как громко ни хлопали бы вокруг, а весь обратный долгий путь домой я не разговаривал ни с кем из моих родителей, и не отвечал почему я такой надутый.