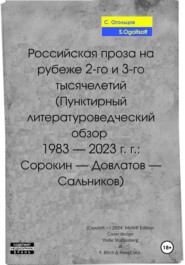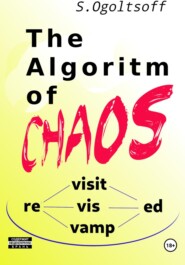По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это были Карпатские партизаны, что защищали свою родину от сменявших друг друга освободителей, они же поработители. Однако для моих родителей, во всю их прожитую жизнь, Бандеровцы неизменно оставались бандитами…)
И даже два года спустя, когда моей матери пришло время снова отправляться в роддом, на склонах Карпатских гор продолжали греметь ожесточённые автоматные и пулемётные очереди, но она их уже не слышала, потому что мужа её перевели из одного «почтового ящика» в другой, из Закарпатья на Валдайскую возвышенность.
Причиной перемены обстоятельств жизни моих родителей послужил письменный донос поступивший в Особый Отдел предыдущего «почтового ящика» из Конотопа. Письмо от жителей дома, в котором Галина Вакимова проживала до своего замужества.
Дом (на Конотопском разговорном «хата») представлял собой одноэтажное строение размером 12 х 12 метров и являлся разделённой собственностью. Половина хаты принадлежала гражданину Игнату Пилюте. Остальная половина распределялась поровну между гражданкой Катериной Вакимовой с тремя её детьми и гражданами Дузенко с их дочерью так, что каждая из двух вышеозначенных семей располагала 1 (одной) дощатой прихожей, 1 (одной) кухней и 1 (одной) комнатой.
Дочь граждан Дузенко вышла замуж за гражданина Старикова, который переехал в принадлежавшую её родителям четверть хаты. Одной кухни и одной комнаты оказалось недостаточно для приемлемого сосуществования родителей и молодой четы. В целях расширения своего жизненного пространства, Дузенко и Стариков выведали номер «почтового ящика» и составили письмо в его Особый Отдел. Донос информировал, что отец Галины Вакимовой (на данный момент Огольцовой) арестовывался органами НКВД как враг народа, однако накануне войны сумел каким-то непонятным образом вновь объявиться на Украине. Во время Нацистской оккупации, по его месту жительства располагался Немецкий штаб (что верно, отчасти, так как на Пилютиной половине хаты квартировали штабные офицеры роты Германского Вермахта). При наступлении Красной Армии, Иосиф Вакимов бежал совместно с отступающими Фашистами.
Особые Отделы секретных объектов отличала особо непримиримая бдительность и неумолимая цепкость, так что родственникам Иосифа, исчезнувшего столь вопиюще предательским образом, светил, как минимум, арест и ссылка, что решало жилищную проблему доносителей. Но в своих вполне логичных расчётах, вернее в бездумном плагиате широко распространённого в те времена приёма, они не учли фактор времени. На тот момент Великий Вождь и Учитель Народов, Товарищ Сталин, успел почить в бозе. Гайки, затянутые в бытность его до предела, мало-помалу начинали послабляться.
Конечно, Николая Огольцова неоднократно вызывали в Особый Отдел для дачи показаний. Состоялся обмен официальной перепиской между Особым Отделом «ящика» и Отделом Внутренних Дел города Конотоп. Однако репрессировать моего отца не стали благодаря его совершенно крестьянскому происхождению и поскольку его так охотно слушались моторы-дизели производившие электроэнергию для засекреченных объектов. Вместе с тем, многолетняя натасканность особистов не позволяла оставить «сигнал» информаторов без внимания и моего отца, на всякий, перевели в другой «почтовый ящик», подальше от границ с зарубежными странами…
Вторые роды Галины Огольцовой состоялись за пределами нового «ящика» в соседнем, не секретном, райцентре.
(…похоже роддом, вернее его отсутствие, являлся Ахиллесовой пятой тогдашних антишпионских предосторожностей…)
В запредельном роддоме принимать её не хотели из-за чрезмерно чёрных волос и ярко-красных цветов на ситце халата. Её сочли Цыганкой. Но сопровождавший её муж (Коля, ну, скажи ты им!) настолько доказательно опроверг это заблуждение, что сегрегационно настроенные медсёстры изменили своё отношение и открыли дверь перед роженицей для предстоящего разрешения от бремени. Полтора часа спустя медперсонал известил моего отца, что жена его родила девочку, а спустя пять минут его же поздравили с рождением сына.
И тогда наш отец испустил ликующий крик: «Тушите лампочку в родильной! Они на свет идут!»
~ ~ ~
История имеет две основные разновидности (и неважно идёт ли речь об отдельно взятой личности или о многомиллионном обществе) из коих первая – это история незапамятная, представленная в двусмысленных легендах, сомнительных мифах и неясных преданиях, тогда как вторая, наоборот, излагает факты чётко разграниченные, прификсированные к определённому летоисчислению, сохранённые в общественных хрониках того или иного вида, или в же в личной памяти, если рассматриваем индивидуальную особь…
Все дети моих родителей с восторгом внимали семейным преданиям, когда у Мамы с Папой было настроение поведать о деяниях самих же слушателей во времена оставшиеся за пределами их детской памяти…
О том как старший, например, впервые начал ходить на вокзале, перед отправлением поезда из Карпат на Валдай. На последующих крупных станциях, Папа выносил меня на очередной перрон для закрепления пока что слабых навыков хождения, поскольку шаткий пол мчащего вагона не слишком подходил для тренировок…
На новом месте семье предоставили деревянный дом откуда меня выпускали для самостоятельных прогулок во двор обнесённый штакетником среднего роста. И Мама просто диву давалась где, в таком аккуратном дворике, я умудряюсь находить такую грязищу, чтобы возвращаться с прогулок завозюканным как поросёнок. Переодевая меня в очередной раз, она предложила Папе разгадать эту загадку. И что же он видит, подглядывая в чуть приоткрытую дверь за маленьким грязнулей? Чуть во двор, ребёнок прямиком топает в угол, где планка ограды болтается на одном лишь верхнем гвозде. Отвёл, протиснулся и – нет его! На улице малыш пыхтя карабкается на кучу песка для строительства соседнего дома. На самом верху он плюхается на пузо и съезжает донизу по мокрому после дождя песку. Да ещё хохочет, довольный такой. Ну разве настираешься на такого негодяя? Пока Мама одевала меня в чистое, Папа вышел во двор с молотком и прибил недозакреплённую планку. Потом он вернулся и вместе с Мамой стал наблюдать: что теперь?
Мальчуган подошёл к привычному месту и толкнул планку. Та не шелохнулась. И соседки её тоже не подались. Ребёнок прошёл вдоль ограды, дважды, дёргая каждую из планок, потом встал на месте и разревелся… В моей памяти не сохранился деревянный дом, нет там и дворика, но от рассказа родителей в глазах начинало пощипывать сочувствие детской обиде. За что?!.
От следующей легенды лапа ужаса мягко прикасалась к волосам, вздымала их на моём загривке, прежде чем запустить тонкие пронизывающие когти, потому что Мама вдруг встревожилась, что меня давно и нигде не видно, и она послала Папу найти. Он вышел во двор, потом на улицу, но там пусто и соседи ничего не знают, а уже вечереет. Папа прошёл вдоль улицы ещё раз, из конца в конец, а потом вдруг обратил внимание на громкий шум речки и поспешил на крутой, почти отвесный обрыв, под которым катила река сердито вздувшись от дождей. И там, далеко внизу, он различил сынулю. Бегом, Папа! Бегом!.
Поток мутной воды покрыл узкую полосу берега под высоким обрывом. Пришлось бежать по колено в воде. Мальчик лежал прижимаясь к мокрой глине откоса, в кулаке стебель случайной былинки, ноги уже в бурлящем потоке. Он даже и не плакал, а только хныкал потихоньку: «ыхы, ыхы…» Папа закутал его в свой пиджак и насилу отыскал место, где можно подняться наверх без рук…
Но до чего же гордо трепетали крылья моего носа от рассказа, что это именно я дал имена моей сестре и брату!
Раз меня назвали именем брата моего отца, то для двойняшек заготовили имена маминых сестры и брата. В роддоме их так уже и звали – Вадик и Людочка. Однако, когда младенцев привезли домой и родители меня спросили как же мы теперь их назовём, я не задумываясь ответил: «Сяся-Тятяся!» И никакие ласковые уговоры не смогли меня переубедить.
Вот почему моего брата зовут Александр, а имя моей сестры Наталья.
~
~
детство
Самую первую засечку, которая подвела черту под моим легендарным прошлым и положила начало записи воспоминаний в мою индивидуальную память, прорисовали лучи солнца настолько резкие, что приходилось жмуриться и отворачивать лицо, стоя на крохотном поросшем травой взгорочке, куда Мама втащила меня за руку. Там мы стояли, ладонь в ладони, пропуская чёрную толпу людей, которая пересекла наш путь в детский сад. Их марширующая масса выкрикивала весёлые приветы мне. Моя вскинутая кверху рука не махала в ответ, не зная ещё, что так полагается, к тому же Мама держала её слишком крепко, но всё равно я чувствовал себя большим и очень важным – вон сколько взрослых зэков знают моё имя! Мне было невдомёк тогда, что оживлённое внимание колонны вызвано присутствием такой молодой и красивой мамы…
Зэки строили два квартала двухэтажных домов наверху Горки и, когда они кончили первый, наша большая семья переехала в двухкомнатную квартиру на самом верхнем, втором этаже восьмиквартирного дома. Весь квартал состоял из шести домов оцепивших прямоугольный периметр большого двора. В него выходили подъезды всех и каждого из зданий, глядя на точно такие же подъезды по ту сторону прямоугольника, по три подъезда в четырёх угловых домах, а в двух коротких только по одному. Но без этой пары коротышек прямоугольник остался бы только квадратом. Дорога твёрдого бетона окружала Квартал и его зеркальное отражение—недостроенного близнеца—объединяя и разлучая их как петли в 8, или в ?.
Когда меня выпускали поиграть, я спешил покинуть безлюдную бездетность Двора и убегал через дорогу, в соседний строящийся квартал. Зэки, которые там работали, меня не прогоняли, а когда им привозили обед, они делились со мной своим супом баландой… Замечательно быстрый рост запаса сочных междометий в моём, на тот момент всё ещё детском, лепете прямым текстом настучал моим родителям на мой текущий круг общения и они тут же сдали меня в детский сад.
Горка, самая верхняя часть секретной территории, поделилась своим именем с двумя кварталами на ней. Со всех сторон охватившей их дороги рос лес, но ни одному дереву не удавалось пересечь бетон дорожного покрытия… Когда второй из кварталов Горки был завершён, зэки исчезли полностью и дальнейшие строительные работы на Объекте (население «Почтового ящика» предпочитали так именовать их место жительства) исполнялись солдатами в чёрных погонах на плечах их формы, чернопогонниками. Кроме них, на Объекте были ещё краснопогонники, но чем они там занимались до сих пор ума не приложу.
~ ~ ~
Путь в детский сад начинался позади нашего дома. За бетоном окружной дороги тянулся затяжной спуск прямо к воротам в заборе из колючей проволоки вокруг бараков Учебки Новобранцев. Но мы чуточку не доходили, а сворачивали вправо на широкую тропу через Сосновник, в обход проволоки Учебки и оставшегося на свободе большого чёрного пруда с высокими деревьями на берегу. Затем путь круто скатывался вниз через густую чащу молодого Ельника. Спуск заканчивался широкой поляной посреди леса окружённой деревянным забором с просветами, через который только кусты смогли пробраться к двухэтажному зданию посреди сети узких дорожек, что расходились к игровым площадкам с песочницами, домками-теремками, и качелями из одной доски, а ближе к зданию стоял даже взаправдашний автобус, короткий, но с большим носом. Стоял он на брюхе из-за отсутствия колёс снятых для удобства вхождения прямо с земли, но рулевое колесо и сиденья оставались на месте.
Зайдя в детский сад, нужно снять пальто с ботинками и оставить в высоком узком шкафчике. Таких их много тут, но только у одного на дверце две весёлые Вишенки, а за ними тапочки, которые нужно одеть и уж потом идти по ступенькам на второй этаж, где три большие комнаты для разных групп, и ещё одна, совсем большая, чтобы все кушали там сразу вместе…
Моя детсадовская жизнь складывалась из всевозможных чувств и ощущений. Безудержная гордость победителя посреди шумной раздевалки, куда уже начали сходиться родители за своими детьми и где (с подачи Мамы: —«Ты же можешь! Вот попробуй!») я обнаружил, что умею сам завязывать шнурки своих ботинков на бантик, совсем без никакой помощи… Горькая подавленность унизительным поражением, когда те же самые шнурки (только грязные и промокшие) затянулись в тугие узлы и их пришлось распутывать Маме, хотя она сама уже опаздывала на свою работу…
В детском саду никогда не знаешь наперёд что может случится с тобой за день пока Мама, иногда Папа, или соседняя женщина, придут забирать тебя домой… Потому что пока ты тут, ни с того, ни с сего могут сунуть блестящую трубку на тонком резиновом шланге глубоко в нос и пшикнуть туда колючий порошок гадостного вкуса, который потом никак не вычихивается. Или заставят выпить целую столовую ложку противнючего рыбьего жира: —«Давай-давай! Знаешь как полезно?»
Самый страшный ужас, когда объявят, что сегодня день укола. Дети снимают рубашки и выстраиваются в тихую очередь к столу, на котором побрякивает своей крышкой стальная коробка медсестры, откуда та достаёт сменные иглы для своего шприца. Чем ближе к столу, тем сильнее давит ужас и зависть к счастливчикам, кому укол уже сделан и они отходят от стола прижимая к плечу кусочек ваты возложенный медсестрой, и хвастают, что совсем не больно было, ну ни капельки. Дети в очереди перешёптываются как хорошо, что сегодня укол не «под лопатку», он самый страшный из всех….
А самые лучшие дни, конечно, субботы. Кроме обычного обеда из ненавистного фасолевого супа, дают ещё почти что полстакана сметаны с посыпкой из сахарного песка, а в неё втоплена чайная ложечка. И детей не отправляют по кроваткам отлёживать «тихий час», вместо этого в столовой затемняют окна плотно навешенными одеялами и показывают на белой стене диафильмы—картинки с надписями внизу. Воспитательница прочитывает белые строчки текста и спрашивает хорошо ли все рассмотрели картинку, и только после этого начинает перекручивать на следующий кадр, где Матрос Железняк захватит бронепоезд Белых, или ржавый гвоздь станет совсем новеньким после купания в сталеплавильной печи, смотря какая плёнка заряжена в диапроектор… Меня эти субботние сеансы восторгали трепетно—негромкий голос из темноты, прорези тонкие лучиков лесенке света на боку проектора, картинки медленно вплывающие в квадрат света на стене—всё складывалось в загадочно неведомое таинство…
Пожалуй, детсад мне больше нравился, чем наоборот, хотя порой меня там подстерегали непредусмотренные рифы. На один из таких я напоролся, когда Папа отремонтировал дома будильник. Он отдал его Маме в руки и сказал: —«Готово! С тебя бутылка!» Не знаю почему, но эти слова так меня восхитили, что я с восторгом воспроизвёл их своим одногруппникам в детском саду, а воспитательница воспроизвела моё воспроизведение Маме, когда та пришла забирать меня домой. По пути через тёмный лес, Мама сказала, что я сделал стыдное дело и нельзя, чтобы мальчик рассказывал посторонним про всё, что бывает в семье. Теперь они могут подумать, что у нас Папа алкоголик, разве этого я хочу, а? Мне это надо?. Ох, как же я себя ненавидел в эту минуту!.
И именно в детсаду я полюбил впервые в жизни. Но я постарался превозмочь незваное чувство. Либо отвернуться и просто уйти, а возможно и убежать даже, с грустью понимая всю безнадёжность этой любви из-за бездонной, как пропасть, возрастной разницы отделявшей меня от смуглой девочки с вишнёвым блеском тёмных глаз. Она была на два года младше…
А до чего недостижимо взрослыми казались бывшие детсадницы, что посетили нас после своего первого дня в их первом классе. В своих белых праздничных фартучках, напыщенно чинные и чопорные, они едва снисходили до редких откликов на оживлённые расспросы воспитательницы.
Воспитательницы и остальные работницы детского сада ходили в белых халатах ежедневно, а не по особо торжественным дням, однако не все. Во всяком случае не та, что сидела рядом со мной на скамейке возле песочницы, утешая очередную, не помню какую именно, из моих горестей—ушиб, царапину или новую шишку на лбу—но что звали её Зина мне не забыть… Ласковая ладонь поглаживала мою голову и я забыл плакать, прижимаясь щекой и виском к её левой груди. Другая щека и веки зажмуренных глаз впитывали тёплое солнце, а я слушал глухие толчки её сердца под зелёным, пахнущим летом, платьем, пока не прозвучал от здания пронзительный крик: —«Зинаида!»
А дома у нас добавилась бабушка, которая приехала из Рязани, потому что Мама ходила на работу, а кому-то же надо смотреть за Сашей-Наташей, помимо других дел по дому. Баба Марфа носила ситцевую блузу навыпуск – поверх её тёмной прямой юбки до самого почти что пола, и белый с голубыми крапушками платок поверх волос. Его мягкий большой квадрат она складывал диагонально и получившимся треугольником покрывала голову, чтобы завязать длинные уголки податливым узлом под круглым подбородком…
Мама работала в три смены на своей работе – Насосной Станции. И у Папы было столько же смен на Дизельной Станции. Я так и не узнал где его работа, но наверняка в лесу, потому что однажды Папа принёс кусок хлеба завёрнутый в газету, а этот свёрток ему дал Зайчик по пути домой. «Ну иду я домой после смены, смотрю – Зайчик под деревом и говорит: —«Отнеси это Серёжке и Саньке с Наташкой!”» Хлеб от Зайчика намного вкуснее чем тот, который Мама нарезает к обеду…
Иногда смены родителей не совпадают и кто-то из них дома, пока другой кто-то на работе. В один такой раз, Папа привёл меня на Мамину работу в невысоком кирпичном здании с зелёной дверью, за которой—как только зайдёшь—маленькая комната с маленьким окошком высоко над старым большим столом с двумя стульями. Но если туда не заходить, а свернуть налево в коричневую дверь, то окажешься в большом тёмном зале, где что-то всё время гудит, а за другим столом Мама делает свою работу. Она совсем нас не ждала и очень удивилась, но показала мне журнал под лампой у неё на столе, в который надо записывать время и цифры под стрелками больших круглых манометров в самом конце узких железных мостиков с перилами, потому что везде под ними тёмная вода, чтобы насосы её качали. И это от тех насосов такой ужасный гул и шум всё время и приходится их перекрикивать, но даже и так не всё слышно. «Что?! Что?!»
Поэтому мы вернулись в комнату напротив входа, но я уже знал кто гудит за стеной. Мама достала из ящика в столе карандаш и ненужный журнал, где много вырванных страниц, чтобы я порисовал каляки-маляки. Я занялся рисованием, а они, хотя у них не было дела и шум уже не мешал, так и молчали, и смотрели друг на друга. Когда я закончил большое круглое солнце, Мама спросила – может я хочу поиграть во дворе? Во двор мне совсем не хотелось, но тогда Папа сказал, что раз я не слушаюсь Маму, он больше не приведёт меня сюда никогда-никогда, и я вышел.
Двор был просто куском дороги из мелких камушков, через которые росла трава, от ворот и до деревянного сарая чуть дальше правого угла Насосной Станции. А сразу за спиной здания поднимался крутой откос в сплошной крапиве. Я вернулся к зелёной двери, от которой короткая бетонная дорожка спускалась к маленькому кирпичному домику в побелке, но совсем без никаких окон, а с большим висячим замком на железной двери. Ну, как тут вообще играть-то?.
Оставались ещё два круглых холма в зелёной траве, по обе стороны от белого домика и намного выше чем он. Хватаясь за длинные пучки травы, я взобрался на правый. С его высоты стало видно пустую крышу Насосной Станции и соседнего с ней сарая. А крапиву я уже видел. С другой стороны за проволокой забора рядом с круглым холмом тянулась полоса кустов, из-за которых искрилась быстрая речка, но меня точно накажут, если пойду за ворота… Для всякой дальнейшей игры оставался один только второй холм с тонким деревцем у него на макушке. Я спустился к белому домику, обошёл его сзади и вскарабкался на второй холм. Отсюда сверху видно было всё то же самое, просто здесь ещё стояло деревце, которое можно потрогать. Вспотевший и разгорячённый подъёмом, я лёг на его тонкую тень.
Ой! Что это?!. Что-то куснуло меня в ляжку, потом в другую, а потом ещё и ещё. Я обернулся и заглянул через плечо за спину. Куча красных муравьёв бегали по моим ногам пониже шортов из жёлтого вельвета. Я смахнул их, но боль жгучих укусов не убывала…
На мой вой, Мама выскочила из-за зелёной двери, а следом за ней Папа. Он взбежал ко мне и отнёс вниз на руках. Муравьёв стряхнули, но опухшие покрасневшие ляжки щемили невыносимо… И это стало мне уроком на всю жизнь – нет лучше средства от жгучих укусов этих рыжих извергов, чем посидеть в зелёной шёлковой прохладе подола Маминого платья туго растянутого между её присевших коленей.
~ ~ ~
Баба Марфа жила в одной комнате с её внуками—нами тремя—узкая железная кровать, на которой она обычно сидела или спала, была поставлена в правом углу от входа, напротив угла заполненного громоздким сооружением – диваном с высокой спинкой чёрного дерматина в широком обрамлении лакированной доской. Пухлые валики двух дерматиновых подлокотников по краям дерматинового же сиденья откидывались (каждый в свою сторону) на петлях, что удерживали их как продолжение плоскости для сидения-лежания, и это позволяло сооружению приютить на ночь баскетболиста среднего роста. На практике эта возможность не испытывалась, поскольку ночью на диване спали двойняшки.