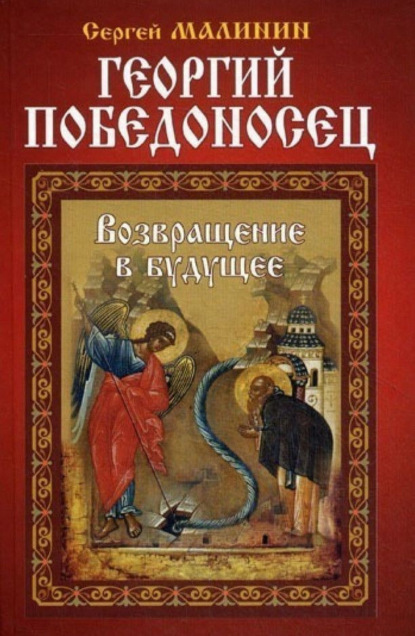По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Георгий Победоносец. Возвращение в будущее
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вскоре после полудня ему снова пришлось сделать остановку. Справа, выныривая из молодого ельника, в дорогу, как ручей в полноводную реку, впадала неприметная тропа, так же, как и сама дорога, густо истоптанная лошадиными подковами. Тут княжич спешился и, присев на корточки, внимательно осмотрел землю.
Подковы лошадей, что шли по дороге, явно были выкованы в одной кузнице и, пожалуй, одним и тем же кузнецом. Следы на тропе, что терялась в молодом ельнике, также были одинаковы меж собой, заметно отличаясь от следов на дороге. Не имея иных сведений о противнике, опричь этих следов, княжич пришёл к выводу, что на этом месте встретились и объединились два отряда, посланных соседями-помещиками для совместного набега на русские порубежные земли. Единообразие подков говорило о том, что лошади были взяты из одной конюшни – вернее, из двух, поелику отрядов было два. Лошадей же в каждом отряде было не менее двух десятков, а стало быть, принадлежали они богатым шляхтичам – к примеру, хоть бы и тому же графу Вислоцкому, о коем княжич Пётр за год плена наслышался предостаточно. Сей именитый лиходей обитал в родовом замке неподалеку от имения пана Анджея Закревского и регулярно промышлял набегами на русские земли, ибо собрать потребное для того количество вооружённых всадников для него, богатого вельможи, не составляло никакого труда. Ему, в отличие от менее зажиточных соседей, не надо было ни с кем сговариваться и спорить из-за доли в добыче – он мог просто отдать короткий приказ, и уже через час сотня, если не две, вооружённых до зубов верховых была готова тронуться в путь.
Всё это княжич сообразил в мгновение ока, едва взглянув на следы двух слившихся воедино отрядов, и даже не столько сообразил, сколько просто увидел опытным глазом бывалого порубежника. Понял он также и то, что ему надобно делать. Задача перед ним стояла хоть и незатейливая, однако вместе с тем непростая: ему следовало торопиться изо всех сил, дабы обогнать замысливших недоброе поляков и предупредить своих о готовящемся набеге. К границе двигался отряд, насчитывающий около полусотни сабель; будучи вовремя предупрежденными, русские порубежники могли дать лиходеям достойный отпор. В противном же случае, уничтожая встречающиеся по пути разъезды русских ертоульных, поляки могли долго бесчинствовать в приграничных землях, и ловить их там было бы то же самое, что гоняться за ветром в поле.
Княжич бросил последний взгляд на так много рассказавшие ему следы. Вывороченная подковами земля ещё не до конца просохла; сие означало, что всадники проехали здесь не так давно – никак не более часа назад. Как по расстоянию между следами, так и из общих соображений было ясно, что ехали они не спеша, шагом – берегли силы лошадей, которые вскоре должны были понадобиться для лихого дела.
– Прости, друже, – негромко обратился княжич к коню, садясь в седло, и ожёг его плетью.
Конь прянул с места. Княжич скакал, пригнувшись к конской гриве даже ниже, чем надобно – сук, ставший причиной долгого плена, помнился ему так живо, словно это было накануне, а не год назад. Быстрая езда принесла ему некоторое облегчение: ветерок от движения овевал разгорячённое лицо, да и назойливая мошкара теперь не могла за ним угнаться, лишь изредка ударяясь в щёки и лоб.
Вылетев на макушку поросшего сосновым лесом песчаного холма, княжич натянул поводья, заставив коня вздыбиться и затанцевать на месте. Эхо нестройного ружейного залпа ещё блуждало меж рыжих сосновых стволов, а княжич уже спрыгнул с седла, обеими руками зажав гнедому морду, дабы тот не выдал ржанием своего присутствия.
Внизу, в заросшей густым орешником и ольхою лощине, всё ещё слышались гулкие одиночные выстрелы. Над чащей зелёных ветвей, стелясь подобно утреннему туману, рваными клочьями плыл пороховой дым. Ветви ходили ходуном, как будто в зарослях резвилось целое стадо лосей или диких кабанов, ветерок доносил до княжича знакомый уху всякого воина лязг железа, крики раненых и яростную брань сражающихся.
Бросив коня, ржание которого ныне вряд ли могло привлечь чьё-либо внимание, с саблей наголо в одной руке и с подаренным паном Анджеем пистолем в другой, княжич скрытно стал спускаться с холма туда, где, судя по звукам, кипела кровопролитная схватка. Чем ближе он подходил, тем сильнее становилось его удивление, ибо среди доносившихся из кустов, уже ставших привычными «пся крэв» и «холера ясна» ухо его стало различать всевозможные «доннерветтер», «дер тейфель» и «о, майн Готт!». Не будучи зело сведущим в иноземных наречиях, княжич, тем не менее, без труда отличил немецкую брань от польской и искренне изумился: откуда, в самом деле, тут было взяться целому отряду вооруженных аломанцев? Ведь для того, чтобы ввязаться в эту кровавую драку, им прежде надобно было проехать едва не всю Речь Посполиту!
Раздумья пришлось оставить до более подходящего времени, когда из кустов прямо на него вдруг вывернулся и замахнулся саблей какой-то человек – судя по чёрному кунтушу, лихо заломленной шапке и длинным пшеничным усам, поляк. Уклонившись от свистящего косого удара, княжич ткнул противника саблей в живот, от души понадеявшись, что под кунтушом нет кольчуги, а если и есть, то она не слишком прочна. Кольчуги не оказалось; поляк охнул, выронил саблю и умер раньше, чем его тело коснулось сырой земли. Не желая ввязываться в чужую драку, никто из участников которой не вызывал у него даже тени симпатии, княжич пригнулся и весьма благоразумно нырнул в кусты, сразу же споткнувшись о тело какого-то человека в железном нагруднике и похожем на глубокий таз стальном шлеме. Запутавшийся в ольховых ветках короткий синий плащ был украшен каким-то замысловатым гербом; княжич был не силён в иноземной геральдике, но и без герба было видно, что перед ним немец. Стальной шлем и высокий, до подбородка кольчужный воротник его не спасли: чья-то меткая пуля попала ему в переносицу, оставив точно между глаз отверстие, в которое при желании можно было без труда засунуть палец. Над этой окровавленной дырой уже кружили мухи; рука в заскорузлой от пота и грязи кожаной перчатке с широким раструбом сжимала прямую широкую шпагу с чистым, не запятнанным кровью лезвием.
Стрельба уже прекратилась, уступив место леденящим душу звукам сабельной рубки: лязгу металла о металл, ржанию лошадей, людским крикам и стонам, а также отвратительному тупому стуку и мокрому хрусту, с коими отточенное до бритвенной остроты тяжёлое железо впивалось в живую плоть, рассекая её и дробя кости.
Осторожно раздвинув ветки, княжич увидел ручей, посреди которого кипела кровавая сеча. Мигом оценив обстановку, он смекнул, как было дело: отряд немецких кнехтов, одетых в одинаковые синие плащи с гербами, по всему видать, угодил в отлично задуманную и тщательно подготовленную засаду. Немцев взяли в клещи с двух сторон, заперев в болотистой, топкой низине, где их тяжко нагруженные кони не могли свободно передвигаться. Добрую половину отряда, похоже, выкосил тот первый залп, который заставил княжича остановить коня и спешиться; стрелы из луков и толстые арбалетные болты ещё более склонили чашу весов на сторону нападавших.
Ручей был запружен людскими и конскими телами; иные кони ещё отчаянно бились, пытаясь подняться на ноги; княжич видел всадников, что, захлебываясь перемешанной с кровью водой, тщились выбраться из-под придавивших их конских трупов и гибли, когда набежавший поляк наносил жалящий сабельный удар. Розовые от крови брызги воды летели во все стороны из-под лошадиных копыт, сабли молниями сверкали в воздухе, рассекая его с шелестящим свистом. Немногие оставшиеся в живых немцы гибли один за другим, не прося пощады, ибо даже княжичу Петру было ясно, что пощады не будет никому. Вот ещё один кнехт, сбитый с седла ударом кистеня, пришедшимся прямо в лицо, рухнул спиною в воду, взметнув целый фонтан брызг. Смуглый горбоносый аломанец с извилистым шрамом через все лицо, потеряв шпагу, оседлал врага и пытался утопить его в мелкой воде, обеими руками сжимая ему горло. Проезжавший мимо всадник взмахнул саблей, и горбоносый с залитым кровью лицом завалился набок. Освобожденный от его мертвой хватки поляк всплыл и закачался на поднятых ногами дерущихся беспорядочных волнах, широко раскинув мертвые руки и ноги.
Дело явно близилось к концу. Поляки уже добивали немногочисленных раненых; поляков было много, повсюду мелькали их чёрные, с чёрными же шнурами кунтуши и заправленные в высокие мягкие сапоги тёмно-синие штаны. Княжич Пётр вспомнил, что рассказывали ему о графе Вислоцком пан Анджей и его вспыльчивый сын Станислав. Помимо всего иного, они говорили о несметном богатстве графа, кое позволяло ему, едва ли не одному на всю округу, рядить свою стражу в форменное чёрно-синее платье, как будто то была не стража, а настоящее войско, наподобие стрельцов царя Иоанна Васильевича.
Княжич стал считать и насчитал два десятка и ещё трёх чёрно-синих воинов; ещё семеро, считая того, что был зарезан княжичем, остались лежать в кустах и в ручье, что неугомонно теребил их, будто пытаясь разбудить уснувших. Немцы, числом около двух десятков, были перебиты почти поголовно. На ногах остался только один из них – богатырского сложения здоровяк с длинными соломенными волосами и бритым кирпично-красным лицом, по которому, смешиваясь, стекали кровь и вода. Воронёные доспехи гиганта были покрыты рубцами и вмятинами, шлем потерялся, волосы были в крови, что указывало на полученную рану, но одинокий боец не сдавался: костеря врагов на чём свет стоит самыми чёрными словами, он с завидной ловкостью орудовал сразу двумя шпагами, не давая никому к себе приблизиться. Какой-то храбрец, увернувшись от мелькающего подобно крыльям стрекозы железа, прорвался через его защиту, норовя ударить широким, как лопата, обоюдоострым лезвием в живот. Не имея возможности ни рубануть, ни уколоть противника шпагой, гигант нанёс ему сокрушительный удар гардой. Даже сквозь шум сражения княжич расслышал хруст, с которым переломился расплющенный страшным ударом нос; поляк издал отчаянный вопль и, охватив ладонями залитое кровью лицо, с плеском опрокинулся навзничь.
Гигант в воронёных латах поймал пробегавшего мимо коня и с неожиданным при его комплекции проворством взлетел в седло. Набежавший смельчак упал, охватив руками разрубленную голову; на прощанье обозвав противников польскими свиньями (что-что, а как будет по-немецки «свинья», княжич знал, ибо не единожды слышал это слово от аломанских купцов на рынке в городке, близ коего располагалось имение пана Анджея), хлестнул коня вместо плети шпагой и был таков раньше, чем целивший в него из пищали поляк успел спустить курок. Выстрел громыхнул вхолостую; брызнули сбитые пулей листья, упала подрезанная ветка, над водой поплыл голубоватый дымок, и наступила тишина, нарушаемая лишь плеском ручья, удаляющимся топотом копыт да стонами раненых поляков.
Княжич попятился было, решив, что смотреть ему здесь более не на что и что надобно тихонько возвращаться к коню и убираться подобру-поздорову, пока его не обнаружили, но тут предводитель поляков – тот самый черноусый красавец в отличном от иных, явно дворянском платье, что стрелял вослед уцелевшему немцу, – вдруг отдал своим людям странный приказ, коего Басманов никак не ожидал.
Те, кто ещё сидел верхом, спешились и зачем-то принялись обдирать с убитых кнехтов доспехи, оружие и плащи.
Увидев, как победители цепляют на себя снятые с трупов нагрудные зерцала и, вылив воду из шлемов, без стеснения надевают оные себе на головы, княжич Пётр мысленно присвистнул, попятился и наконец-то убрался прочь от места, где явно не к добру затевался какой-то жуткий маскарад.
Глава 4
В предвечерних синих сумерках, кои в лесной чаще были куда гуще и темнее, нежели в чистом поле, начальник стражи сбился с пути, заплутал и свернул с большака на малоезжую, едва видневшуюся в густой траве дорогу, которая, выведя обоз на небольшую круглую полянку, окончательно растворилась в траве и исчезла. Объехав поляну и своими глазами убедившись, что вместо дороги со всех сторон сплошной стеной стоит густой еловый лес, даже такой гордец и упрямец, каким был десятский Василий Иванов сын Агеев, недаром прозванный Быком, был вынужден признать, что сплоховал.
– Прости, кормилица, – спешившись и подойдя к окошку возка, обратился он к княжне Басмановой. – Заплутали мы. Не иначе, леший попутал. Не миновать нам в лесу ночевать. Поутру, как рассветёт, авось сыщем дорогу-то.
– Леший попутал, – неприязненно проворчал с козел возница по имени Андрей, степенный мужик пятидесяти лет отроду. – Сказано было, не надоть с большака повёртывать, а ты всё «короче, короче»… Вот, стало быть, и заехали, куда Макар телят не гонял.
– Цыц, смерд! – прикрикнул на него десятский. – Укороти-ка язык, не то я тебе его сам укорочу!
– Ну, а то как же, – даже не подумав испугаться, проворчал Андрей. – Дорогу-то ты уж укоротил, ныне самое время за мой язык взяться. Боле-то тебе, чай, заняться нечем…
– Да я тебя… – наливаясь тёмной кровью, начал Бык, но его остановил прозвеневший из темной глубины обитого телячьей кожей возка строгий голос княжны:
– Будет вам! Будет, кому сказано! Сколь вы ни лайтесь, дорога сама от вашей брани не сыщется. Да и вечереет уже, всё едино ночевать надобно. Тут и остановимся.
Склонившись в поклоне, десятский Васька Бык подумал, что яблочко от яблоньки недалеко падает. Ишь, как повернула! Её послушать, так получится, будто она только что решение приняла и своею волей повелела остановиться на ночлег именно тут, на этой вот поляне, а не в ином каком-либо месте. Будто ведомо ей, как до того «иного» места добраться, как из глуши этой, из дебрей диких, вспять на большую дорогу выбиться… Одно слово – князя Андрей Иваныча кровь! Даже голосок ни разочка единого не дрогнул, хотя девице княжеского роду, в такое место угодив, полагалось бы до смерти перепугаться…
Возница Андрей уже ковырялся в упряжи, выпрягая из оглобель пару вороных. Подле обозных телег, не дожидаясь приказа, суетилась дворня: выпрягали, снимали с воза походный шатёр, искали погребец с припасами, торопясь разбить лагерь и устроить княжну на ночлег засветло. Кто-то из посланного для охраны княжны десятка уже ворочался в лесу, как медведь, треща в темноте хворостом и негромко, дабы не услышала Ольга Андреевна, костеря сквозь зубы проклятущую темень, колючий ельник и сучки, которых какой-то хромой бес понатыкал аккурат супротив глаз для вернейшего погубления православных душ.
Вскоре посреди поляны ярко вспыхнул костёр, разогнав темноту в стороны и согрев своим живительным теплом уже начавшую мёрзнуть в легком летнем наряде княжну. Подле костра воздвигся белый полотняный шатёр, в коем при свете сальных свечей горничная и мамка готовили молодой хозяйке постель. Вослед первому загорелся второй костёр, и стражник Иван Лопата, игравший в сём славном походе незавидную роль кухарки, принялся кашеварить, что-то ворча и приговаривая в густую и широкую, истинно как лопата, чёрную цыганскую бороду.
Присев у огня на принесённый с одной из телег низкий резной стульчик, княжна Ольга подпёрла рукою щеку и стала смотреть, как вьются над костром, бесследно исчезая в чёрном ночном небе, живые рыжие искры. Тревога и горечь расставания с отчим домом, боязнь неизведанной будущности, боль разлуки со всем, что было ей знакомо и мило, – все это изрядно притупилось за время пути. В дороге княжна обрела если не покой, то хотя бы видимость покоя; она привыкла к неспешному, скрипучему и тряскому движению меж зеленеющих полей и перелесков, ибо человеку свойственно рано или поздно привыкать ко всему, и ныне это неторопливое перемещение по пыльным дорогам, среди деревень с их соломенными кровлями и ветхими деревянными церквушками, белокаменных, с золочеными куполами монастырей, синих озёр и небыстрых, с зеленоватой водою, равнинных речек в травянистых берегах, представлялось ей вполне приемлемым, а может быть, даже и самым приятным способом существования – без забот, хлопот и особенных тягот, с картинками за окном возка, медленно сменяющими друг друга и никогда не повторяющимися…
Минувшее было отрезано от неё, отсечено, словно ударом острой сабли, твёрдым решением отца; будущность немного страшила – Бог весть, как оно всё сложится на новом месте, с чужими, незнакомыми людьми, – и с еще большим удовольствием княжна предавалась скромным, неброским радостям дальней дороги.
Случившаяся в пути непредвиденная задержка княжну Ольгу нисколечко не опечалила. Торопиться ей было некуда, и оплошность Васьки Быка, который по недомыслию своему завёл их всех в эту глухомань, для княжны представлялась скорее благом, ибо позволяла продлить ставшее привычным, а оттого милым сердцу, путешествие.
В темноте топотали, неловко, прыжками передвигаясь на спутанных ногах, стреноженные кони; негромко покрикивал, расставляя на ночь караулы, провинившийся и оттого ещё более чем всегда задиристый и ершистый Бык. От костра, где кашеварил угрюмый Иван Лопата, тянуло вкусным запахом наваристой похлёбки. Пожилая мамка принесла и заботливо накинула княжне на плечи тёплый пуховый платок; горничная девка, переняв у неуклюжего Лопаты, подала расписную деревянную доску, на коей стояла миска с дымящейся похлебкой и лежал ломоть хлеба. Княжна отведала, обернулась и, отыскав взглядом Ивана Лопату, ласково ему улыбнулась: похлёбка и впрямь была хороша, а на свежем воздухе, после долгого, полного новых впечатлений дня, казалась вкуснее всего, что княжна едала до сих пор.
Польщённый Лопата, ворча и отмахиваясь от самых прытких увесистым черпаком, принялся кормить остальных. У костра, где вперемежку со стражниками разместились обозные мужики, стоял весёлый гомон. То и дело с той стороны долетало, касаясь слуха княжны, крепкое, солёное словцо, и тогда мамка Никитична, всякий раз плюнув через плечо, сердитым голосом ругала разгулявшихся сверх меры мужиков.
Впрочем, никакой особенной гулянки подле костра не было: князь Андрей Иванович строго-настрого заказал своим людям бражничать в дороге, пока не передадут княжну с рук на руки жениху, и Васька Бык, верный, как цепной пёс, и, как пёс же, не склонный к рассуждениям, строго следил за неукоснительным соблюдением сего запрета. Вечеряли поэтому всухомятку, и веселья настоящего не получилось, так что спать мужики улеглись, утешая себя тем, что наверстают упущенное, когда довезут княжну до условленного места, и наложенный князем запрет, который радением Быка обрёл силу истинного чернокнижного заклятья, наконец-то потеряет силу.
По мере того как горячее хлебово в деревянных мисках иссякало, а усталость и наступившая сытость брали своё, шум на поляне стал утихать. Кто-то уже спал, выставив из-под телеги ноги и оглашая лес заливистым богатырским храпом. Чернявый Лопата, присев на корточки у огня, где светлее, оттирал пучком травы опустевший котёл. Десятский Васька Бык, сидя на возу, предавался излюбленному занятию – точил саблю, что-то негромко и не зело мелодично напевая себе под нос. Мамка Никитична уже трижды подходила к княжне, уговаривая лечь; спать княжне не хотелось, и, видя, что старая мамка едва держится на ногах от усталости, Ольга Андреевна велела ей ложиться самой. Никитична удалилась, ворча, зевая и крестя рот; малое время спустя пришёл, шурша по траве сапогами, сонный стражник с охапкой собранного в потёмках хвороста. Получив новую порцию пищи, огонь весело затрещал, взметнулся к тёмному небу, и на краю поляны ненадолго показалась выхваченная из темноты фигура караульного с копьём в отставленной руке.
Княжна сидела, помешивая хворостинкой ярко рдеющие угли, глядела на огонь и ни о чём особенном не думала. Дорожные картинки медленно проплывали перед её внутренним взором, сменяя друг друга не в том порядке, как это происходило днём, а в зависимости от того, насколько ярким и запоминающимся было впечатление. Спать не хотелось совсем, но Ольга Андреевна понимала, что надобно ложиться, чтобы не проспать половину завтрашнего дня. Наконец, она решилась внять голосу рассудка и отправиться на покой: быть может, сон одолеет её, едва она ляжет, как это бывало уже не единожды. А если нет, у неё останется её любимое занятие, коему она предавалась с тем же постоянством, с каким Васька Бык ежевечерне точил свою саблю: улегшись в постель и оставшись наедине с собою, она станет по одному, как драгоценности в ларце, бережно перебирать воспоминания, связанные с домом, отцом и старшим братом, ныне, увы, уже покойным.
Княжна ощутила смутную печаль. Надёжно запертые на протяжении всего дня воспоминания требовательно запросились на волю; она будто слегка приоткрыла крышку ларца, в коем они хранились, и было ясно, что уснуть не получится, покуда она не согреет каждую из лежащих в этом ларце жемчужин теплом своих ладоней.
Княжна поднялась, спеша удалиться в шатёр раньше, чем кто-либо из спутников увидит на её щеках слёзы, и тут в нарушаемой только потрескиваньем костра да криками ночных птиц тишине громко прозвучал показавшийся Ольге Андреевне испуганным голос караульного:
– А ну, стой! Куды прёшь? Стой, кому сказано?!
Из темноты беззвучно выступила и остановилась на границе отбрасываемого огнем зыбкого светового круга кряжистая, как комель старого дуба, косматая фигура, при виде которой оцепеневшей от испуга княжне почему-то вспомнился языческий бог смерти Карачун.
* * *
Незадолго до того, как княжну Басманову напугало неожиданное появление близ её временного лагеря странного, чтобы не сказать страшного незнакомца, на узкой звериной тропке, что, прихотливо извиваясь, проходила недалеко от поляны, встретились два человека.
Одному из них на вид был около сорока, может быть, сорока пяти лет, хотя на самом деле ему совсем недавно сровнялось тридцать. Коптящий смоляной факел, который он держал в левой руке, освещал заросшее косматой бородою широкое кирпично-красное лицо и расхристанную на волосатой, выпуклой, как наковальня, груди ветхую рубаху, в вырезе которой тускло поблескивал медный крестик на засаленном шнурке. Человек был коренаст и крепок; наполовину истлевшую от грязи и пота рубаху перехватывал широкий кожаный пояс, за который был засунут любовно отточенный топор с лоснящимся, захватанным руками топорищем. Через плечо была перекинута разлохмаченная верёвка, в петлю которой была продета висевшая на боку побитая ржавчиной сабля без ножен. Шапка на человеке была худая и рваная, зато сапоги, коих почти не достигал красноватый свет факела, пришлись бы впору хоть боярину, хоть князю – красные, сафьяновые, с серебряными подковками, они были великоваты своему владельцу, каковое неудобство устранялось при помощи дополнительной портянки. Словом, человек этот выглядел обыкновенным разбойником, и неудивительно: разбойником он и был, причем уже давненько, и малопочтенное сие ремесло естественным порядком наложило неизгладимую печать на его облик.
Второй был старше лет на десять с хвостиком, а выглядел и вовсе стариком – до тех пор, по крайней мере, пока внимательному наблюдателю не бросалась в глаза недурно замаскированная мешковатой драной рубахой, некоторой сутулостью и, в особенности, длинной и взлохмаченной бородищей мощь богатырской фигуры, над коей оказались не властны ни годы, ни тяжкий труд, ни пережитые лишения. Лицо его пересекал длинный, неправильно сросшийся и оттого уродливый шрам, проходивший прямиком через глаз, так что оставалось только гадать, как это обладатель сего украшения в своё время ухитрился не окриветь. Лохмотья, заменявшие ему рубаху, были перепоясаны куском сплетённой из лыка верёвки; поверх рубахи было надето что-то вроде меховой безрукавки, за поясом торчал большой нож в меховых же ножнах, с рукояткой из лосиного рога. Несмотря на дикую лесную наружность, на разбойника он не походил – для такого сходства ему чего-то недоставало не то в лице, хотя и достаточно безобразном, но словно озарённом каким-то внутренним светом, не то в том, как он разговаривал. Внешность его наводила на мысли не о разбое, а почему-то о нечистой силе, обитавшей в здешних лесах с полузабытых языческих времен – леших, кикиморах, водяных, аукалках.
– Я тебе, Медведь, в третий раз говорю и боле повторять не стану: не замай, – негромко, но с большою внутренней силой втолковывал он человеку с факелом. – Грехов на тебе и без того немало, так что ныне можно и воздержаться.
– Давно ль ты ко мне в духовники-то записался? – Голос Медведя звучал насмешливо, но глаза поблескивали из-под косматых бровей насторожённо и даже боязливо, словно собеседник вызывал у него какие-то опасения. – Ишь, чего удумал – воздержаться! Я бы, может, и воздержался, да уж больно кус лакомый!
– На чужой каравай рот не разевай, – наставительно сказал ему старший. – Сей кус тебе не по зубам. Верно тебе говорю: даже думать забудь, не то после пожалеешь горько.
Последние зубы свои об тот кус обломаешь, да и околеешь, как пёс, без покаяния.