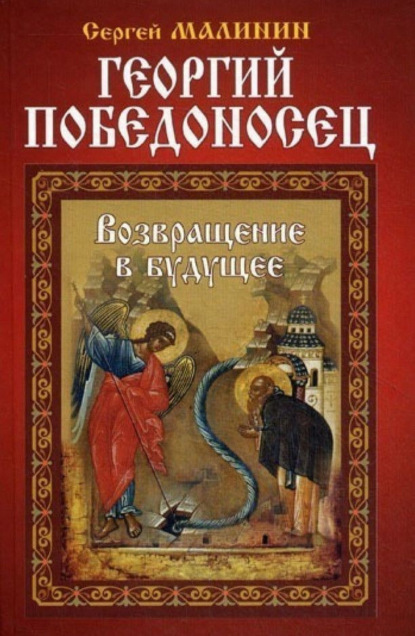По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Георгий Победоносец. Возвращение в будущее
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Княжич усмехнулся в русую бородку.
– Ай, пан Тадеуш, негоже в твоих-то годах душой по мелочам кривить! Нешто я князя Андрей Иваныча не знаю? Да у него, поди, хребет надвое переломится, ежели он надумает мне поклониться!
Пан Тадеуш крякнул и сгреб в горсть длинные вислые усы, как делал всегда, когда бывал смущён.
– Выкуп-то, поди, не привёз? – с мягкой насмешкой, будто речь шла о чём-то заведомо невыполнимом, спросил княжич.
Малиновский снова только крякнул в ответ, весьма кстати припомнив, что московит заранее предупреждал и его, и пана Анджея о полной безнадежности их затеи с выкупом.
– Может, сынок-то твой оттого и взбеленился? – обратился княжич к пану Анджею. – Сие на него, конечно, не похоже, да кто ж его ведает? Чужая душа – потёмки…
– Да нет, – вздохнул пан Анджей, приняв окончательное решение, – причина в ином. – Он огляделся по сторонам и замахал руками на челядинцев, что, тесной кучкой стоя на некотором удалении, жадно прислушивались к разговору. – Пошли вон! Вам что, заняться нечем? Раньше надо было глядеть, а теперь нечего глаза таращить! Я ещё разберусь, кто из вас, бездельников, допустил такое безобразие!
Угроза была бессмысленная, но она возымела желаемое действие: дворовые, пряча глаза, торопливо разошлись по своим делам.
– Причина в ином, – повторил пан Анджей, когда подле них не осталось лишних ушей. – Станислав был в городе, и там, как я понимаю, до него дошли некоторые слухи…
Он замолчал, с внезапной горечью осознав, сколь широко разошлась дурная молва, раз уж эта мерзкая выдумка отыскала Станислава в городе.
– Что-то я ныне непонятлив, – сказал княжич, когда пауза затянулась. – Давеча сына твоего не понял, теперь вот тебя… Брось загадки загадывать, ясновельможный! Говори прямо: что стряслось, в чём моя вина? Я пред тобою чист, однако вижу: что-то не так.
– Причина в ином, – снова повторил пан Анджей Закревский и беспомощно оглянулся на друга, как бы ища у него помощи в трудном деле. Но пан Тадеуш только крякнул и отвернулся, смущённо пропуская через красный костлявый кулак длинные, основательно тронутые сединою усы. – Мой сын никогда не напал бы на тебя из-за такой низменной материи, как деньги.
– Материя, конечно, низменная, однако без неё и зубы на полку положить недолго, – со свойственной ему рассудительностью возразил княжич Басманов. – Да и не объяснил ты мне ничего, ясновельможный. Ни о чём таком возвышенном мы с твоим сыном не спорили. Да мы и двух слов-то сказать не успели: налетел вихрем и ну саблей махать!
– Мой сын, – продолжал пан Анджей, благоразумно пропустив эти не содержавшие ничего для него нового слова мимо ушей, – мог до такой степени потерять голову лишь в одном случае: если была задета его честь.
Пётр Басманов беспомощно развёл руками.
– Ну, тогда я и вовсе в толк не возьму, какая муха его укусила. При чём тут его честь? Может, я оттого ничего не разумею, что только наполовину князь? Нижняя половина, стало быть, княжеская, а верхняя, где голова, – мужичья, вот и не поймёт ничего…
Пан Тадеуш Малиновский, которого всё это напрямую не касалось и который, к тому же, ещё не окончательно отрезвел после выпитого за обедом вина, хмыкнул в усы, невольно отдавая должное шутке, но тут же снова надулся, напустил на себя задумчивый и хмурый вид, ибо дело было, увы, не шуточное.
– Дело сие далеко не потешное, – подтверждая правильность его поведения, вздохнул пан Анджей. – Сколь бы ты, Пётр Андреев сын, ни говорил мне о низком своем происхождении, кровь в тебе течёт княжеская, и что такое честь, тебе не хуже моего ведомо. Ведомо тебе, мыслю, и то, что мужчине в семье с младых ногтей надлежит быть защитником и блюстителем живота и чести, особливо когда дело касается женщины – матери, жены или, скажем, сестры…
Княжич Басманов не вдруг сообразил, на что намекает ясновельможный пан Анджей. Произошло сие не от прирождённой глупости или тугоумия, но единственно от простодушия княжича, который, не ведая за собой иной вины, опричь бедности и не совсем ясного, а вернее, очень даже ясного происхождения, не мог взять в толк, на что людям, не имеющим до него никакого касательства, выдумывать про него то, чего на деле не было.
Когда же заключённый в словах пана Анджея неприятный намёк постепенно дошёл до сознания пленного московита, его обрамлённое русой бородкой скуластое лицо закаменело, а серые глаза потемнели и сузились в две недобрые щелочки. Щелочки эти глянули на пана Анджея так, что стоявший поодаль Тадеуш Малиновский на всякий случай придвинулся ближе, положив, будто невзначай, ладонь на эфес сабли. Нападать вдвоем на одного, да ещё безоружного, конечно, негоже, но и бросать старого друга в беде один на один с этаким медведем тоже никуда не годится. После совесть замучит, что не вмешался, не спас, да и люди станут глаза колоть: куда ж ты смотрел, когда товарища твоего и благодетеля русский медведь голыми руками на куски рвал?
– Так это что же получается? – сквозь зубы спросил Басманов. – Выходит, Станислав наш Андреевич на меня налетел, чтоб я сестру его не обижал? А я её, стало быть, обидел? Тогда казни меня, ясновельможный! Всё едино в том, в чём не виноват, я оправдываться не стану.
– Да никто ведь и не говорит, что виноват, – кривясь, словно от зубной боли, с неохотой выговорил пан Анджей. Он даже немного разозлился на своего не в меру простодушного пленника: нельзя, в самом деле, дожив до таких лет и даже бороду себе отрастив, по-прежнему полагать добродетелью детскую наивность!
– А кто ж виноват? – лишний раз подтверждая не слишком лестное мнение о себе, развёл руками княжич. – Ежели я не виноват, почто меня саблей-то рубить хотели? Что-то ты, ясновельможный, недоговариваешь, крутишь ты что-то, душою кривишь. А со мной того не надобно. Ежели есть за мной что-то, чего я и сам не ведаю, ты мне так прямо и скажи. А только, мнится, сказать-то тебе и нечего. Дочь твоя, пани Юлия, пригожа да красна, и нравом кротка, яко горлица, и обижать её у меня и в мыслях не было. Я на неё глянуть-то лишний раз боюсь…
– А вот она на тебя поглядывает весьма благосклонно, – хмуро вставил пан Анджей.
– Да что ж тут такого? – опять развёл руками московит. – На то Господь людям глаза и дал, чтоб на белый свет глядеть. Поглядывает… Да я уж замечал, что поглядывает, оттого её и сторонюсь. Кто я, а кто она? Не будь я твой пленник, да будь мы с нею одной веры, глядишь, и сватов бы заслал. А так…
Он махнул рукой и пожал широкими плечами. Пан Анджей вздохнул. Замечая, какими глазами смотрит на пленника его дочь, Закревский не единожды ловил себя на мысли, что при иных обстоятельствах лучшего зятя ему бы не сыскать. Что с того, что небогат? При его отважном сердце и крепкой руке такой рыцарь мог бы саблей добыть себе и богатство, и славу. Юлии он люб, и она до конца дней своих была бы счастлива, живя за ним, как за каменной стеной. А о чём ещё может мечтать любящий отец, как не о счастии своих детей?
Но печалиться о том было ни к чему, ибо сей путь к счастью для Юлии Закревской был заказан. Слишком много препятствий стояло на этом пути, чтобы всерьёз думать о таком замужестве. А сегодня к этим препятствиям добавилось ещё одно в лице Станислава, который ещё утром почитал пленного московита едва ли не лучшим своим другом, а ныне со свойственной юности поспешной горячностью, похоже, зачислил его в злейшие враги.
– Тебе я верю и вины за тобой не числю, ибо знаю тебя и люблю, как родного сына, – искренне признался пан Анджей, вызвав одобрительный кивок продолжавшего стоять поодаль Малиновского. – Но злые языки разное болтают про тебя и Юлию. Мнится, эти сплетни достигли слуха Станислава…
– Так и думал, что напраслина, – зло проговорил княжич. – То-то он взбеленился! Ты скажи, ясновельможный, кто те сплетни распускает, я ему живо голову носом к пяткам поверну!
Пан Анджей покачал головой.
– Нас в семье двое мужчин, и укоротить языки сплетникам – наше, семейное дело. Первое же, что надобно сделать, дабы оградить честь моей дочери от злого навета, это лишить клеветника повода для измышления новой напраслины.
Княжич невесело усмехнулся и в свой черёд покачал русой головой.
– А повод – я, – сказал он. – Что ж делать станешь, ясновельможный? Нешто на бой меня позовёшь? Как это по-вашему – дуэль?..
– Напрасно ты меня обижаешь, – вздохнул пан Анджей. – Я тебе зла ни словом, ни делом не причинил. А если что не по нраву пришлось, прости – то не со зла, а по неразумию нашему деревенскому. Рода мы, хоть и старого, но не княжеского, посему не обессудь, коль что не так.
– И ты меня прости, ясновельможный, – поклонился пленник. – Принимал ты меня, и верно, как гостя, да жаль, добра из того не вышло. Вместо честного выкупа, кой тебе по обычаю полагается, одно лихо нажил. Как поступить-то мыслишь? Аль перевезёшь меня куда? Вон, хоть бы и к пану Тадеушу на хутор. Хлеб я свой сполна отработаю, и от дочки твоей далече…
Пан Анджей на минуту задумался. Такой простой способ решения проблемы ему как-то не приходил в голову. Впрочем, по зрелому размышлению, способ этот представлялся не таким простым и далеко не самым действенным. Хутор Малиновского не за тридевять земель, в тридесятом царстве, а всего-то в десяти вёрстах отсюда. А десяти вёрст маловато для того, чтобы сплетня зачахла сама собой, как растение без полива и солнечного света. Пока московит будет оставаться в округе, слухи не улягутся. Стало быть, жди новых неприятностей; будут косые взгляды, будут смешки за спиной, обидные намёки; дуэли тоже будут, и, судя по тому, что пан Анджей видел только что, в одной из этих дуэлей, и хорошо, если не в самой первой, погибнет его сын.
– И сколько прикажешь тебя в неволе держать? – спросил он. – До самой смерти? Заставить тебя, князя, землю пахать да за скотиной ходить? Думается мне, нет в том ни чести, ни особого смысла.
– Нешто отпустишь? – удивился княжич.
– Отпущу, – решительно молвил пан Анджей, вызвав удивлённый и вместе с тем одобрительный взгляд Малиновского. – Коня твоего тебе верну, хоть и жалко – конь у тебя добрый. Саблю верну, пищаль – ну, словом, всё, что при тебе было, когда ты ко мне в плен попал.
– Спаси тебя Бог, ясновельможный, – с низким поклоном молвил княжич. – Прости, ежели что не так. А пищаль себе оставь. Пищаль добрая, но для тебя не жалко – дарю. Что же до выкупа, кой тебе, чаю, лишним не будет, то вот моё слово: как только доберусь до дома, продам свою деревеньку и деньги тебе вышлю. А то, глядишь, и сам привезу. Так оно и надёжней, и приятнее выйдет. Мнится, буду я по тебе скучать, ясновельможный пан Анджей.
Они обнялись; вослед за хозяином вчерашнего пленника сердечно обнял прослезившийся от умиления, а паче того от выпитого за обедом вина пан Малиновский. При этом никто из мужчин не заметил, как за углом амбара метнулся и пропал, скрывшись в направлении дома, белый подол девичьего платья.
Юлия Закревская провела ночь без сна, орошая горючими слезами подушку – единственную свидетельницу и наперсницу первой девичьей любви.
А утром, чуть свет, оседлав застоявшегося в чужой конюшне гнедого, княжич Пётр Басманов распрощался с хозяевами и выехал за ворота. Подгоняемый тоской по родным местам, коих не видел уже целый год, он ехал, не оглядываясь, жалея лишь о том, что не может пустить коня в галоп – путь ему предстоял неблизкий, и гнедого следовало беречь. На боку у княжича висела его старая сабля, коей он не держал в руке с того самого дня, как его полонил не столько пан Анджей, сколько не к месту и не ко времени повстречавшийся на дороге сосновый сук; из притороченной к седлу кожаной сумы выглядывала богато изукрашенная рукоять подаренного хозяином пистоля. Нежданно-негаданно получивший свободу пленник держал путь туда, где над чёрной зубчатой кромкой утонувшего в утреннем тумане леса поднималось солнце, не ведая, что путь домой окажется куда более долгим и опасным, чем он мог себе представить.
* * *
Расчерченный дубовыми балками потолок терялся в сумраке, равно как и углы громадного, завешенного потемневшими старинными гобеленами и тронутым ржавчиной оружием зала. В закопченной пасти громадного камина, где можно было целиком зажарить быка, горел, потрескивая, жаркий огонь. Его оранжевые отблески играли на выложенном каменными плитами полу, поблескивали на полированных боках установленных в простенках рыцарских лат и озаряли зловещим багровым светом тяжёлое, будто вырубленное топором из твёрдого дерева лицо сидевшего в массивном кресле человека. По бокам узкого, как сабельный шрам, жестокого рта залегли глубокие складки, отчасти скрытые длинными седыми усами, глаза настороженно поблескивали из тёмных, занавешенных косматыми бровями глазниц. Обритый наголо, серебрящийся отросшей щетиной череп, оттопыренные хрящеватые уши и загнутый крючком, подобно клюву хищной птицы, нос дополняли картину. Отсветы огня переливались на золотом шитье богатого кунтуша и вспыхивали яркими подвижными искрами в обрамлённых массивным старинным золотом драгоценных каменьях, что унизывали длинные, костлявые пальцы. Пальцы эти сжимали бумажный свиток, с коего свисала, раскачиваясь на витом шнурке, небрежно сломанная печать. Ноги сидевшего, обутые в мягкие сафьяновые сапоги, стояли на разостланной перед камином косматой медвежьей шкуре, которая бессмысленно таращила на огонь стеклянные глаза и грозно скалила пожелтевшие клыки.
Отхлебнув вина из стоявшего под рукой, на краю бескрайнего дубового стола тяжёлого серебряного кубка, граф Вислоцкий заново, с самого начала перечитал грамоту. Свободная рука, пошарив у горла, нащупала толстую золотую цепь, на которой висел образ Пресвятой Девы Марии, и сдавила так, словно хотела оборвать. Другая рука гневно скомкала свиток, не содержавший ровным счётом ничего утешительного, и швырнула в огонь. Несколько мгновений бумага, как живая, корчилась на раскалённых углях, и написанные угловатыми готическими буквами строки, казалось, извивались, подобно змеям. Затем скомканный лист потемнел и вспыхнул, в два счёта сгорев дотла. Поток горячего воздуха подхватил невесомые хлопья пепла и утащил в каминную трубу.
– Пся крэв! – выругался граф и одним глотком допил вино, что ещё оставалось в кубке.
Из сумрака у дверей бесшумно выступил лакей, на цыпочках приблизился к столу и, избегая даже искоса смотреть на графа, который в гневе бывал страшен, наполнил кубок из стоявшего на столе кувшина. Вислоцкий, казалось, этого не заметил, продолжая остановившимся взглядом смотреть в огонь, будто в прихотливых, никогда не повторяющихся извивах пламени пытался прочесть своё будущее.
– Пожаловал пан Быковский, – доложил лакей – не громко и торжественно, нараспев, как во время приёмов, а вполголоса, ибо граф не любил громких звуков, а недовольство своё выражал самыми неожиданными и порой весьма болезненными способами, от обычного пинка до выстрела из пистоля, ежели таковой случался под рукой.
– Зови, да поживей, – мрачно проворчал граф. – Я уже устал ждать. Где вас всех носит, когда вы нужны?!