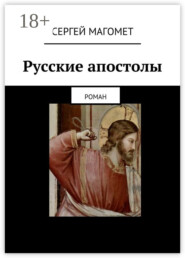По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
СВОБОДНА! Записки Степной Волчицы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кстати, – спохватилась Александра Степанова и снова закашлялась, – а курить у вас разрешается? – Теперь я поняла, чем объяснялось ее нездоровое покашливание. К тому же, она сама оговорилась, что привычка непростительно вредная, надо бросать, тем более что курить она начала сравнительно недавно, то есть в уже зрелом возрасте, как раз незадолго до того, как ушел муж, а после его ухода и подавно задымила как какой-нибудь боцман – самоубийственно интенсивно.
Тетка замялась, но я нашлась, тут же заявив, что безусловно запрещается – поскольку тетка жутко боится пожара.
С сожалением покачав головой, Александра Степанова достала пачку тонких дамских сигареток, зажигалку и отправилась курить за калитку. Там она стояла в профиль к дубовой роще, держа сигаретку между напряженно вытянутых пальцев, коротко, но глубоко затягиваясь.
Накурившись, она без лишних церемоний переоделась в затрапезные джинсы, линялую безрукавку и, налив в ведро воды, вымыла, выскоблила пол во всем доме, а также перетрясла и перестирала все теткины коврики и половики.
Как показало дальнейшее, мои опасения были совершенно напрасными. Хотя поначалу я даже зачастила к тетке, узнать, как у них дела. Но постоялица, пусть и весьма безалаберно, и правда жила тихо, как мышка. А главное, терпеливо, даже с интересом выслушивала теткины мемуарные отступления, семейные предания, а также истории о местных нравах и новости о дачных происшествиях. Меня она, как будто, стеснялась. А может быт, боялась показаться в тягость. Я, впрочем, немножко пошпионила за ней, даже в ее отсутствие поднялась к ней в светелку, покопалась в ее вещах. Обычное женское любопытство. Удивительное дело, у нее не обнаружилось абсолютно ничего примечательного – минимум косметики, два-три женских романчика, распечатка перевода повести какой-то дипрессушной шизофренички-американки. Ну а к ней в ноутбук, даже если бы я страдала патологическим любопытством, я бы, конечно, не полезла; тем более, по книжечке своих стихов с дарственной надписью она преподнесла нам с теткой в первый же день. Такие женщины, порой и раздражая излишней дотошностью и щепетильностью, однако, как правило, весьма легко находят общий язык с людьми. Особенно служебной обстановке и с женщинами. При желании с ними всегда можно переброситься поверхностным словечком, просто попить кофейку.
О ее запущенной внешности я уже упомянула. Впрочем, как и то, что в целом изъяны не были такими уж фатальными. Сама-то я всегда стараюсь следить за собой, что называется, в соответствие с последним «писком». При этом все подруги считают меня весьма мудрой и рассудительной. Но в Александре Степановой ум был совсем другого свойства. Не знаю, можно было бы назвать склад ее ума мужским? Не думаю. Во всяком случае, я с уважением (хотя без крупицы зависти) замечала в ней то, чем не обладала сама: само выражение ее лица, обороты речи свидетельствовали о тонкой, потаенной, предельно напряженной внутренней работе. Возможно, какой-нибудь злой женский язычок назвал бы это желанием «поумничать», – что, вообще говоря, женщине ни к лицу. Впрочем, это был бы явный наговор и предвзятость – даже для нашей сестры. Если в Александра Степанова и позволяла себе некое глубокомыслие, то никак не из желания блистать или «звездить». Разве что раздражала промелькивавшая в ней несвойственная женщине способность судить, а точнее, способность воспринимать вещи чересчур ответственно. Впрочем, это объяснялось не какой-то там запредельной интеллектуальностью, а экстремальной нравственностью, «правильностью», которая сказывалась во всем ее отношении к миру. Если угодно, чувством долга. А это, конечно, приводит в изумление – особенно, в наше время, когда никому ни до кого, в общем-то, нет никакого дела.
В этой связи припоминается одно чрезвычайное происшествие во время ее проживания у тетушки – происшествие, которому мне довелось стать свидетельницей, случай для нашей тихой и безмятежной дачной жизни из ряда вон.
Был славный жаркий вечер, догорал закат, уже во всю стрекотали сверчки, я собиралась возвращаться в Москву, прихорашиваясь на веранде. Вдруг на веранду влетает перепуганная тетка и едва лепечет:
– Ох! Ах!.. – И больше вымолвить ничего не может.
Оглядываюсь, вижу за ее спиной страшную, азиатскую, всю окровавленную рожу. Дар речи возвращается к тетке. Выясняется, что на одной из соседних дач, где днем узбеки строили коттедж, а к вечеру обычно удалялись в какое-то свое гетто-резервацию, оставляя лишь старика-сторожа, произошел разбой. Двое неизвестных, не то цыгане, не то молдаване, а скорее всего, местные бомжи, хватили старика-узбека по бритой голове арматурой и, пока тот лежал без сознания, утащили газовый баллон. Оглушенный старик, видимо, совершенно потерявший ориентацию, приполз к теткиной даче. Постоялица Александра Степанова как раз курила у калитки, когда бедняга, вытирая рукавами пестрого халата заливавшую глаза кровь, упал на колени и, указывая пальцем куда-то, повторял одну и ту же фразу: «Баллон ашка сп… и!» Он и потом, как безумный, одну эту фразу твердил. И что вы думаете? Наша постоялица опрометью бросилась в указанном направлении. В погоню за злоумышленниками. Кроме сигарет и зажигалки, при ней был еще и сотовый телефон. Набегу она успела вызвать милицию, службу спасения, а также, кроме шуток, дозвонилась до автоответчика посольства республики Узбекистан. Довольно скоро, в конце темной аллеи забрезжили две фигуры, волокущие краденый баллон. Вокруг как назло не было ни единой души. Только из-за заборов лаяли собаки. Дачники рано ложатся спать, а кобелей и сук на ночь спускают. «Держите их!» – закричала Александра Степанова. Она догнала их очень быстро. Хотя нужно учесть, что они все-таки бежали с баллоном. Что делать? Вспомнив молодость, она так пронзительно завизжала, что в двух ближайших фонарях лопнули лампочки. Воры бросили баллон и пустились наутек. Теткина же постоялица, как разъяренная тигрица, нет, волчица, в трениках и тапочках, размахивая сотовым телефоном, продолжила преследование. Впрочем, чудес не бывает. Догнать злоумышленников, хорошо ориентировавшихся на местности и, к тому же, избавившихся от балласта, ей не удалось. Зато в ажиотаже она сделала огромный крюк, добежала аж до железнодорожной станции, где подняла на ноги милицейский наряд, заставив сонных, матерящихся сержантов отправиться на место происшествия. К сожалению, когда прибыли на аллею, баллон успел умыкнуть кто-то другой, а от бедного старика-узбека, которого милиционеры еще и забрали в кутузку, добиться ничего путного, кроме уже сказанного, не удалось… Глядя на все еще перепуганную тетку, которой, как я понимала этот окровавленный узбек точно будет являться во снах, и на ее судорожно кашлявшую постоялицу, я почувствовала, что еще мгновение – и лопну от хохота. Однако в этот момент я встретилась взглядом со Степной Волчицей. О, этот взгляд – незабываемый и бездонный! О нем можно было бы написать целую поэму! Я прикусила язык. Ее взгляд критиковал не только мою циничную, бессердечную смешливость – в такой неподходящий для веселья момент. Ее взгляд словно пронзал весь мир, всю нашу жизнь, вскрывая все ужасающие язвы – нашу бездуховность, безразличие, полное отсутствие не только сочувствия и жалости, но и забвение самого смысла человеческой жизни. «Вот какие мы звери! Вот какие шуты! Покаемся!» Казалось, один это взгляд должен был обратить в прах наши мелочные душонки, чтобы мы возродились из пепла и снова стали братьями и сестрами…
Но я как всегда сильно забежала вперед. Вот, уже успела выложить в общем-то все самое главное о моем знакомстве со Степной Волчицей, хотя собиралась немного поинтриговать читательниц, обрисовать ее личность исподволь. Раз уж так получилось, больше не стану твердить о ее «странностях», воздержусь от подробного рассказа, как я проникла в причины и смысл ее жуткой обособленности и брошенности. Оставлю психологию психологам, а займусь лишь тем, что на правах очевидицы прибавлю еще несколько штришков к портрету Степной Волчицы.
Я уже сказала, что первое мое впечатление содержало изрядную долю антипатии. Может быть, все дело в разнице поколений. Я-то почти вдвое моложе ее, женщина на все сто. Моему поколению изначально отвратительны все эти «юродивые комплексы», «душевные искривления». Неудивительно, что мои здоровые инстинкты сразу заставили меня насторожиться и поморщиться при столкновении с дурной кровью. Жить нужно предельно ясно и весело. Никакого сочувствия душевно убогим. Другое дело, моя тетка, у которой этого сочувствия вагон и маленькая тележка. Она-то сразу раскрыла ей объятия, считая, что если уж она русская, то обязана пригревать всех этих «душевно искривленных» страдалиц. А то, что Александра Степанова была абсолютным гением страдания, это было написано у нее на лбу. Причем, могу смело утверждать, не биологического, не врожденного страдания, а воспитанного, взлелеянного ею самой. Это коренилось не в каких-то пороках или душевной узости, а наоборот – в избыточно богатых душевных задатках и качествах ее натуры. Неизмеримые запасы любви, которую она бездумно, безотчетно была готова на каждом шагу отдавать миру, бросаясь на помощь любой живой душе, будь то бродячий котенок, марсианин или вот, как в последнем случае, старик-узбек. Что же касается ее взыскательности к несовершенствам нашего мира, то это било главным образом по ней же самой. То есть она страдала от жгучего презрения к себе, ненавидела себя, винила себя во всём и вся, всё стремилась оправдать, всё покрывала…
Может быть, я снова забегаю вперед, но не могу не пояснить, что своеобразие души, смыслом которой является всяческое самоподавление, безусловно проистекает из воспитания и семейного уклада. Что касается Александры Степановой, то из ее записок я узнала немало о личностях ее родителей, о семейных занозах и ранах, о благородном и, в то же время, жестоком и безапелляционном диктате отца и так далее. В данном случае я хочу заметить, что как не важны частные семейные обстоятельства, но гораздо важнее иметь в виду общую особенность поколения тех, кто приходится нам дедушками и бабушками. Теперь это трудно представить, но коллективизм и взаимоучастие прошедшей эпохи вовсе не были лишь идеологическими химерами. Люди прошлого почти на физиологическом уровне ощущали человеческую зависимость друг от друга, взаимоответственность. Естественно, со всеми перегибами и извращениями. Совестливость, порядочность – удивительные словечки из их лексикона. Будучи в массе своей людьми абсолютно безрелигиозными, они по сути дела поддерживали в обществе формальное следование основным христианским заповедям. По крайней мере, насколько я лично успела узнать и понять моих дедушек и бабушек, их жизненные установки никак нельзя назвать изначально и насквозь лживыми, лицемерными. Напротив, пусть наивные, прекраснодушные, но вполне искренние, почти до богобоязненности, в своем поклонении идеалам некой высшей человеческой справедливости, даже если именовались «коммунистическими». Вероятно, Александра Степанова оказалась той на редкость восприимчивой воспитанницей, которая буквально вобрала в себя все эти «заветы и идеалы», оказавшись готовой христианкой. Более того, христианкой-мученицей. Всю свою жизнь она прилагала героические усилия любить людей, жить по справедливости, никому не делать больно и так далее. А все отрицательное, что находила вокруг, объясняла собственным несовершенством. Чистила-распекала себя с неиссякаемой энергией, самокритикой и въедливостью, на какую только была способна. Точнее, на какую способен разве что отъявленный эгоист. В результате, по отношению к другому миру оказалась загнанной в некую психологическую резервацию.
Господи, опять меня снесло на какой-то анализ. Образование помогает в жизни, но портит характер. Возвращаюсь к фактам. Со слов тетки я составила для себя полное представление о ее образе жизни. Убеждена, она придерживалась его в течение многих лет, не исключая периода супружеской жизни. Женщиной она была закоренело книжной, «умственной». После бессонных ночей, многочасового стучания на ноутбуке, залеживалась в постели далеко за полдень. Потом накидывала халат, совала ноги в тапочки и первым делом отправлялась за калитку покурить. Затем на кухню готовить кофе. На тумбочке появилась тарелка, в которой содержалась груда облаток с таблетками. В основном, снотворное и успокаивающее. Пара пузырьков с пустырником и валокордином. Повсюду банановая и апельсиновая кожура. Несколько опустошенных и полных коробок с шоколадными батончиками типа «Марс». Надо полагать, шоколад был одной из ее слабостей, с которой она безуспешно сражалась. Долго крепилась, а затем бросалась поедать его с виноватой улыбкой: «У нас и дома никогда ничего сладкое не залеживается, шоколад – витамин счастья…»
Счастье – оно у нее безусловно было в ужасном дефиците. Кашель кашлем, но по ее ширококостной комплекции было заметно, что жареный петух ее еще по-настоящему в маковку не клевал, что она от природы двужильная. Рак, туберкулез, малокровие были для нее пока что явно ничего не значащими абстракциями. Несколько распотрошенных блоков с женскими сигаретками – на подоконнике и на столе рядом с ноутбуком. Очевидно, необходимость воздерживаться от курения в доме было для нее колоссальным неудобством, но, надо отдать ей должное, она ни разу не поддалась искушению, не прибегла к такой характерной для большинства курильщиков унизительной партизанщине – курению тайком у раскрытого окна, в кулак и так далее. При этом бесконечно твердила, что со дня на день намерена избавиться от дурной привычки, что существенно сократила потребление сигарет, максимум несколько штук в день. Глупое и ничтожное поведение. Женщина должна благоухать, заботиться о своем здоровье, которое по большому счету (за исключением денег) – единственный надежный источник радостей и наслаждений. В данном случае сочувствия она у меня не вызывала никакого, поскольку я сама не курю и не люблю этих заядлых курильщиц, которые и мужиков себе вынуждены выбирать желто-серых, как старые газеты, прокуренных до печенок. Какой пример детям, я уж и не говорю.
Не большей упорядоченностью, чем сон и работа, отличался также ее режим в смысле еды и питья. Частенько она вообще не выходила из дома, не потребляя ничего, кроме кофе да своих шоколадных батончиков (вежливо, но твердо отвергая теткины приглашения на борщ, щи или котлетки). Потом, словно по окончании какого-то неведомого поста, набрасывалась и на борщ, и на щи, – при этом притаскивая из ближайшего местного супермаркета полные сумки всякой безалаберной снеди и гастрономических прихотей – как то: элегантные пирожные, свежевыжатые соки, консервированные каракатицы, селедка в экзотических соусах, пельмени, пицца и даже замороженная картошка-фри. Последняя (то есть картошка-фри) возмущала мою тетку до крайности. Как можно швырять на такое баловство деньги, которых у ее постоялицы, явно не было в избытке! «Идиотство!» – в сердцах восклицала тетка, а Александра Степанова только смеялась.
С разрешения тетки, стены светелки оказались украшены несколькими вырезанными из старых журналов фотографиями каких-то малоизвестных поэтов и поэтесс, а также репродукцией картины кого-то из добротных реалистов – русская деревня: изба, мужик с вилами, разгребающий навоз, баба с коромыслом, румяные дети с кружками, хлебающие молоко. Семейная идиллия. Довольно странный выбор картины, учитывая сугубо городское происхождение Александры Степановой.
Еще запомнилась одна наша более или менее доверительная встреча. Однажды я приехала по просьбе тетки, которой нужно было отлучиться в Москву, но которая не хотела оставлять постоялицу в доме одну. Вовсе не от недоверия или что-нибудь в этом роде, а исключительно беспокоясь, как бы с ней не случилась какой-нибудь неприятность. Вероятно, в отличие от меня, тетка уже начала подмечать в ее поведении кое-какие действительно тревожные симптомы.
Я приехала под вечер. Лето в том году выдалось чудесное: каждый день – райский. Александра Степанова сидела на крылечке, по-простому, прямо на ступеньках. Даже без сигареты. Мрачная, как на похоронах. Издалека меня уколола какая-то тревога, но, подойдя ближе, я увидела, что она уже заметила меня и заулыбалась со всей возможной жизнерадостностью, явно пытаясь скрыть свое истинное настроение, не желая омрачать своим видом этот замечательный вечер. Налив себе минералки, я уселась рядом в шезлонге, в то время как Степная Волчица продолжала сидеть на ступеньках. Опять-таки, меня удивляла эта странная тяга к опрощенности, чисто деревенские замашки – в ней, до мозга костей городской жительницы, даже интеллектуалки, англофилки. Любовь к стирке вручную, мытье полов с ведром и тряпкой. Теперь вот сиденье на крылечке, вместо шезлонга. Объяснение этому я нашла только гораздо позднее – в ее записках.
Она тряхнула свежеокрашенными волосами.
– Как тебе?
– Гораздо лучше, – кивнула я.
Высветлив волосы, она действительно помолодела лет на десять. Я также обратила внимание, что сегодня на ней не было ни обтрепанных треников, ни затрапезной футболки. Надела довольно приличное и дорогое платье, весьма игривое, с разрезами в самых неожиданных местах. Более того, привела в порядок ногти, подкрасилась. В общем, явно решила прибавить сексапила.
– Как настроение? – поинтересовалась я.
– Вот, сижу, как в волшебной сказке, – ответила она, обводя рукой крыльцо и палисадник. – Жду: может, случиться что-нибудь чудесное…
– Например?
– Не знаю. Просто подумала, как хорошо сидеть женщине на крылечке такого славного, уютного дома… Смотреть на дорогу…
Я молчала, а она продолжала:
– Наверное, я уже впадаю в старческую сентиментальность. Маразм.
– Нет, что вы! – успокоила я ее.
– Ничего, ничего. Я действительно не такая уж молоденькая… – Да уж, подумала я. – А все-таки здесь такие чудесные места! Все пропитано порядком, духом счастливой семейной жизни, которая продолжалась много лет, нашла свое отражение в каждой трещинке и гвоздике. Эта яблоня и этот куст жасмина помнят, сколько любви, нежных слов, родного, доброго отношения наполняло жизнь здешних обитателей…
– Может, не так уж и много… А впрочем, может быть.
– Вот-вот!.. Это всё здесь! Здесь! Поэтому я грежу, что всё это, может быть, реальность. Женщина сидит на крылечке в лучах красного солнышка, смотрит на дорогу…
– По которой ей навстречу топает ее любимый мужчина? – улыбнулась я.
Она посмотрела на меня таким взглядом, что я невольно вздрогнула: столько в ее взгляде было мольбы не разрушать этот чудесный образ, не иронизировать. Не так уж трудно было догадаться, что этот образ не случайные слова, что он был ей чрезвычайно дорог. Тоска – по тому, что безвозвратно потеряно? Надежда – несмотря ни на что?
Мы немножко помолчали.
– Ты работаешь в большой фирме, – продолжала она. – Бухгалтерия, бизнес. Для меня это – китайская грамота. Ты молоденькая, независимая, красавица. Водишь машину. У тебя множество знакомых, мужчины, женщины. А я живу, словно устрица, всю жизнь в своей раковине. Только теперь эта раковина обветшала, стала похожа на прохудившуюся скорлупу… Я думаю, я пишу, я надеюсь. Я вожу пальцем по песку, а вода волна за волной смывает все мои мечты…
Что она хотела этим сказать?
Снова придя в преувеличенно сентиментальное, до смешного благоговейное состояние, она принялась восторгаться самыми обычными пустяками: то цветом моей сумочки, то формой помады, фальшивой татуировкой, цепочкой на щиколотке, лаком с блестками или булавкой-алмазиком в моем проколотом пупке. Снова я напрягалась, не зная, действительно ли она такая наивная, а может быть, считает меня бездушной современной особой, не имеющей понятия о поэзии и музыке. Да и не желающей иметь… С другой стороны, сейчас и старушки прекрасно прокалывают пупки, красятся перьями. Почему же она вела себя так, словно ей напрочь был заказан вход в наш веселый и блистающий женский мирок, и единственное, что ей оставалось – заглядывать в щелочку?
– Да-а, я – настоящая Степная Волчица, – сказала она, еще немного помолчав. – Мои детеныши-волчата выросли, им больше не нужны мои сосцы, к тому же давно иссохшие. А мой супруг-волк, вопреки всем легендам, его же собственным заверениям о волчьей преданности и нерушимости волчих пар, давно сбежал, возненавидев нашу старую уютную нору, влекомый одним лишь биологическим инстинктом покрыть побольше других женских особей. Другая нора и другая волчица стала для него родной…
Ах, как меня раздражала эта ее глупая, высокопарная манера выражаться!
Искупавшись на озере и приняв душ, я вошла на веранду и застала ее перед включенным телевизором. Меня очень удивило, что она коротает время за легкомысленной молодежной попсой. Впрочем, ее взгляд был уперт в пол, а выражение лица холодное, совершенно безучастное. Я бы даже сказала: отрешенно-сиротское. Через некоторое время стали крутить старую рок-музыку. Размеренные, печальные аккорды или истошная рок-н-рольная горячка – эта музыка отцов казалась мне ренегатски-однообразной и старомодно-унылой. На какие-то мгновения ее лицо ожило, осветилось каким-то мечтательно-счастливым светом, но потом снова осунулось и заледенело, превратившись в старую обрюзгшую (и брюзгливую) маску. О чем она думала в этот момент? Потом снова стали крутить попсу.
– Тебе нравится? – неожиданно поинтересовалась она, когда на экране с пронзительным писком, завертелись две юные ведьмочки-лесбияночки.
– Нормально, – кивнула я, пожав плечами, не понимая, что она хочет от меня услышать. Честно говоря, мне и в голову не приходило задумываться о моем отношении к музыкальному видео, а тем более, как-то его анализировать.
– То есть тебе это кажется нормальным… – едва заметно улыбнулась она своей жалкой улыбочкой, но в тоне ее было то, что так часто меня уязвляло: этот оттенок всепрощения, это желание со всем примириться, даже с тем, что казалось ей глупым и недостойным, а на самом деле не заслуживало того, чтобы вообще обращать внимание. «Уж не зануда ли она?» – подумалось мне тогда.
Поднявшись зачем-то в тот вечер к Александре Степановой, я увидела на экране ее ноутбука в качестве заставки фотографию необычайно симпатичного молодого человека.
– Это ваш сын? – поинтересовалась я.
– О, нет! О, нет! – поспешно пробормотала она, смущенно замахав на меня руками.
А еще через пару недель, проезжая через переезд мимо дачной железнодорожной платформы, я увидела нашу Степную Волчицу под руку с этим самым молодым человеком с фотографии. Несмотря на изрядное расстояние, я сумела отлично рассмотреть, что в жизни молодой человек еще симпатичнее. Александру Степанову было не узнать: до того оживленной, беззаботно болтающей дамочкой она мне показалась. Судя по тому, как нежно он держал ее под руку, они явно были «сладкой» парочкой. Я была заинтригована до глубины души: у нашей отшельницы и зануды такой молодой, сексапильный кавалер?! Кстати, в тот день, она всю ночь где-то пропадала и явилась домой только под утро. Я нарочно вышла ей навстречу – будто попить водички. Впрочем, расспросить у нее о нем у меня не хватило духу. Теперь она вовсе не выглядела оживленной и счастливой, как днем на платформе. Наоборот, жутко печальной и унылой. Мы вежливо и сухо поздоровались, словно это не был предрассветный час. Александра Степанова поднялась к себе в светелку. Потом я долго слышала, что она не спит – все вышагивает взад-вперед по комнате, только раз или два что-то коротко выстучав на ноутбуке.
Чего не знаю, того не знаю. Не буду строить о ее личной жизни никаких предположений.