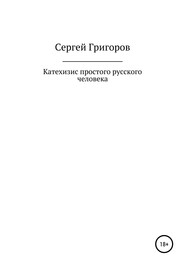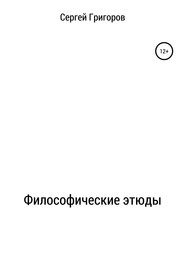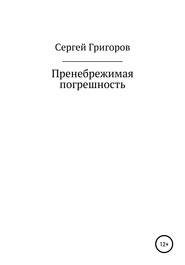По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русская доля
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако в понятие «разделенный» вкладывают также и другой смысл: то, что у русских разрушено чувство целостности. Не ощущают, мол, они себя единым народом. По этой причине отдельные выдающиеся мыслители даже отказывают нам в праве называться нацией. Хочется им очень, чтоб было именно так. А когда очень хочется, но нельзя, то… вроде бы можно.
На поверхностный взгляд духовное разделение в самом деле существует. Современная действительность, казалось бы, являет более чем убедительные следствия разрушения в нас чувства целостности.
Наши соотечественники, оказавшиеся за границей, свидетельствуют, что какую-либо помощь или даже простое человеческое участие можно ожидать скорее от совершенно чужих людей, чем от своего, русского. Такое же положение и внутри страны: нам почему-то легче оказать содействие иностранцу, чем собственному соседу. Более того, взаимоотталкивание явно прослеживается не только на уровне «активных» реакций, когда требуется хоть что-то реально сделать, а даже на уровне внутреннего существования. Нам, якобы, попросту не интересны мысли и чаяния соотечественников, мы не считаем зазорным при удобном случае как-нибудь «осадить» их, а иногда, бывает, и навредить. От неясной озлобленности или просто от скуки двинуть от души, как говорится, локтем под дых.
Каждый подтвердит, что в любой компании, на любом совещании наблюдается эффект разбиения на этнические группки по интересам: армянин, скажем, с большим вниманием прислушивается к тому, что говорит представитель его национальности, немец усиленно внимает немцу, чукча, не в обиду будет сказано, – чукче, и так далее. За одним исключением: только русские могут не обращать внимания на своих соотечественников, ловя каждое слово кого бы там ни было. Только русские могут оказать содействие чужестранцу в ущерб другому русскому, лично ничего не выигрывая, а то и проигрывая от этого. Правильно?
При советской власти в исконно русских районах большинство местных начальничков – директоров фабрик и заводиков, заведующих складами, гаражами, магазинами и ресторанами, аптеками, больницами, почтовыми отделениями и прочими заведениями местечкового масштаба – оказались этническими нерусскими. Не потому, что автохтоны были глупыми и непроворными. Механизм «возгонки» залетных элементов представлял собой полнейшую примитивность. Приезжал в русскую глубинку, скажем, азербайджанец. Устраивался на заштатную должность. Его далекая родня изо всех сил помогала, поддерживая деньгами и разнообразным человеческим участием. Приезжий, явно не хватая звезд с небес, но угождая нужным людям добытыми родней подарками и мелкими услугами, делал карьеру. Местные русские, тронутые его обходительностью, отдавали ему приоритет при назначении на вышестоящую ступень в ущерб делу и здравому смыслу. А став каким-нибудь начальничком, приезжий азербайджанец отдавал моральные долги, устраивая на хлебные места ближних и дальних родственников, а также их знакомых. И знакомых их знакомых. Русские же оставались у разбитого корыта. Было такое?
Согласитесь, что было. И не только в глубинке, но и в крупных городах.
Все бы ничего, если б советская власть существовала по сей день. Но рухнул Союз нерушимый, прокатилась дикая приватизация, и народная собственность, созданная русскими руками, оказалась у чужих: лучшие куски достались, естественно, начальствующим. Переиграть назад уже не удастся. Каждая диаспора сплоченна, отстаивает интересы своих. Попробуй, тронь кого из них – мало не покажется. Русские же разобщены. Как прозябали, так и существуют, еле сводя концы с концами. В итоге произошло тотальное обнищание титульного народа России. Многомиллиардные состояния – особый разговор, у русских выхвачена даже собственность, «размытая» в массе сравнительно малых по масштабам рукотворных творений. Ныне совокупное богатство, которым распоряжаются представители русского народа, пренебрежимо мало.
Материальные блага – это еще не все. Действуя тем же нехитрым способом, этнические нерусские «захватили» средства массовой информации, издательства книг и журналов. Поинтересуйтесь национальностью родителей журналистов, дикторов и телеведущих – много среди них коренных русских? Подавляющее большинство «публичных» работников – евреи. Но именно их-то следовало б пускать в эфир в последнюю очередь!
Этнические взаимоотношения здесь ни при чем. Евреи, возможно, и в самом деле народ, достойный глубокого почтения. Согласитесь с очевидным: приди Иисус Христос в любое иное время, в любую иную общественную среду – скорее всего, Приход просто замолчали б или заболтали. Разодрали бы Его Учение на множество мелких теорий и историй, присвоив Его интеллектуальную собственность.
Присутствие евреев в русском информационном пространстве нежелательно по чисто педагогическим соображениям: их мироощущение базируется на иудаизме, сформированном как философско-религиозная система «в пику» христианству, под гнетом и в оправдание Богоубийства. Поэтому в глубинно духовном плане православный и иудей не могут не быть чуждыми друг другу.
Желательно то или нет, но пока что в наших средствах массовой информации людей, чье мировоззрение настояно на иудаизме, большинство. Что же получается?
Получается, что наше информационное пространство уже не наше. Как следствие, нам довольно сложно даже просто поговорить между собой о своих делах и заботах – не слышно. Происходит примерно следующее.
Объявляется, например, передача о творчестве Чайковского. На фоне, скажем, «Времен года» закадровый голос сообщает, что был де такой великий русский композитор. Много чего насочинял. Да и вообще пользуется мировой известностью. И музыку его все слышали не один раз. Трудно сообщить про него что-нибудь новенькое. Поэтому не интересно рассказывать. А вот мало кто знает, что в те времена в таком-то местечке жил безвестный скрипач Соломон… и далее следует длинное повествование про тяжкую жизнь бедного, несчастного, но очень старательного Соломона.
Если ж заявленная тема выдерживается, нам предлагают другой опус. На фоне тех же «Времен года» закадровый голос сообщает, что весь мир восхищается творениями великого русского композитора Чайковского. Его музыка звучит почти постоянно, все ее хорошо знают. Поэтому говорить о ней неинтересно. А вот кой-какие подробности интимной жизни великого композитора…
Оцените, пожалуйста, лично, насколько типичны приведенные описания.
Так правильно или нет говорить, что русские разделены? Ответ будет следующим: в любом случае для здоровья полезнее говорить точнее. Слово – тоже оружие. Или орудие самоубийства в руках неосторожного бойца.
Представляется, что характеристика «разделены» все же не для нас. Мы, русские, прекрасно чувствуем друг друга. За границей в многоликой толпе довольно легко признаем соплеменника. Во многих странах, на всех континентах процветают русские диаспоры, и члены их сплочены получше, чем в еврейских. Второе и третье поколения потомков эмигрантов гордятся тем, что они «настоящие» русские. Так или нет?
Не существует в нас действительного отторжения друг друга! Как говорилось в «Характере», русский на всех чужестранцев все равно будет взирать свысока, тянуться к своему, русскому. Бывает, кто-то, намаявшись на Родине, приезжает в другой мир и дает зарок: все забыто, больше нигде и никогда… но проходит год-два-три, и ностальгия по оставленному, русскому, не дает покоя. Согласны?
Вероятно, точнее говорить не разделены, а не верим.
Мы бросились в крайности: для нас любой соплеменник либо закадычный друг и пользуется безграничным доверием, если относится к нашей первичной общественной группе, либо крайне подозрительный тип, почти что враг – если мало знаком. Наше общество не атомарно, а разбито на прочные, слабо пересекающиеся клеточки, и давно уже нет настоящего народного вождя, который смог бы сформировать из них мощный социальный организм.
В наш ближний круг не каждый попадает. Но коль попал – то свой до гробовой доски. Если ж русский человек увидел кого впервые на телеэкране, первая его реакция: врет, шельмец, пытается обмишулить, какую-то гадость готовит. Мы сознательно выстраиваем свое поведение таким образом, будто бы вместе с ближайшими друзьями и хорошими знакомыми живем в опасном и враждебном мире. Короче говоря, человек человеку брат-друг и… потенциальный источник смертельной опасности.
Подобная позиция, надо честно признаться, в некоторой степени логична. Для каждого homo sapiens`а враг номер один – он сам, враг номер два – ближайший сосед, от которого некуда деться. С прочими врагами разобраться проще. Но что за прок нам в этой логике!
В полной мере проявилась эта досадная и мешающая нам жить черта – взаимное недоверие – после Гражданской войны. Почему? – ищите и обрящете. Читайте дальше.
Краткая история государства Российского
В школьных учебниках говорится, что возникновение русского государства случилось в 882 году, когда в результате похода князя Олега, тогдашнего главы Рюрикова рода, произошло объединение новгородских и киевских земель. До этого, по мнению некоторых европейских историков, на Восточно-Европейской равнине царил чуть ли не первобытный хаос. Но так ли это в действительности?
Почва для сомнений в официальной версии благодатная. Особенно если согласиться с утверждениями предыдущего этюда о происхождении русского народа.
Образование древнерусского государства
На политических картах мира первой половины двадцатого века на месте Тибета зияло белое пятно. Не принадлежал он ни к какому официально признанному субъекту международного права, и не было на его территории какого-то одного государства. Создавалось впечатление, что там и люди-то не живут. Как будто бы в старые добрые времена не спускались с его высот железные армии, занимавшие и половину исконно китайских земель, и почти всю низменность Ганга. Неужели зная былую славу тибетцев их можно причислить к варварам, не доросшим до государственности? Гораздо естественнее кажется предположение, что в условиях высокогорья и слабо развитой транспортной системы им просто не требовалось единого государства.
Ладно, Тибет далеко. Для европейцев важно только то, что происходило вблизи них. Русские историки, боясь отстать от мировой научной мысли, во всем им подражают. Поэтому здраво посмотрим на то, что творилось в Европе.
Остановим свой проницательный взор на Античной Греции и зададимся ехидным вопросом: а была ли государственность у древних греков? Не спешите с утвердительным ответом. Там царил еще тот хаос. Что ни угол, то свой указ. Если кто-либо по рассеянности забредал на территорию соседа, мог мгновенно лишиться свободы или жизни – чем такой порядок лучше самого дикого варварства?! А обычаи… боже мой! Великий афинянин Перикл, по свидетельству его современников, имел непропорционально большую голову. И если б ему угораздило родиться в Спарте, то наверняка его во младенчестве сбросили б со скалы как явного вырожденца.
Можно ли назвать государством множество живущих по своим обычаям самостийных местечек? В девятнадцатом веке для подобного устроения использовалось более подходящее слово: анархия. Противоборство с персами заставило древнегреческие города объединиться в союзы. А в результате разразилась опустошительная Пелопонесская война. Противопоказана была Элладе, значит, настоящая государственность.
Примерно то же – что-то вроде полисной чересполосицы – существовало и на Руси до Олега, прозванного Вещим. Звалась она заморскими гостями, как известно, Гардарикой – страной множества городов. А образовывать большое государство просто не было нужды, как и в Древней Греции.
Подтверждений сказанному множество.
Так, западноевропейские источники утверждают, что в 813 году с наших краев было отправлено большое посольство на остров Эгину, что в Эгейском архипелаге. А в 839 году русское посольство навестило византийского императора и германского императора в Ингельгейме. Арабские хронисты писали, что около двадцати лет – примерно с 864 по 884 год – области, прилегающие к южным берегам Каспийского моря, служили операционной базой для огромной русской армии. Согласно некоторым источникам, количество тяжело вооруженных воинов, по терминологии Западной Европы – рыцарей, достигало тридцати тысяч. Во всей Средней Азии, в сверхпассионарном тогда арабском мире не было силы, способной противостоять им.
Могло ли одно племя, один, пусть даже очень крупный по тем временам город сподобиться на сии мероприятия? Были, значит, полунезависимые государственные образования, чисто по-родственному заключающие между собой военные союзы или объединяющиеся в конфедерации.
В защиту сказанного можно также сослаться на европейские летописи, повествующие о расцвете в шестом веке на Волыни, Верхнем Поднестровье и Побужье так называемой державы волынян. С седьмого века с центром в Моравии возникает сначала Княжество Само, затем – Великоморавская держава. На территории современной Болгарии, еще до прихода туда тюрко-болгар, во многовековой полудреме существовало государство славян «Семи родов». Есть упоминания о Чешском государстве… А согласованность действий многочисленных славянских отрядов, вторгшихся в пределы Византии в двадцатые годы шестого века, при императоре Юстиниане Великом, также говорит о существовании военного союза у предков южной ветви славян – у хорватов, словенцев, болгар, сербов и македонцев.
По крайней мере с самого начала девятого века договоры между Византией и Русью были такими, что наши путешественники чувствовали себя в Константинополе как в оккупированной столице побежденного государства: продовольствием их снабжали в изобилии, медицинское обслуживание предоставляли, освобождали от налогов и пошлин, охраняли от местного нечистого на руку населения, да и вообще гарантировали дипломатическую неприкосновенность. А чтобы византийцам неповадно было нарушать эти явно ущемляющие их достоинство и интересы порядки, время от времени им демонстрировали военную мощь Руси. Сохранились, в частности, сведения о походе в 860 году на Константинополь русской дружины под предводительством Аскольда и Дира. В 907 году русские по-взрослому погуляли по всему району, прилегающему к Мраморному морю. Поход 941 года, правда, был неудачным – византийцы сожгли почти весь наш флот греческим огнем – но в 944 году им вправили мозги: показали кузькину мать и убедили, что не стоит даже мечтать о равенстве с русскими.
Так почему в конце девятого века на Восточно-Европейской равнине все же образовалось единое крупное государство?
Причины, скорее всего, были чисто внешние.
Экономические? Любимая конструкция историков – «путь из варяг в греки». Следуя их логике, Древнерусское государство возникло для охраны торговых потоков из Северной Европы в Константинополь, Хорезм и обратно. Право дело, для малолетних детей придумываются более правдоподобные сказки. Или я чего-то не понимаю? Ответьте мне, тупому, только на один вопрос: что в первом тысячелетии нашей эры дикая, нищая и почти безлюдная Скандинавия могла предложить евразийскому рынку? Разве что селедку. А сейчас для полноты ощущений представьте себе аксакала, сидящего в сорокаградусную жару под чинарой и заедающего среднеазиатскую дыню заморским деликатесом – ржавой соленой рыбой, протухшей в дальней дороге. Представили? Какой вывод следует? Осмелюсь сформулировать: не вешайте нам, господа историки, на уши лапшу! никогда никакого пути из варяг в греки не было!
Речное судоходство – было. Волоки меж рек – были. Многочисленные города Восточно-Европейской равнины – торговали с Югом и Севером. Варяжские гости – были. Вплоть до начала двадцатого века у скандинавов существовал обычай отправляться за особо качественным товаром… в Россию. Но не далее. Поэтому не было торгового пути через русскую территорию, и глупо на несуществующем месте замышлять исток образования в девятом веке единого русского государства.
Остается только одна причина – внешняя военная опасность.
Действительно, в ту пору на севере зачастили русским в гости викинги, известные своими разбойничьими повадками и терроризирующие всю Западную Европу. На юго-востоке набрала силу и агрессивность Хазария, перерезавшая налаженные торговые пути на азиатские рынки и организующая один разбойничий поход на русские земли за другим.
Создание единого государства сразу сняло проблему викингов: на наших землях перестали они заглядывать на чужое добро. Русские князья часто набирали в Скандинавии наемников. Однако летописи пестрят описанием случаев, когда местное население чуть что указывало иноземцам их место – у ноги позвавшего их князя, и ни шагу в сторону, быть ниже травы и тише воды. Почему викинги безнаказанно грабили Западную Европу и Северную Африку, а на Руси чувствовали себя ягнятами в окружении волков? Одна из причин, видимо, в том, что с молоком матери впитывали они древнее уложение о доминировании русичей. Кроме того, их воинская выучка и, главное, вооружение не превосходили русское. Известно, что в те времена мечи и доспехи поступали в Северную Европу в основном из Господина Великого Новгорода. Для себя-то кольчужку клепали поди получше, чем предназначаемую для продажи.
С хищником на юго-востоке справиться оказалось труднее.
Доблестный тюркоязычный хазарский народ, снискавший великую воинскую славу в противостоянии с мусульманским давлением с юга, во второй половине девятого века лег под Даново, самое морально неустойчивое, антихристовое из колен Израилевых. Вождям степных богатырей навязали в жены иудеек. Сыновья их, естественно, исповедовали иудаизм и всю торговлю в каганате отдали на откуп многочисленным родственникам по материнской линии. Единый в недалеком прошлом народ разделился на «белую кость» – тех, кто руководил, держал таможню, взимал налоги и торговал, и на «черную» – тех, кто придерживался веры отцов и занимался производительным трудом. Армия стала полностью наемной и постоянно искала возможность пограбить кого-нибудь.
Жить бок о бок с таким соседом ни у кого б не хватило терпения. Вот только один случай. В 913 году русское войско на пятистах (сколько ж воинов было?!) судах мирно спустилось, как обычно, по Волге и набрав сверх всякой меры добычу в мусульманских землях, двинулось обратно. Правительство Хазарии по устоявшейся традиции уверило, что беспрепятственно пропускает перегруженный флот, но организовало неожиданное, предательское нападение на усталых путников. Русичи были разбиты и рассеяны. Оставшиеся в живых бежали, бросив все добытое в честном разбое добро. Разве можно после подобной подлости о чем-либо разговаривать с каганатом? Оставалось одно: показательно отомстить.
Вещий Олег и Игорь Рюрикович укрепили рубежи русской державы, препятствуя разбойным нападениям с юго-востока. Сделать больше не смогли, так как много сил ушло на разборки с новой напастью – пришедшими с востока печенегами. Только при Святославе Игоревиче Хазарский каганат растерли в прах. Тогда же была побеждена Камская Булгария и осажены прочие кочевые народы юга Восточно-Европейской равнины и Закаспийских степей. Явных врагов у Киевской Руси не осталось, и встал вопрос что делать дальше. Упиваются достигнутым только недальновидные политики, будущие неудачники. Новое государство надо было консолидировать, определиться со стратегией дальнейшего развития. Но какие ориентиры для этого принять, было не ясно. Ответ на сакраментальное «что делать?» искался весь недолгий период правления Святослава, с 964 по 972 год.
Собственно говоря, было всего две альтернативы.
Первая – способствование развитию естественно появившейся атрибутики нового единого государства, унификация органов управления, налаживание прочных хозяйственных связей между удаленными регионами страны. Для создания общегосударственной идеологии требовалось введение религии нового типа, не «размазанной» по множеству божков, – шаг, решиться на который мог далеко не каждый.