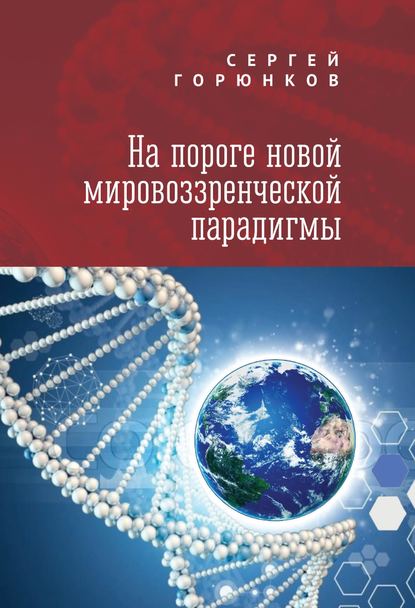По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На пороге новой мировоззренческой парадигмы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но вот проблема: на пути адекватной эмпирическому материалу познавательной стратегии стоит методология, отказывающая коллективной ментальности в праве на самостоятельное существование. Как писали основоположники теории исторического материализма, у мира идей (в их терминологии ? форм сознания) нет собственной истории, нет собственного развития [10].
Спрашивается: почему ? вопреки реальному положению вещей и вопреки даже собственным наблюдениям (см. ссылку 6) ? они так считали? Потому, что к этому их вынуждала собственная мантра о примате общественного бытия над общественным сознанием? Но откуда вообще взялась эта мантра? И в силу каких причин она возымела такую власть над умами?
Если задаться двумя последними вопросами всерьёз, то начнут выявляться чрезвычайно интересные вещи. Например, станет ясно, что указанная мантра возникла не как результат осмысления полученных опытным путём данных, а как логическое следствие из умозрительной посылки, преждевременно принятой за аксиому. Ближайший первоисточник посылки обнаружится в разработанной французскими идеологами XVIII века концепции «прогресса» (восходящей, в свою очередь, к более ранним религиозно-утопическим концепциям). А практическим воплощением посылки окажется чисто условная, откровенно механистическая и абсолютно несостоятельная с научной точки зрения схема развития «от простого к сложному», «от низшего к высшему» [11].
Окажется, далее, что вся остальная материалистическая «научность», объясняющая структуру и динамику природных и социальных процессов ? это тоже не плоды полученного опытным путём знания, а итог доведения «прогрессистско-усложненческой» схемы развития до её логического завершения путём наращивания на неё соответствующих гипотез. Решающий вклад сюда внесла, конечно же, дарвиновская теория эволюции, ? несмотря на то, что самим автором теории несостоятельность дивергентной схемы развития осознавалась изначально («знаю, ? писал он, ? что едва ли возможно определить ясно, что разумеется под более высокой или более низкой организацией»; «это область очень запутанного вопроса» [12]) Да и профессиональные оппоненты Ч. Дарвина из числа его современников тоже понимали, что его теория ? не столько биологическое, сколько философское учение, вершинное проявление механистического материализма [13].
Тем не менее, именно дарвиновская схема послужила «естественно-исторической» основой для научно-материалистической трактовки развития общества [14]. На стыке двух учений выстроилась логическая цепочка: биологическая эволюция – антропо- и культурогенез – социальный прогресс. А позднее цепочку дополнили ещё два непроверенных звена ? гипотезы абиогенеза (А. И. Опарина ? Дж. Холдейна) и Большого взрыва (А. А. Фридмана).
На сегодняшний день ни одно из звеньев цепочки не является научно доказанным. Наоборот, вся цепочка начинает постепенно осознаваться как умозрительная философская конструкция вульгарно-механистического свойства ? как продукт подгонки эмпирических данных под «прогрессистско-усложненческую» схему развития.
Этот-то «продукт» и представляет собой предельно наглядное в своей полноте воплощение принципа «историзма» ? научно-материалистической, или эволюционно-исторической, точки зрения на развитие природы и общества. «Продукту» при его изготовлении постарались придать товарный вид, засунув грубую механистическую болванку в рекспектабельную «диалектическую» упаковку. А профессиональные пиар-технологии, «заточенные» под пропаганду социальных революций, обеспечили ему устойчивый общественный спрос.
Фикция «знания целого»
Считается, что именно материалистический взгляд на окружающий мир послужил причиной бурного роста научного знания о природе и обществе. Отчасти это, действительно, так, потому что наука, как особая форма представлений о мире, началась с изучения именно материальных его проявлений. Но с момента превращения материалистической науки в связное эволюционно-историческое мировоззрение, основанное на умозрительной схеме развития, начались её принципиальные расхождения с эмпирической фактологией. Что и было замечено специалистами с самостоятельной методологической позицией.
Так, уже В. И. Вернадский (не только выдающийся геобиохимик, но и незаурядный историк и методолог науки) доходчиво объяснил принципиальную разницу между двумя смысловыми пластами научного знания: между тем их пластом, который явлен в связной научной картине мира, и тем, который явлен в «чистой эмпирике». Об истоках связных представлений о мире он писал, что они вошли в науку «не из наблюдений фактов, а из готовых, чуждых науке, представлений религиозных и философских, что мы можем научно точно доказать, исходя из истории научной мысли» [15]. А вот его соображения о «чистой эмпирике»: «Правильным является… стремление, всё более и более преобладающее в научных исканиях… подходить к изучению явлений жизни чисто эмпирически, считаться с невозможностью дать ей “объяснение”, т. е. дать ей место в нашем абстрактном космосе, научно построенном из моделей-гипотез» [16].
Свидетельством истинности эмпирически-полученных научных данных Вернадский считал как раз их необычность, их несовместимость с традиционными философскими представлениями: «Эмпирическое обобщение, ? писал он, ? раз оно точно выведено из фактов, не требует проверки. Оно может существовать и быть положено в основу научной работы, даже если оно является непонятным и противоречит господствующим теориям и гипотезам» [17]. «Эмпирическое обобщение опирается на собранные индуктивным путём факты, не выходя за их пределы и не заботясь о согласии или несогласии полученного вывода с другими существующими представлениями о природе. В этом отношении эмпирические обобщения не отличаются от научно-установленных фактов: их совпадение с нашими научными представлениями о природе нас не интересует, их противоречие с ними составляет научное открытие» [18].
«Эмпирическое обобщение может очень долго существовать, не поддаваясь никаким гипотетическим объяснениям, являться непонятным и всё же оказывать огромное благотворное влияние на понимание явлений природы. Но затем часто наступает момент, когда оно вдруг начинает освещаться новым светом, становится областью создания гипотез, начинает менять наши схемы мироздания и само меняться. Очень часто тогда оказывается, что в эмпирическом обобщении мы имели не то, что думали, или в действительности имели много больше, чем думали» [19].
Общий вывод В. И. Вернадского: «Распространение научного мировоззрения может даже иногда мешать научной работе и научному творчеству, так как оно неизбежно закрепляет научные ошибки данного времени». «К тому же это философское построение связано с материализмом, тем течением мысли, которое было живым в конце XVIII, середине XIX в. и которое в тех проявлениях, в каких оно выражено в современной науке, является историческим пережитком…» [20].
Разруха в головах
Вернадский же зафиксировал катастрофическое состояние методологической мысли своего времени. «Упадок научной мысли и научного творчества, ? читаем в его дневнике за 1931?1932 годы, ? всегда был связан с переоценкой достижений философии или религии. Эта переоценка ? для философии ? и сейчас угрожает нашей стране. <…> Кругом, в диалектическом материализме, в ленинизме мы видим ту же утопию, но проводимую огнём и мечом инквизиционным путём. <…> У нас меня угнетает бездарность новых официальных философских исканий при даровитости народа» [21]. «Поразительно невежественны и бездарны “философские” работы благонадёжных “мыслителей”» [22]. «Психозы сейчас ярко проявляются. Часть диаматов и диалектиков, по-видимому, психически больны. Мне часто рисуется: русские учёные должны работать, неся груз невежественных и больных диаматов и так называемых общественных работников, мешающих, сколько возможно, научной работе» [23].
То, что этот приговор возник не на пустом месте, подтверждают слова И. В. Сталина, произнесённые им в частной беседе с членом Президиума ЦК КПСС Д. И. Чесноковым: «Без теории нам смерть! смерть!! смерть!!!» [24]. Из них видно, что имевшуюся в то время у партии теорию Сталин по факту не считал удовлетворительной, почему и напутствовал вошедших в Президиум руководителей новосозданных научных отделов (философии и истории, экономики и права, естественных и технических наук): «Ваша задача ? оживить теоретическую работу в партии, дать анализ новых процессов и явлений в стране и мире» [25].
Оживление если и произошло, то разве лишь в области технических наук, менее зависимых от идеологического давления. Что же касается философии и истории, ответственных за методологическое обеспечение научных исследований, то в них ситуация осталась, по большому счёту, прежней. Хотя оживление вполне могло бы состояться и там, ? если бы получил научное признание тот, очевидный для любого непредвзятого человека, факт, что с расстройства общественного сознания начинается и расстройство всего «бытийного»: политики, экономики, науки, образования и т. д. (вспомним булгаковскую формулу: «разруха в туалетах начинается с разрухи в головах»).
К сожалению, приходится признать, что по факту научному сознанию навязан взгляд на эволюционно-историческую картину мира как на единственно правильный, не подлежащий критическому обсуждению, критерий «научности». Притом, что сама эта картина держится на вульгарно-механистической схеме развития, от которой уважающие себя учёные на словах всячески открещиваются. Но именно на словах, а не на деле: ведь схема удобна своей упрощённостью и всеохватностью, она создаёт иллюзию понятности и объяснённости абсолютно всего. А всё непонятное она же отметает за «ненаучностью».
Так упрощённому сознанию становится принципиально чуждой идея объекта, сравнимого или, более того, превосходящего по совершенству исследователя [26].
Вирус нигилизма
Неадекватное восприятие реальности, задаваемое несостоятельными методологическими предпосылками, неизбежно отражается и на управленческой практике, в частности ? на попытках социального проектирования. А это значит, что именно в историческом материализме следует усматривать подлинную, хотя и не явно выраженную, причину провала крупнейшей в истории попытки создания справедливого социально-политического устройства (имеется в виду СССР).
Часто утверждается, что крах советского проекта был предопределён чисто экономическими причинами. Указывают также на усугубившие их управленческие ошибки того времени, на предательство партийной элиты, а также на разрушительную роль западных спецслужб. Но это всё – внешняя, хотя и немаловажная, сторона вопроса. А есть и его глубинная сторона, связанная с «иммунной» спецификой позднесоветской коллективной ментальности.
Что это была за ментальность? Она вытекала как следствие из эклектической комбинации двух разнородных смысловых структур. Одна структура – это унаследованный народным сознанием от религиозных пластов прежнего духовного опыта и взятый советской властью на вооружение идеал социальной справедливости. Другая структура – это не имеющее к идеалу социальной справедливости никакого отношения историко-материалистическое мировоззрение. Принципиальная разнонаправленность этих двух смысловых структур, насильственно соединённых в единую идеологическую конструкцию, и погубила, в конечном счёте, советский проект.
Дело в том, что пока малограмотный народ напрягался на стройках и гибнул на войнах, идеологам верили на слово ? было не до теорий. Да и послевоенная трудная обстановка не располагала к ним. Но вот настали более спокойные и сытые времена, подросло новое, более образованное поколение, в сознании которого эклектическое совмещение двух разнородных установок начало постепенно давать сбои. То есть новое поколение если ещё и не понимало, то уже интуитивно чувствовало, что в своих реально складывающихся формах советский проект определяется не столько официально провозглашённым идеалом социальной справедливости, сколько своим научным обоснованием – историко-материалистическим мировоззрением, а точнее – вырастающим из него и принципиально чуждым идее справедливости типом ментальности.
В этой ситуации перед советскими идеологами остро встал вопрос о соответствии идеала мировоззрению. Тут уж им пришлось напрягаться всерьёз: изобретать, с одной стороны, «марксистко-ленинскую этику», а с другой – обуздывать крепнущий молодёжный цинизм с помощью ещё одного наспех сляпанного рычага управления – «морального кодекса строителя коммунизма». Но, как известно, ни одна из этих мер себя не оправдала. Заказное словоблудие советских философов уже откровенно раздражало, а плагиат из новозаветных текстов лишь усиливал общественный нигилизм.
Этот-то нигилизм, насквозь пропитавший абсолютно все слои советского общества, и подкосил его. И он же открыто заявил о своём праве на существование к концу 1993 года, когда были доведены до своего логического завершения и юридически легализованы все, скрытые до времени, тенденции предыдущего политического строя.
Что такое идеология
Развал Советского Союза явился, таким образом, результатом победы историко-материалистического мировоззрения над идеологией социальной справедливости. Спрашивается: а почему не наоборот? Почему идеология социальной справедливости не одержала победу над историко-материалистическим мировоззрением?
Чтобы понять это, нужно обратиться к очень важному, но малоизвестному аспекту становления историко-материалистического мировоззрения. Как уже говорилось, в основных своих чертах оно окончательно сформировалось в эпоху между французским Просвещением XVIII и эволюционизмом XIX вв. А в самом начале этой эпохи вскрылся существенный недостаток нового мировоззрения: оно принципиально не нуждалось в понятиях добра и зла ? «относительных», а потому ненужных, «фантомных» с материалистической точки зрения, категориях. В то время как реальная управленческая практика в этих категориях крайне нуждалась: ведь руководить огромными массами людей намного легче, если управлять их эмоциями ? их пониманием добра и зла.
С такой вот управленческой целью во Франции времён Великой Революции и был создан Институт для изучения «мыслей людей». Его основатели, первопроходцы в деле создания технологий управления массовым сознанием, не без оснований утверждали, что «идеология должна изменить лицо мира» [27]. Не случайно роль Института высоко оценил Наполеон, сам бывший его членом и понимавший его политическое значение. Понимавший настолько, что идеологов, претендовавших на слишком большое участие во власти, «укоротил» своей (анонимной) статьёй в газете, где выразился о них как о тех, «кто дурит людям голову» [28].
Сказанное объясняет, почему комбинация из теории исторического материализма и идеологического «довеска» к нему не была самостоятельным изобретением партийных руководителей СССР. На самом деле она представляла собой давно и хорошо отлаженную технологию управления массовым сознанием.
Вот пример того, как эта технология «работала» на протяжении всего XX века. В его начале прогрессивная общественность России была настроена крайне отрицательно в отношении капиталистической формы хозяйствования и крайне положительно – в отношении его социалистической формы. А в конце ХХ века мы наблюдали уже диаметрально противоположную картину. Но думать, что смена ориентиров прогрессивной общественности совершилась под влиянием серьёзной аналитической работы или взвешенной проработки пережитого опыта – нет никаких оснований. Если бы имел место анализ социализма не как мистифицированной «общественно-экономической формации», а как чисто технического принципа социального жизнеустройства, то было бы принято во внимание, что элементы государственного планирования, регулирования, контроля, протекционизма и сильной социальной политики были в ушедшем столетии неотделимы от всего того, что называется «капиталистической формой хозяйствования». Поэтому следствием анализа явился бы вывод, что свой собственный уклад, в котором все перечисленные элементы имелись, нужно не ломать, а бережно совершенствовать.
То же самое – с пережитым опытом: если бы он действительно учитывался, то стало бы ясно, что трудности, испытанные Россией в ХХ веке, не имеют никакого отношения к «социалистической форме хозяйствования». То есть было бы принято во внимание, что процессы раскрестьянивания и индустриализации сами по себе не имеют ничего общего с «социализмом» и лишь случайно совпали с ним по времени; что сущностные причины выпавших на долю страны разрушительных войн достаточно универсальны для любых эпох; что крайности воинствующего атеизма тоже не определяют специфики «социализма» и что климатические особенности страны в принципе исключают слепое копирование любого чужого опыта, будь-то теоретический марксистский или практический рыночный.
Если бы, повторяю, всё это учитывалось, то мы не метались бы из крайности в крайность, а спокойно занимались улучшением того, что имеем, исходя из соображений одной лишь целесообразности. Но поскольку наблюдалось именно метание из крайности в крайность, то приходится думать, что за сменой ориентиров стоит нечто иное, нежели здравый смысл и трезвый расчёт.
«Нечто иное» и называется «идеологией», суть которой ? в контроле над свойством сознания принимать своё эмоциональное отношение к словам за их понимание. Когда, скажем, в начале XX века была поставлена задача сформировать в массовом сознании положительное отношение к слову «социализм» и отрицательное ? к слову «капитализм», то первое стали увязывать с «социальной справедливостью», а второе ? с «эксплуатацией человека человеком». А когда в конце того же века было решено скомпрометировать первое слово и заставить молиться на второе, то первое, соответственно, стали увязывать с «бесхозяйственностью» и «шариковщиной», а второе ? с «предприимчивостью» и «эффективностью».
Технология «работает» потому, что стоящая за словами «социализм» и «капитализм» реальность всегда намного шире текущих значений данных слов. Что и позволяет при желании играть ими, называя ту или иную западноевропейскую страну социалистической («шведский социализм», «швейцарский социализм»), а, скажем, нэповский СССР или дэнсяопиновский Китай – капиталистическими («государственный капитализм»). Но от игры словами рукой подать до их переосмысления, – достаточно сообщить каждому слову нужный эмоциональный заряд, который и будет принят за «правильное» понимание смысла слова. То есть всё, действительно, решает искусственно возбуждаемое эмоциональное отношение ? положительное или отрицательное ? к словам. Нужно лишь организовать это искусственное возбуждение ? с помощью политической пропаганды и средств массовой информации.
Разумеется, технология применима не только к словам «социализм» и «капитализм», но и к любым другим, включая слова «добро» и «зло» («империя Добра», «империя Зла» и др.). А эффективна она потому, что в свете теории исторического материализма смысловая структура естественных языков стала пониматься крайне примитивно ? как непосредственное отражение окружающей действительности. Реальная же сложность естественных языков, та их сложность, что заявлена в истории культуры фольклорной и литературной метафорикой, притчевостью евангелий и их святоотеческими толкованиями, герменевтической и метаязыковой проблематикой науки, двусмысленностями прочих символических способов смысловыражения, не говоря уже о труднейших вопросах исторической семантики ? начисто выпала из поля зрения тех, кто принял теорию отражения всерьёз.
Как следствие, символическая функция языка стала восприниматься управляемым большинством или как простое «украшательство» языка, или же как проявление его ненужной избыточности. С другой стороны, она оказалась монополизирована управляющим меньшинством, чтобы стать в их руках мощнейшим инструментом управления массовым сознанием. Не удивительно, что язык в этих руках превратился в универсальное средство господства над людьми. Как и сами люди стали «рабами слов» [29].
У разбитого корыта
Идеологические игры со словами и создают ту самую «разруху в головах», когда теряется из виду причинно-следственная связь явлений и в умах поселяется идейный разброд: белые ненавидят красных, а красные ? белых, православные не приемлют советских, а советские ? православных; и те, и другие не любят «новых русских», а «новые русские» отвергают и советских, и несоветских, и вообще всю «эту страну». Не говорю уже о том, что для русских неоязычников весь церковный период отечественной истории ? это не более чем «жидохристианство», а для русской православной церкви всё, что было до неё и без неё – достояние «зверей и скотов» (слова митрополита Киевской Руси XI в. Илариона, целиком разделяемые и современной православной церковью).
Не то что разобраться во всём этом мировоззренческом хаосе, но даже просто осознать его как проблему отечественное обществоведение не в состоянии уже потому, что изначально является некритически заимствованным на Западе истматовским вариантом экономикоцентристской теории. Подчёркиваю: некритически заимствованным, – потому что на самом Западе, в отличие от России, такая теория никогда не исключала нематериалистических стратегий в отношениях со своими геополитическими противниками.
Речь идёт о пресловутых «двойных стандартах» ? о «цивилизованном лицемерии» геополитических и идеологических оппонентов России, в силу которого её взаимодействие с Западом на протяжении вот уже нескольких столетий выстраивается, говоря предельно откровенно и грубо, по схеме «подлец & дурак». То есть с Россией играют по правилам информационных технологий, которым она не обучалась и которыми не владеет. Что и не удивительно; ведь даже в истории русской православной церкви уже к XVII веку начисто позабылась идея Иосифа Волоцкого о необходимости борьбы со злом средствами «доброхитростной мудрости» [30]. А усугубляется ситуация хронической мировоззренческой обезоруженности России тем, что сегодня против неё играет и значительная часть её же «элиты» (которая, впрочем, сама себя российской не считает, поскольку на правах «обслуги ничейного сырьевого региона» давно уже интегрирована в наднациональные и надгосударственные управленческие структуры).
Но именно поэтому так остра встающая сегодня перед страной задача критического переосмысления всего накопленного ею за свою историю духовного опыта. России позарез необходима полноценная мировоззренческая почва под ногами. Нужны принципиально новые, реально работающие на оздоровление и консолидацию массового сознания, идеи. Слишком очевидно, что мировоззренческий кризис грозит стране окончательным сломом. Провоцируя идейный раскол общества, он блокирует выработку долговременной культурной и социально-экономической политики и тем самым подрывает основы общественной, национальной и государственной безопасности России
Два «поплавка»
Почему методологическая несостоятельность и безнадежная устарелость предпосылочных оснований исторического материализма никогда не становится темой широкого научного (не говоря уже ? массового) обсуждения? Чем конкретно обеспечена феноменальная живучесть этой ментальной конструкции? Какие «поплавки» продолжают удерживать её на поверхности академической жизни?
К ответу на все эти вопросы приближает понимание структуры той части научного сообщества, которая так или иначе ответственна за состояние и качество исторического знания. А структура, похоже, такова: с одной стороны, мы имеем сегодня ограниченный круг профессионалов, которым хватает осмотрительности и вкуса избегать прямых ссылок на исторический материализм и ограничивать предмет своих исследований одним лишь эмпирическим материалом. С другой стороны, мы имеем огромную армию добросовестных узкоспециализированных учёных, не осознающих влияния на своё мышление собственных предпосылок. С третьей стороны, мы имеем заметное (мягко говоря) засилье в науке людей, никакого отношения к ней, кроме потребительского, не имеющих, но неплохо в ней устроившихся благодаря сознательному паразитированию на господствующих в науке общетеоретических фантомах и фикциях.
Второй и третий классы специалистов ? это люди, живущие в натоптанной колее историко-материалистического ментального штампа. Но люди второго класса живут в этой «колее» бессознательно, а люди третьего ? вполне сознательно пользуются «колеёй» в личных целях. И вот эти-то две их позиции ? сознательная и бессознательная ? и играют роль «поплавков», на которых «научно держится», при всём своём несоответствии практическому опыту и эмпирическим данным, сам указанный штамп.
Суть «сознательного поплавка» в том, что он выполняет в современном социуме чрезвычайно важную для власти (государственной или надгосударственной ? безразлично) функцию, аналогичную прежней «жреческой». То есть в обществе, лишённом освящённых традицией смыслов, исторический материализм оказывается последним резервом идеологического авторитета, от имени которого осуществляется легитимация выгодных власти решений и монополизации нужных ей ресурсов. Будучи по форме продуктом научной деятельности, а в реальности ? технологией управления массовым сознанием (или, проще говоря, технологией оглупления и раскультуривания людей), он превращает тем самым управленческую практику в законное средство манипуляции общественным сознанием.
Манипуляция оказывается возможной потому, что мантра о примате бытия над сознанием, воспринятая этим сознанием не как условная предпосылка, а как сама объективная реальность, становится неосознаваемой предпосылкой. А неосознаваемость главной мировоззренческой предпосылки создаёт иллюзию беспредпосылочности сознания ? бессознательную уверенность в том, что используемые сознанием слова отражают окружающую реальность непосредственно, «объективно».
Этой-то бессознательной в отношении собственных предпосылок уверенностью и держится на поверхности академической жизни другой «поплавок». Избавиться же от обоих поможет лишь развенчание главного псевдонаучного мегапроекта уходящей эпохи ? демистификация эволюционно-исторической картины мира.
Спрашивается: почему ? вопреки реальному положению вещей и вопреки даже собственным наблюдениям (см. ссылку 6) ? они так считали? Потому, что к этому их вынуждала собственная мантра о примате общественного бытия над общественным сознанием? Но откуда вообще взялась эта мантра? И в силу каких причин она возымела такую власть над умами?
Если задаться двумя последними вопросами всерьёз, то начнут выявляться чрезвычайно интересные вещи. Например, станет ясно, что указанная мантра возникла не как результат осмысления полученных опытным путём данных, а как логическое следствие из умозрительной посылки, преждевременно принятой за аксиому. Ближайший первоисточник посылки обнаружится в разработанной французскими идеологами XVIII века концепции «прогресса» (восходящей, в свою очередь, к более ранним религиозно-утопическим концепциям). А практическим воплощением посылки окажется чисто условная, откровенно механистическая и абсолютно несостоятельная с научной точки зрения схема развития «от простого к сложному», «от низшего к высшему» [11].
Окажется, далее, что вся остальная материалистическая «научность», объясняющая структуру и динамику природных и социальных процессов ? это тоже не плоды полученного опытным путём знания, а итог доведения «прогрессистско-усложненческой» схемы развития до её логического завершения путём наращивания на неё соответствующих гипотез. Решающий вклад сюда внесла, конечно же, дарвиновская теория эволюции, ? несмотря на то, что самим автором теории несостоятельность дивергентной схемы развития осознавалась изначально («знаю, ? писал он, ? что едва ли возможно определить ясно, что разумеется под более высокой или более низкой организацией»; «это область очень запутанного вопроса» [12]) Да и профессиональные оппоненты Ч. Дарвина из числа его современников тоже понимали, что его теория ? не столько биологическое, сколько философское учение, вершинное проявление механистического материализма [13].
Тем не менее, именно дарвиновская схема послужила «естественно-исторической» основой для научно-материалистической трактовки развития общества [14]. На стыке двух учений выстроилась логическая цепочка: биологическая эволюция – антропо- и культурогенез – социальный прогресс. А позднее цепочку дополнили ещё два непроверенных звена ? гипотезы абиогенеза (А. И. Опарина ? Дж. Холдейна) и Большого взрыва (А. А. Фридмана).
На сегодняшний день ни одно из звеньев цепочки не является научно доказанным. Наоборот, вся цепочка начинает постепенно осознаваться как умозрительная философская конструкция вульгарно-механистического свойства ? как продукт подгонки эмпирических данных под «прогрессистско-усложненческую» схему развития.
Этот-то «продукт» и представляет собой предельно наглядное в своей полноте воплощение принципа «историзма» ? научно-материалистической, или эволюционно-исторической, точки зрения на развитие природы и общества. «Продукту» при его изготовлении постарались придать товарный вид, засунув грубую механистическую болванку в рекспектабельную «диалектическую» упаковку. А профессиональные пиар-технологии, «заточенные» под пропаганду социальных революций, обеспечили ему устойчивый общественный спрос.
Фикция «знания целого»
Считается, что именно материалистический взгляд на окружающий мир послужил причиной бурного роста научного знания о природе и обществе. Отчасти это, действительно, так, потому что наука, как особая форма представлений о мире, началась с изучения именно материальных его проявлений. Но с момента превращения материалистической науки в связное эволюционно-историческое мировоззрение, основанное на умозрительной схеме развития, начались её принципиальные расхождения с эмпирической фактологией. Что и было замечено специалистами с самостоятельной методологической позицией.
Так, уже В. И. Вернадский (не только выдающийся геобиохимик, но и незаурядный историк и методолог науки) доходчиво объяснил принципиальную разницу между двумя смысловыми пластами научного знания: между тем их пластом, который явлен в связной научной картине мира, и тем, который явлен в «чистой эмпирике». Об истоках связных представлений о мире он писал, что они вошли в науку «не из наблюдений фактов, а из готовых, чуждых науке, представлений религиозных и философских, что мы можем научно точно доказать, исходя из истории научной мысли» [15]. А вот его соображения о «чистой эмпирике»: «Правильным является… стремление, всё более и более преобладающее в научных исканиях… подходить к изучению явлений жизни чисто эмпирически, считаться с невозможностью дать ей “объяснение”, т. е. дать ей место в нашем абстрактном космосе, научно построенном из моделей-гипотез» [16].
Свидетельством истинности эмпирически-полученных научных данных Вернадский считал как раз их необычность, их несовместимость с традиционными философскими представлениями: «Эмпирическое обобщение, ? писал он, ? раз оно точно выведено из фактов, не требует проверки. Оно может существовать и быть положено в основу научной работы, даже если оно является непонятным и противоречит господствующим теориям и гипотезам» [17]. «Эмпирическое обобщение опирается на собранные индуктивным путём факты, не выходя за их пределы и не заботясь о согласии или несогласии полученного вывода с другими существующими представлениями о природе. В этом отношении эмпирические обобщения не отличаются от научно-установленных фактов: их совпадение с нашими научными представлениями о природе нас не интересует, их противоречие с ними составляет научное открытие» [18].
«Эмпирическое обобщение может очень долго существовать, не поддаваясь никаким гипотетическим объяснениям, являться непонятным и всё же оказывать огромное благотворное влияние на понимание явлений природы. Но затем часто наступает момент, когда оно вдруг начинает освещаться новым светом, становится областью создания гипотез, начинает менять наши схемы мироздания и само меняться. Очень часто тогда оказывается, что в эмпирическом обобщении мы имели не то, что думали, или в действительности имели много больше, чем думали» [19].
Общий вывод В. И. Вернадского: «Распространение научного мировоззрения может даже иногда мешать научной работе и научному творчеству, так как оно неизбежно закрепляет научные ошибки данного времени». «К тому же это философское построение связано с материализмом, тем течением мысли, которое было живым в конце XVIII, середине XIX в. и которое в тех проявлениях, в каких оно выражено в современной науке, является историческим пережитком…» [20].
Разруха в головах
Вернадский же зафиксировал катастрофическое состояние методологической мысли своего времени. «Упадок научной мысли и научного творчества, ? читаем в его дневнике за 1931?1932 годы, ? всегда был связан с переоценкой достижений философии или религии. Эта переоценка ? для философии ? и сейчас угрожает нашей стране. <…> Кругом, в диалектическом материализме, в ленинизме мы видим ту же утопию, но проводимую огнём и мечом инквизиционным путём. <…> У нас меня угнетает бездарность новых официальных философских исканий при даровитости народа» [21]. «Поразительно невежественны и бездарны “философские” работы благонадёжных “мыслителей”» [22]. «Психозы сейчас ярко проявляются. Часть диаматов и диалектиков, по-видимому, психически больны. Мне часто рисуется: русские учёные должны работать, неся груз невежественных и больных диаматов и так называемых общественных работников, мешающих, сколько возможно, научной работе» [23].
То, что этот приговор возник не на пустом месте, подтверждают слова И. В. Сталина, произнесённые им в частной беседе с членом Президиума ЦК КПСС Д. И. Чесноковым: «Без теории нам смерть! смерть!! смерть!!!» [24]. Из них видно, что имевшуюся в то время у партии теорию Сталин по факту не считал удовлетворительной, почему и напутствовал вошедших в Президиум руководителей новосозданных научных отделов (философии и истории, экономики и права, естественных и технических наук): «Ваша задача ? оживить теоретическую работу в партии, дать анализ новых процессов и явлений в стране и мире» [25].
Оживление если и произошло, то разве лишь в области технических наук, менее зависимых от идеологического давления. Что же касается философии и истории, ответственных за методологическое обеспечение научных исследований, то в них ситуация осталась, по большому счёту, прежней. Хотя оживление вполне могло бы состояться и там, ? если бы получил научное признание тот, очевидный для любого непредвзятого человека, факт, что с расстройства общественного сознания начинается и расстройство всего «бытийного»: политики, экономики, науки, образования и т. д. (вспомним булгаковскую формулу: «разруха в туалетах начинается с разрухи в головах»).
К сожалению, приходится признать, что по факту научному сознанию навязан взгляд на эволюционно-историческую картину мира как на единственно правильный, не подлежащий критическому обсуждению, критерий «научности». Притом, что сама эта картина держится на вульгарно-механистической схеме развития, от которой уважающие себя учёные на словах всячески открещиваются. Но именно на словах, а не на деле: ведь схема удобна своей упрощённостью и всеохватностью, она создаёт иллюзию понятности и объяснённости абсолютно всего. А всё непонятное она же отметает за «ненаучностью».
Так упрощённому сознанию становится принципиально чуждой идея объекта, сравнимого или, более того, превосходящего по совершенству исследователя [26].
Вирус нигилизма
Неадекватное восприятие реальности, задаваемое несостоятельными методологическими предпосылками, неизбежно отражается и на управленческой практике, в частности ? на попытках социального проектирования. А это значит, что именно в историческом материализме следует усматривать подлинную, хотя и не явно выраженную, причину провала крупнейшей в истории попытки создания справедливого социально-политического устройства (имеется в виду СССР).
Часто утверждается, что крах советского проекта был предопределён чисто экономическими причинами. Указывают также на усугубившие их управленческие ошибки того времени, на предательство партийной элиты, а также на разрушительную роль западных спецслужб. Но это всё – внешняя, хотя и немаловажная, сторона вопроса. А есть и его глубинная сторона, связанная с «иммунной» спецификой позднесоветской коллективной ментальности.
Что это была за ментальность? Она вытекала как следствие из эклектической комбинации двух разнородных смысловых структур. Одна структура – это унаследованный народным сознанием от религиозных пластов прежнего духовного опыта и взятый советской властью на вооружение идеал социальной справедливости. Другая структура – это не имеющее к идеалу социальной справедливости никакого отношения историко-материалистическое мировоззрение. Принципиальная разнонаправленность этих двух смысловых структур, насильственно соединённых в единую идеологическую конструкцию, и погубила, в конечном счёте, советский проект.
Дело в том, что пока малограмотный народ напрягался на стройках и гибнул на войнах, идеологам верили на слово ? было не до теорий. Да и послевоенная трудная обстановка не располагала к ним. Но вот настали более спокойные и сытые времена, подросло новое, более образованное поколение, в сознании которого эклектическое совмещение двух разнородных установок начало постепенно давать сбои. То есть новое поколение если ещё и не понимало, то уже интуитивно чувствовало, что в своих реально складывающихся формах советский проект определяется не столько официально провозглашённым идеалом социальной справедливости, сколько своим научным обоснованием – историко-материалистическим мировоззрением, а точнее – вырастающим из него и принципиально чуждым идее справедливости типом ментальности.
В этой ситуации перед советскими идеологами остро встал вопрос о соответствии идеала мировоззрению. Тут уж им пришлось напрягаться всерьёз: изобретать, с одной стороны, «марксистко-ленинскую этику», а с другой – обуздывать крепнущий молодёжный цинизм с помощью ещё одного наспех сляпанного рычага управления – «морального кодекса строителя коммунизма». Но, как известно, ни одна из этих мер себя не оправдала. Заказное словоблудие советских философов уже откровенно раздражало, а плагиат из новозаветных текстов лишь усиливал общественный нигилизм.
Этот-то нигилизм, насквозь пропитавший абсолютно все слои советского общества, и подкосил его. И он же открыто заявил о своём праве на существование к концу 1993 года, когда были доведены до своего логического завершения и юридически легализованы все, скрытые до времени, тенденции предыдущего политического строя.
Что такое идеология
Развал Советского Союза явился, таким образом, результатом победы историко-материалистического мировоззрения над идеологией социальной справедливости. Спрашивается: а почему не наоборот? Почему идеология социальной справедливости не одержала победу над историко-материалистическим мировоззрением?
Чтобы понять это, нужно обратиться к очень важному, но малоизвестному аспекту становления историко-материалистического мировоззрения. Как уже говорилось, в основных своих чертах оно окончательно сформировалось в эпоху между французским Просвещением XVIII и эволюционизмом XIX вв. А в самом начале этой эпохи вскрылся существенный недостаток нового мировоззрения: оно принципиально не нуждалось в понятиях добра и зла ? «относительных», а потому ненужных, «фантомных» с материалистической точки зрения, категориях. В то время как реальная управленческая практика в этих категориях крайне нуждалась: ведь руководить огромными массами людей намного легче, если управлять их эмоциями ? их пониманием добра и зла.
С такой вот управленческой целью во Франции времён Великой Революции и был создан Институт для изучения «мыслей людей». Его основатели, первопроходцы в деле создания технологий управления массовым сознанием, не без оснований утверждали, что «идеология должна изменить лицо мира» [27]. Не случайно роль Института высоко оценил Наполеон, сам бывший его членом и понимавший его политическое значение. Понимавший настолько, что идеологов, претендовавших на слишком большое участие во власти, «укоротил» своей (анонимной) статьёй в газете, где выразился о них как о тех, «кто дурит людям голову» [28].
Сказанное объясняет, почему комбинация из теории исторического материализма и идеологического «довеска» к нему не была самостоятельным изобретением партийных руководителей СССР. На самом деле она представляла собой давно и хорошо отлаженную технологию управления массовым сознанием.
Вот пример того, как эта технология «работала» на протяжении всего XX века. В его начале прогрессивная общественность России была настроена крайне отрицательно в отношении капиталистической формы хозяйствования и крайне положительно – в отношении его социалистической формы. А в конце ХХ века мы наблюдали уже диаметрально противоположную картину. Но думать, что смена ориентиров прогрессивной общественности совершилась под влиянием серьёзной аналитической работы или взвешенной проработки пережитого опыта – нет никаких оснований. Если бы имел место анализ социализма не как мистифицированной «общественно-экономической формации», а как чисто технического принципа социального жизнеустройства, то было бы принято во внимание, что элементы государственного планирования, регулирования, контроля, протекционизма и сильной социальной политики были в ушедшем столетии неотделимы от всего того, что называется «капиталистической формой хозяйствования». Поэтому следствием анализа явился бы вывод, что свой собственный уклад, в котором все перечисленные элементы имелись, нужно не ломать, а бережно совершенствовать.
То же самое – с пережитым опытом: если бы он действительно учитывался, то стало бы ясно, что трудности, испытанные Россией в ХХ веке, не имеют никакого отношения к «социалистической форме хозяйствования». То есть было бы принято во внимание, что процессы раскрестьянивания и индустриализации сами по себе не имеют ничего общего с «социализмом» и лишь случайно совпали с ним по времени; что сущностные причины выпавших на долю страны разрушительных войн достаточно универсальны для любых эпох; что крайности воинствующего атеизма тоже не определяют специфики «социализма» и что климатические особенности страны в принципе исключают слепое копирование любого чужого опыта, будь-то теоретический марксистский или практический рыночный.
Если бы, повторяю, всё это учитывалось, то мы не метались бы из крайности в крайность, а спокойно занимались улучшением того, что имеем, исходя из соображений одной лишь целесообразности. Но поскольку наблюдалось именно метание из крайности в крайность, то приходится думать, что за сменой ориентиров стоит нечто иное, нежели здравый смысл и трезвый расчёт.
«Нечто иное» и называется «идеологией», суть которой ? в контроле над свойством сознания принимать своё эмоциональное отношение к словам за их понимание. Когда, скажем, в начале XX века была поставлена задача сформировать в массовом сознании положительное отношение к слову «социализм» и отрицательное ? к слову «капитализм», то первое стали увязывать с «социальной справедливостью», а второе ? с «эксплуатацией человека человеком». А когда в конце того же века было решено скомпрометировать первое слово и заставить молиться на второе, то первое, соответственно, стали увязывать с «бесхозяйственностью» и «шариковщиной», а второе ? с «предприимчивостью» и «эффективностью».
Технология «работает» потому, что стоящая за словами «социализм» и «капитализм» реальность всегда намного шире текущих значений данных слов. Что и позволяет при желании играть ими, называя ту или иную западноевропейскую страну социалистической («шведский социализм», «швейцарский социализм»), а, скажем, нэповский СССР или дэнсяопиновский Китай – капиталистическими («государственный капитализм»). Но от игры словами рукой подать до их переосмысления, – достаточно сообщить каждому слову нужный эмоциональный заряд, который и будет принят за «правильное» понимание смысла слова. То есть всё, действительно, решает искусственно возбуждаемое эмоциональное отношение ? положительное или отрицательное ? к словам. Нужно лишь организовать это искусственное возбуждение ? с помощью политической пропаганды и средств массовой информации.
Разумеется, технология применима не только к словам «социализм» и «капитализм», но и к любым другим, включая слова «добро» и «зло» («империя Добра», «империя Зла» и др.). А эффективна она потому, что в свете теории исторического материализма смысловая структура естественных языков стала пониматься крайне примитивно ? как непосредственное отражение окружающей действительности. Реальная же сложность естественных языков, та их сложность, что заявлена в истории культуры фольклорной и литературной метафорикой, притчевостью евангелий и их святоотеческими толкованиями, герменевтической и метаязыковой проблематикой науки, двусмысленностями прочих символических способов смысловыражения, не говоря уже о труднейших вопросах исторической семантики ? начисто выпала из поля зрения тех, кто принял теорию отражения всерьёз.
Как следствие, символическая функция языка стала восприниматься управляемым большинством или как простое «украшательство» языка, или же как проявление его ненужной избыточности. С другой стороны, она оказалась монополизирована управляющим меньшинством, чтобы стать в их руках мощнейшим инструментом управления массовым сознанием. Не удивительно, что язык в этих руках превратился в универсальное средство господства над людьми. Как и сами люди стали «рабами слов» [29].
У разбитого корыта
Идеологические игры со словами и создают ту самую «разруху в головах», когда теряется из виду причинно-следственная связь явлений и в умах поселяется идейный разброд: белые ненавидят красных, а красные ? белых, православные не приемлют советских, а советские ? православных; и те, и другие не любят «новых русских», а «новые русские» отвергают и советских, и несоветских, и вообще всю «эту страну». Не говорю уже о том, что для русских неоязычников весь церковный период отечественной истории ? это не более чем «жидохристианство», а для русской православной церкви всё, что было до неё и без неё – достояние «зверей и скотов» (слова митрополита Киевской Руси XI в. Илариона, целиком разделяемые и современной православной церковью).
Не то что разобраться во всём этом мировоззренческом хаосе, но даже просто осознать его как проблему отечественное обществоведение не в состоянии уже потому, что изначально является некритически заимствованным на Западе истматовским вариантом экономикоцентристской теории. Подчёркиваю: некритически заимствованным, – потому что на самом Западе, в отличие от России, такая теория никогда не исключала нематериалистических стратегий в отношениях со своими геополитическими противниками.
Речь идёт о пресловутых «двойных стандартах» ? о «цивилизованном лицемерии» геополитических и идеологических оппонентов России, в силу которого её взаимодействие с Западом на протяжении вот уже нескольких столетий выстраивается, говоря предельно откровенно и грубо, по схеме «подлец & дурак». То есть с Россией играют по правилам информационных технологий, которым она не обучалась и которыми не владеет. Что и не удивительно; ведь даже в истории русской православной церкви уже к XVII веку начисто позабылась идея Иосифа Волоцкого о необходимости борьбы со злом средствами «доброхитростной мудрости» [30]. А усугубляется ситуация хронической мировоззренческой обезоруженности России тем, что сегодня против неё играет и значительная часть её же «элиты» (которая, впрочем, сама себя российской не считает, поскольку на правах «обслуги ничейного сырьевого региона» давно уже интегрирована в наднациональные и надгосударственные управленческие структуры).
Но именно поэтому так остра встающая сегодня перед страной задача критического переосмысления всего накопленного ею за свою историю духовного опыта. России позарез необходима полноценная мировоззренческая почва под ногами. Нужны принципиально новые, реально работающие на оздоровление и консолидацию массового сознания, идеи. Слишком очевидно, что мировоззренческий кризис грозит стране окончательным сломом. Провоцируя идейный раскол общества, он блокирует выработку долговременной культурной и социально-экономической политики и тем самым подрывает основы общественной, национальной и государственной безопасности России
Два «поплавка»
Почему методологическая несостоятельность и безнадежная устарелость предпосылочных оснований исторического материализма никогда не становится темой широкого научного (не говоря уже ? массового) обсуждения? Чем конкретно обеспечена феноменальная живучесть этой ментальной конструкции? Какие «поплавки» продолжают удерживать её на поверхности академической жизни?
К ответу на все эти вопросы приближает понимание структуры той части научного сообщества, которая так или иначе ответственна за состояние и качество исторического знания. А структура, похоже, такова: с одной стороны, мы имеем сегодня ограниченный круг профессионалов, которым хватает осмотрительности и вкуса избегать прямых ссылок на исторический материализм и ограничивать предмет своих исследований одним лишь эмпирическим материалом. С другой стороны, мы имеем огромную армию добросовестных узкоспециализированных учёных, не осознающих влияния на своё мышление собственных предпосылок. С третьей стороны, мы имеем заметное (мягко говоря) засилье в науке людей, никакого отношения к ней, кроме потребительского, не имеющих, но неплохо в ней устроившихся благодаря сознательному паразитированию на господствующих в науке общетеоретических фантомах и фикциях.
Второй и третий классы специалистов ? это люди, живущие в натоптанной колее историко-материалистического ментального штампа. Но люди второго класса живут в этой «колее» бессознательно, а люди третьего ? вполне сознательно пользуются «колеёй» в личных целях. И вот эти-то две их позиции ? сознательная и бессознательная ? и играют роль «поплавков», на которых «научно держится», при всём своём несоответствии практическому опыту и эмпирическим данным, сам указанный штамп.
Суть «сознательного поплавка» в том, что он выполняет в современном социуме чрезвычайно важную для власти (государственной или надгосударственной ? безразлично) функцию, аналогичную прежней «жреческой». То есть в обществе, лишённом освящённых традицией смыслов, исторический материализм оказывается последним резервом идеологического авторитета, от имени которого осуществляется легитимация выгодных власти решений и монополизации нужных ей ресурсов. Будучи по форме продуктом научной деятельности, а в реальности ? технологией управления массовым сознанием (или, проще говоря, технологией оглупления и раскультуривания людей), он превращает тем самым управленческую практику в законное средство манипуляции общественным сознанием.
Манипуляция оказывается возможной потому, что мантра о примате бытия над сознанием, воспринятая этим сознанием не как условная предпосылка, а как сама объективная реальность, становится неосознаваемой предпосылкой. А неосознаваемость главной мировоззренческой предпосылки создаёт иллюзию беспредпосылочности сознания ? бессознательную уверенность в том, что используемые сознанием слова отражают окружающую реальность непосредственно, «объективно».
Этой-то бессознательной в отношении собственных предпосылок уверенностью и держится на поверхности академической жизни другой «поплавок». Избавиться же от обоих поможет лишь развенчание главного псевдонаучного мегапроекта уходящей эпохи ? демистификация эволюционно-исторической картины мира.