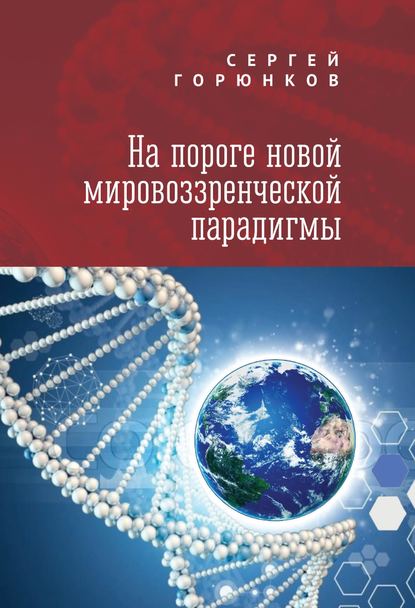По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На пороге новой мировоззренческой парадигмы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На пороге новой мировоззренческой парадигмы
Сергей Викторович Горюнков
Ожидание смены мировоззренческой парадигмы, инициированное в своё время прогнозами В. И. Вернадского, витает над страной уже целое столетие. Но решающее слово здесь никем ещё не сказано; ситуация остаётся «зависшей». А её внутренней напряжённостью задан главный нерв текущей реальности – тот общемировой кризис, который принято объяснять финансово-экономическими, межэтническими, геополитическими и прочими тому подобными причинами, но который на самом деле является мировоззренческим кризисом: кризисом совести, кризисом целей и смыслов человеческого существования, кризисом в понимании предпосылочных основ культуры. Без критического переосмысления этих основ кризис не преодолеть.
С. В. Горюнков
На пороге новой мировоззренческой парадигмы Сборник статей
В рабстве у слов: к проблеме качества гуманитарных экспертиз
Из крайности в крайность
Как известно, в начале ХХ столетия прогрессивная общественность России была настроена крайне отрицательно в отношении капиталистической формы хозяйствования и крайне положительно – в отношении его социалистической формы. А в конце ХХ и начале XXI столетий мы наблюдаем уже диаметрально противоположную картину. Но думать, что смена ориентиров прогрессивной общественности совершилась под влиянием серьёзной аналитической работы или взвешенной проработки пережитого опыта – нет никаких оснований.
Если бы имел место анализ социализма не как мистифицированной «общественно-экономической формации», а как чисто технического принципа социального жизнеустройства, то было бы принято во внимание, что элементы государственного планирования, регулирования, контроля, протекционизма и сильной социальной политики были в ушедшем столетии неотделимы от всего того, что называется «капиталистической формой хозяйствования». Поэтому следствием анализа явился бы вывод, что свой собственный уклад, в котором все перечисленные элементы имелись, нужно не ломать, а бережно совершенствовать.
То же самое – с пережитым опытом: если бы он действительно учитывался, то стало бы ясно, что трудности, испытанные Россией в ХХ веке, не имеют никакого отношения к «социалистической форме хозяйствования». Т. е. было бы принято во внимание, что процессы раскрестьянивания и индустриализации сами по себе не имеют ничего общего с «социализмом» и лишь случайно совпали с ним по времени; что сущностные (идеологические и финансовые) причины выпавших на долю страны разрушительных войн достаточно универсальны для любых эпох; что крайности воинствующего атеизма тоже не определяют специфики «социализма» и что климатические особенности страны в принципе исключают слепое копирование любого чужого опыта, будь-то теоретический марксистский или практический рыночный.
Если бы, повторяю, всё это учитывалось, то мы не метались бы из крайности в крайность, а спокойно занимались улучшением того, что имеем, исходя из соображений одной лишь целесообразности. Но поскольку наблюдается именно метание из крайности в крайность, то приходится думать, что за сменой ориентиров стоит нечто иное, нежели здравый смысл и трезвый расчёт.
Собака Павлова
Что же это такое – нечто иное? А вот что. Представим себе так называемую «собаку Павлова», в мозг которой вживлены два электрода: один – в «центр удовольствия», а другой – в «центр агрессии». От электродов проводки тянутся на испытательный стенд, где с помощью клемм подсоединены к кнопкам управления. Представим, что проводок от электрода в «центре удовольствия» подсоединён к кнопке с биркой «социализм», а проводок от электрода в «центре агрессии» – к кнопке с биркой «капитализм». Нажимается первая кнопка – и собака распускает слюни от удовольствия; нажимается вторая кнопка – и собака заходится в бешеном лае. Это – моделирование ситуации, наблюдавшейся в России в начале ХХ века. Затем клеммы от проводков перебрасываются с одной кнопки на другую – меняются местами, в результате чего операция раздражения «центра удовольствия» проводится уже под кодовым названием «капитализм», а операция раздражения «центра агрессии» – под кодовым названием «социализм». Это – моделирование ситуации, наблюдаемой сегодня.
«Бирки на кнопках» – это довлеющие в массовом сознании понятийные штампы. «Центр удовольствия» и «центр агрессии» – это сферы эмоций массового сознания. Проводки, соединяющие электроды с кнопками – это штат профессиональных манипуляторов массовым сознанием, специалистов по эмоциональной окраске понятийных штампов (журналисты, политологи, идеологи, артисты и пр.). «Оператор», перебрасывающий проводки с одной кнопки на другую – это власть, содержащая штат манипуляторов и направляющая его. А суть власти «оператора» над «собакой Павлова» – это свойство сознания принимать своё эмоциональное отношение к словам за их понимание (свойство, блестяще описанное в рассказе А. П. Чехова «Сильные ощущения»).
Если принять нарисованный здесь образ за отвечающий реальности, то придётся согласиться, что любой взятый наугад обыватель, костерящий сегодня «проклятых коммуняк» – это всегда «собака Павлова». Но придётся согласиться и с тем, что точно такой же «собакой Павлова» является и любой взятый наугад обыватель из противоположного политико-идеологического лагеря, наивно полагающий, что суть минувшей эпохи неотделима от её «бирки на кнопке».
«Бирочная» технология
Лёгкость манипуляций с понятиями «социализм» и «капитализм» объясняется тем, что стоящая за ними реальность намного шире их содержания, не исчерпывается ими. Что и позволяет при желании играть словами, называя ту или иную западноевропейскую страну социалистической («шведский социализм», «швейцарский социализм»), а, скажем, нэповский СССР или ден-сяопиновский Китай – капиталистическими («государственный капитализм»). Но от игры словами рукой подать до их переосмысления, – достаточно с помощью СМИ сообщить каждой бирке нужный «оператору» эмоциональный заряд, который и будет принят за «правильное понимание» смысла бирки. Т. е. всё, действительно, решает искусственно возбуждаемое эмоциональное отношение – положительное или отрицательное – к словам.
Сказанное целиком подтверждается на примере с массовым восприятием слова «фашизм». Сегодня это слово неотделимо от сопровождающей его негативной эмоции. Но в начале XX в. ситуация была совершенно иной. В фашизме тогда видели течение политической мысли, исходившее, по словам И. А. Ильина, «из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может ни утвердить своего существования, ни создать свою культуру» [1]. К тому же данная форма фашизма рассматривалась тогда как политическая реакция на спонсированный Фининтерном («закрытыми структурами наднационального управления», по современному определению А. И. Фурсова) коммунистический проект [2]. И хотя такого же спонсирования не чуждалась и она сама в лице некоторых своих лидеров [3], но, тем не менее, именно её идеология легла в ряде стран Западной Европы (в Италии, Испании, Португалии) в основу политических режимов, ограничивших свободу движения капиталов и ставших поэтому неугодными Фининтерну (концепция «экономического национализма»). Не удивительно, что тем же Фининтерном в Германии была взращена уже совершенно новая, уродливо-расистская разновидность фашизма, с целью компрометации опасного понятия путём его превращения в «бирочное пугало», а также с целью обуздания силами Германии советского эксперимента, вышедшего в 1930-х гг. из-под фининтерновского контроля.
На сознательную компрометацию первоначально-положительного смысла понятия «фашизм» указывает и история главного фашистского символа – свастики. Как известно, этот знак, встречающийся на памятниках древних культур почти всей Евразии, был широко представлен и в русской народной орнаментике (в резьбе, вышивке и др.), и даже в церковном прикладном искусстве [4]. А ко времени его научного изучения в конце XIX в. он уже имел устойчивую репутацию одного из важнейших элементов традиционной культуры, пробуждающего в сознании память о её до-исторических пластах. Именно этим, кстати, объясняется мода на данный символ в семье последних Романовых, да и в других кругах тогдашнего общества. (Отголоски такой моды видны в изображениях свастики на деньгах Временного правительства и даже – в качестве курьёза – на красноармейских нарукавных шевронах 1918–1919 гг., на образцах раннесоветского агитпропа и т. д.). Лишь с момента «приватизации» этого символа предтечами германского фашизма в 1920-х гг. он стал постепенно восприниматься массовым сознанием, не без помощи специальных разъяснений [5], как неотъемлемый атрибут «бирочного пугала».
Ещё одно «бирочное пугало» – понятие «тоталитаризм», восходящее к вполне положительному латинскому значению «полный», «целый». Здесь тоже всё не однозначно. С одной стороны: «сама концепция тоталитаризма, как и сравнение национал-социалистической Германии со сталинской системой, всё чаще принимаются с существенными оговорками. Сейчас стало ясно, что сформулированная в годы холодной войны, она упрощала реальный ход событий и в Германии, и в СССР. В ней не учитывались такие существенные моменты в режимах двух стран, как экстренная модернизация экономики, быстрое и коренное преобразование социальной структуры общества, подготовка новой элиты во всех сферах общественной жизни, массовая политика поддержки правящей партии…» [6]. С другой стороны: сочетания слова «тоталитаризм» с характеристиками «либеральный», «экономический», «глобалистский» – употребляются всё чаще [7]. Это полностью соответствует точке зрения А. Тойнби на тоталитаризм как на чисто европейское явление, «сочетающее в себе западный гений организации и механизации с дьявольской способностью порабощения душ, которой могли бы позавидовать тираны всех времён и народов…» [8]. Да и в самом определении тоталитаризма как политического режима, стремящегося к полному контролю государства над всеми сторонами жизни общества, роль именно государственного контроля – не принципиальна. Надгосударственный (глобалистский) контроль обещает оказаться, и уже оказывается, намного более жёстким.
Диаметрально противоположный «бирочным пугалам» пример – слово «демократия», превращённое сегодня в «бирочную наживку». Под этим словом подразумевается обычно внешне привлекательная идея народовластия, определявшая политическое устройство многих до-государственных и раннегосударственных обществ. А манипуляция сознанием начинается с подмены этого понятия древнегреческой «калькой» с него – «демократией» [9]. Суть подмены в том, что «демократическое» устройство общества в его исторических истоках – это политическое устройство рабовладельческих Афин, где народовластие являлось привилегией немногочисленного слоя свободных граждан – при одновременном их неравноправии по имущественному цензу, а также при численном преобладании «не-граждан» («метеков») и рабов. Таким оно оставалось и в позднейших формах данного типа организации, например, в средневековых североитальянских республиках, с их более совершенной технологией обоснования и упрочения социального неравенства. Именно поэтому ещё сравнительно недавно (по историческим меркам) ни один здравомыслящий человек не питал по поводу демократической формы социальной организации никаких иллюзий. У Пушкина, например, читаем об «отвратительном цинизме», о «жестоких предрассудках» и о «нестерпимом тиранстве» демократии [10]. И о том же – у французского посла в предреволюционной России Мориса Палеолога: «…Демократия… не нарушая своих принципов… может сочетать в себе все виды гнёта политического, религиозного, социального. Но при демократическом строе деспотизм становится неуловимым, так как он распыляется по различным учреждениям; он не воплощается ни в каком одном лице, он вездесущ и в то же время его нет нигде; оттого он, как пар, наполняющий пространство, невидим, но удушлив; он как бы сливается с национальным климатом. Он нас раздражает, от него страдают, на него жалуются, но не на кого обрушиться. Люди обыкновенно привыкают к этому злу и подчиняются. Нельзя же сильно ненавидеть то, чего не видишь» [11] .
Скептицизм в отношении «демократии» вызывает и порождённое ею учение о «приспособленных» и «неприспособленных» расах и народах (см. данные о евгенических программах в «интересах устойчивого развития» [12]). Это, чисто расистское, учение явно роднит «демократию» с присущим немецкому варианту фашизма делением общество на «высшую» и «низшую» расы. Родство не случайное: именно «в английском обществе позднего викторианского периода и особенно в Америке стала общепринятой особенно зверская форма оправдания социального порядка – социал-дарвинизм», вошедший «в культурный багаж западной цивилизации… прежде всего благодаря своей роли в обосновании экономического либерализма…» [13]. А лежащий в глубине социал-дарвинизма расизм стал одним из оснований общей идеологии Запада (его матаидеологии) – евроцентризма» [14].
Политико-идеологические игры с бирками «тоталитаризм», «фашизм» и «демократия» – это игры XX–XXI веков. Похоже, что их назначение – внести некоторое разнообразие в давно всех утомившие, ведущиеся с XIX века, игры с бирками «коммунизм», «социализм» и «капитализм». И не исключено, что близится момент «переброски проводков» с одной кнопки на другую. Во всяком случае, «демократия» уже объявлена не целью, а всего лишь одним из возможных средств достижения цели; целью же являются совсем «другие ценности», – именно так выразился, в частности, Е. Ясин в своём выступлении на «Эхе Москвы» (17.12.2010). А то, что это вовсе не оговорка, подтверждается текстом речи английского премьера Дэвида Кэмерона для Мюнхенской конференции по безопасности ЕС (февраль 2011). «Пришло время, – говорится там, – сменить принцип пассивной толерантности на либерализм в действии, либерализм с мускулами» [15].
Как известно, «демократия» и прежде никогда не стеснялась применять «мускулы», но – действуя при этом вразрез с собственным «бирочным имиджем». Видимо, такая ситуация стала осознаваться как досадная помеха, и нынешнее заявление английского премьер-министра сигнализирует о взятии курса на приведение «бирочного имиджа» в соответствие с «демократическими» целями.
Сценарии спектакля
«Бирки на кнопках» могут быть не только политико-идеологическими и социально-экономическими, но и любыми другими: религиозными, научно-философскими, юридическими, литературно-художественными и др. Единственное предъявляемое к ним требование – они должны иметь свою смысловую антитезу в форме того или иного эмоционально воспринимаемого отвлечённого понятия. Только при наличии такой антитезы сценарий «спектакля для посвящённых» (под кодовым названием «борьба нанайских мальчиков») сможет быть запущен в работу. А от «собак Павлова» (от «рабов слов») требуется лишь «вера в бирки» – вера в стоящую за их эмоциональным восприятием «объективную реальность». Только при наличии такой веры любые сценарии спектакля будут восприниматься как «жизненные».
Всерьёз, например, воспринимается спектакль с бирочными крайностями в оценках той или иной эпохи российской истории. Скажем, русское язычество с точки зрения современных взглядов на его природу может интерпретироваться и в контексте противопоставления «заблуждения» «истине», и в контексте противопоставления «национальных корней» «религиозному чужебесию». Но и в тех, и в других интерпретациях неизбежно игнорируется специфика взаимоотношений язычества и христианства как взаимообусловленных этапов истории культуры: «детского» и «взрослого», до-рефлексивного и вступившего на путь интеллектуальной рефлексии.
Аналогичным образом обстоит дело с восприятием русского православия как «тысячелетнего монолита». Для одних он – залог спасения России, а для других – доказательство тяготеющего над ней проклятия, не пускающего страну в «цивилизованное сообщество». И лишь отдельные узкие специалисты знают, что нет почти ничего общего между домонгольским киевским двоеверием, московским «Третьим Римом» и петербургским синодальным периодом, и что поэтому эпоха русского православия – не спасительный или зловещий «монолит», а захватывающе интересное тысячелетие борьбы и поиска, смятения и страстей, побед и поражений в мистерии народного духа.
Ещё большие крайности наблюдаются в оценках такого загадочного периода истории России, как советская эпоха. Для одних это – «чёрная дыра» русской истории, а для других – её «кульминация». И почти не освоен массовым сознанием взгляд на советскую эпоху как на уникальный опыт исторического выживания народа в условиях непримиримой борьбы двух разнонаправленных социальных проектов [16], известных под названиями «троцкистского» (приносящего Россию в жертву мировой революции) и «сталинского» (строящего социализм в отдельно взятой стране), где выживание народа обеспечивал лишь второй проект [17].
Даже для такого относительно благополучного отрезка советской эпохи, как хрущёвско-брежневский, нет единой бирки: для одних это – последовательность этапов «оттепели» и «застоя», а для других – «развитой социализм». И очевиден дефицит взвешенных оценок послесталинского периода – времени «глубокого, подспудного движения русской духовной жизни, глубоко своеобразной и самобытной русской мысли, несмотря на иго, на гнёт политических доктрин, которыми управлялось марксистское государство» [18]. «Ничтожность деклараций и общественно-политических идей, высказанных скороспелым поколением “шестидесятников”, была осознана, и мысль общества ушла в глубину, в поиски новых путей, к истокам национальной культуры, национального сознания, национального характера. Это сулило большие результаты, но, как видно, напугало» [19].
Ещё бы не напугало, – не будь «перестройки», с кем бы нынешние «операторы» работали по всей «демо/тоталитаристской» программе?
Огромное поле спекуляций вокруг «исторических сценариев» связано с нерешёнными методологическими проблемами внутри самой исторической науки. Достаточно указать на кризисную ситуацию с теорией исторического материализма – «этой некогда модной идеологической доктриной социально-философского толка» [20], никогда не уделявшей должного внимания ментально-языковой («надстроечной») проблематике.
Выходом из кризиса считается сегодня такая альтернатива истмату, как теория самоорганизации. Но анализ предпосылочных оснований обеих теорий показывает, что их противопоставление друг другу – тоже очередной сценарий бирочного спектакля. На самом деле теория самоорганизации оказывается не альтернативой истмату, а попыткой реабилитации его предпосылочных оснований всё теми же, лишь слегка подновлёнными, средствами [21].
«Режимы» сценариев
Рассмотренные выше сценарии представляют собой образцы бирочной технологии в режиме или–или», где, кстати, момент с «переброской проводков» не обязателен. Но возможны и другие режимы, в частности – режим «ложного имени». Здесь не обязателен момент с «антитезой», зато управление эмоциями – более изощрённое.
Вот простейший пример в режиме «ложного имени»: очень трудно вызвать положительную эмоцию в отношении понятий «наёмный убийца», «проститутка», «гомосексуалист», «грабёж». Но если такая практическая задача ставится, то в действие приводится замена негативно воспринимаемых понятий на звучащие более пристойно и даже гламурно: «киллер», «путана», «гей», «рэкет» и т. п.
Ещё простой пример. На последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе (ВЭФ-2009) прозвучало заявление его председателя о том, что «нынешний кризис стал следствием алчности, жадности, безответственности, акульей логики ведущих банкиров, предпринимателей, инвесторов, финансистов и прочих лидеров современного неолиберального капитализма» [22]. А то, что заявление это целиком соответствует действительности, подтвердил американский президент Барак Обама: в марте 2009 г. он обрушился с критикой в адрес крупнейшей страховой компании American International Group и банка Citigroup, которые в условиях углубляющегося кризиса получили многомиллиардную помощь от государства и тут же раздали её значительную часть своим топ-менеджерам в качестве бонусов. И аналогичное подтверждение фактов криминального разгула в мировой финансово-экономической сфере дали многие западноевропейские страны. – Между тем практически все мировые СМИ, все аналитики и эксперты настойчиво продолжают называть разразившийся кризис, вопреки очевидным фактам, «финансово-экономическим», – вместо того, чтобы назвать его тем именем, которого он заслуживает на самом деле: кризисом элементарной порядочности на всех уровнях управления, включая международный уровень.
А вот пример посложнее, с привлечением авторитета экономической науки. Практиковавшееся в начале 90-х гг. кредитование Центральным банком России экономики страны под 210% годовых (при средней мировой норме 5–10%) – это нечто невообразимое, дающее исчерпывающее представление о причине российской экономической катастрофы [23]. Но если бы причина уже тогда была названа её собственным именем – «ростовщической удавкой ФРС» – то экономическая катастрофа, скорее всего, обернулась бы намного более глубоким управленческим кризисом, нежели наблюдаемый сегодня. Для предотвращения нежелательного развития событий и предназначены ложные имена усыпляющего характера: «ставка рефинансирования ЦБ РФ» – вместо «инструкция ФРС для ЦБ РФ», «золотовалютные резервы» – вместо «инструмент внешнего управления российскими финансами» и т. д. [24]. Такие, эмоционально нейтральные, бирочные выражения слух не режут. А их дезориентирующая роль помогает переложить вину за происходящее на «последствия семидесятилетнего коммунистического правления» и на «экономические трудности переходного периода».
Возможны случаи совмещения режимов; их наглядный образец – тема перераспределения национального богатства, воплощённая в принципе «отнять и поделить». Принцип одновременно реализуется в режимах «ложного имени» и «двойного стандарта». Если, скажем, он соблюдается в интересах большинства, то это – нечто глубоко отвратительное и недостойное, т. е. «шариковщина». А если тот же принцип соблюдается в интересах привилегированного меньшинства, то это – «залоговый аукцион» (смысловое «ядро» приватизации 90-х гг.).
Ещё пример совмещения режимов. Ни в одной уважающей себя стране невозможно вызвать отрицательную эмоцию в отношении понятия «протекционизм», означающего защиту государством собственного внутреннего рынка. Но в условиях конкуренции с экономиками чужих, менее самостоятельных в собственных мнениях, стран, запускается компрометирующая бирка «патернализма». Т. е. внутренняя политика таких стран начинает квалифицироваться как «патерналистская» – как экономически вредная и стимулирующая иждивенчество (естественно, компрометация – это лишь подготовка к более действенным санкциям).
Режим «двойного стандарта» универсален и сам по себе. Образцы его осуждения находим даже в памятниках культуры средневековой Руси: «Свидетельство крайнего неразумия, зависти и лукавства – одних хвалить, а других, говоривших то же самое и о том же, укорять» [25]. Если же обратиться к современности, то здесь напрашивается пример с «ксенофобией». Как известно, «здоровое отчуждение от “иных” совершенно необходимо для существования любой человеческой общности и даже личности. Каждый человек имеет своё “личное духовное пространство” и должен защищать его от непрошенных вторжений чужих людей» [26]. Точно также и «этническое самосознание любого народа возникает при делении людей на “мы” и “они”. Здесь всегда есть примесь ксенофобии. Требовать её полной ликвидации – значит запретить народу обладать собственной идентичностью» [27]. Но «проблема в том, что для нынешней российской элиты, которой служат СМИ и большинство интеллектуалов, ксенофобия русских является пороком и преступной наклонностью, а ксенофобия, скажем, англичан заслуживает всяческого уважения. “Мой дом – моя крепость”, – ах, какие мудрые пословицы у этих англичан! Как нам ещё далеко до Европы!» [28].
Аналогично – с «национализмом», который, как известно, легко переквалифицировать и в «патриотизм», и в «нацизм». В духе такой разнонаправленной «переквалификации» и обрабатывается обычно сознание народов многонациональной страны, приговорённой в целях глобального управления к расчленению. В отношении нашей страны результат налицо: все уже «знают», что есть «здоровый, патриотический национализм» прибалтов, кавказцев и др., и есть «русский фашизм».
Эффективен также режим «пустышки», при котором под одну и ту же бирку подвёрстываются, по чисто формальному сходству, принципиально различные явления. Типичный пример – бирка «империя»: её наклеивают и на западноевропейские колониальные и неоколониальные империи, «сделавшие себя из материала колоний» (выражение К. Леви-Стросса), и на Российскую империю, израсходовавшую себя на собственные национальные окраины. (О русской политике предпочтения окраин центру, прямо противоположной европейской практике, см. у М. А. Миропиева [29] и В. В. Розанова [30]; о той же политике в СССР – у А. Панарина [31]). А ведь «имперские амбиции» и «имперский гнёт» – едва ли не главное, что до сих пор ставится исторической России в вину некоторыми входившими в её состав малыми народами.
Оправдания в таких случаях бесполезны; для их нейтрализации бирочная технология предусматривает режимы «эмоционального окрашивания запретов и поощрений». Возникает, скажем, управленческая необходимость наложить запрет на правду об управлении в обход сознания управляемых путём увязывания такой правды с отрицательной эмоцией. В этом случае пускаются в ход бирки «теория заговора» и «поиск врага». Или, наоборот: нужно поощрить равнодушие к вопросам: кто, кем и как управляет? – путём увязывания такого равнодушия с положительной эмоцией. Тут наготове бирочный слоган «политика – грязное дело», выдаваемый за вершину житейской мудрости.
Фантом «свободы»
Особая роль в управлении общественными процессами принадлежит бирке «свобода». Особость её в том, что, используемая практически в любых режимах, она в высшей степени провокативна. С одной стороны, понятие «свобода», отождествляемое с чисто теоретической возможностью неограниченного удовлетворения желаний, очень сильно окрашено положительной эмоцией. А, с другой стороны, любые реально окружающие нас формы организованной сложности – это всегда продукты наложения ограничений на их исходный «строительный материал». В частности, сама «культура» определяется как наложение ограничений на вседозволенность, т. е. как «несвобода». Но поэтому доверять эмоциональному восприятию «свободы» очень опасно: «все знают, что это один из самых общеупотребляемых и вводящих в заблуждение лозунгов» [32]. Именно под эйфорические требования «свободы» были запущены в феврале 1917 г. необратимые процессы, завершившиеся распадом российского государства и гражданской войной. И точно также под троекратное провозглашение Г. Бурбулисом лозунга «свободы» начался в 1991 г. новейший, во всех отношениях спорный, этап истории России.
Поразительное сходство обоих исторических моментов – не натяжка и не случайность. Свобода, не оговорённая, от чего конкретного она освобождает – всего лишь отвлечённое языковое понятие, способное выполнять функцию мощнейшего средства манипулирования общественным сознанием. Потому-то очарованное «биркой свободы» сознание и не способно понять, что везде, где такая «бирка» становится инструментом политико-идеологических игр, обязательно начинают литься реки крови и вымирать народы.
Символом абстрактной свободы, «свободы вообще» служит на все времена выведенный в шекспировской «Буре» пьяный дикарь Калибан, завывающий: «У-у-у, свобода! У-у-у, свобода!». Но апологеты абстрактной «свободы», давно исчерпавшие придуманные ими же «классовый» и «расовый» потенциалы этого ролевого типажа, предпочитают сегодня не вспоминать о нём. Им больше нравится стихотворение молодого А. С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный…»:
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Сергей Викторович Горюнков
Ожидание смены мировоззренческой парадигмы, инициированное в своё время прогнозами В. И. Вернадского, витает над страной уже целое столетие. Но решающее слово здесь никем ещё не сказано; ситуация остаётся «зависшей». А её внутренней напряжённостью задан главный нерв текущей реальности – тот общемировой кризис, который принято объяснять финансово-экономическими, межэтническими, геополитическими и прочими тому подобными причинами, но который на самом деле является мировоззренческим кризисом: кризисом совести, кризисом целей и смыслов человеческого существования, кризисом в понимании предпосылочных основ культуры. Без критического переосмысления этих основ кризис не преодолеть.
С. В. Горюнков
На пороге новой мировоззренческой парадигмы Сборник статей
В рабстве у слов: к проблеме качества гуманитарных экспертиз
Из крайности в крайность
Как известно, в начале ХХ столетия прогрессивная общественность России была настроена крайне отрицательно в отношении капиталистической формы хозяйствования и крайне положительно – в отношении его социалистической формы. А в конце ХХ и начале XXI столетий мы наблюдаем уже диаметрально противоположную картину. Но думать, что смена ориентиров прогрессивной общественности совершилась под влиянием серьёзной аналитической работы или взвешенной проработки пережитого опыта – нет никаких оснований.
Если бы имел место анализ социализма не как мистифицированной «общественно-экономической формации», а как чисто технического принципа социального жизнеустройства, то было бы принято во внимание, что элементы государственного планирования, регулирования, контроля, протекционизма и сильной социальной политики были в ушедшем столетии неотделимы от всего того, что называется «капиталистической формой хозяйствования». Поэтому следствием анализа явился бы вывод, что свой собственный уклад, в котором все перечисленные элементы имелись, нужно не ломать, а бережно совершенствовать.
То же самое – с пережитым опытом: если бы он действительно учитывался, то стало бы ясно, что трудности, испытанные Россией в ХХ веке, не имеют никакого отношения к «социалистической форме хозяйствования». Т. е. было бы принято во внимание, что процессы раскрестьянивания и индустриализации сами по себе не имеют ничего общего с «социализмом» и лишь случайно совпали с ним по времени; что сущностные (идеологические и финансовые) причины выпавших на долю страны разрушительных войн достаточно универсальны для любых эпох; что крайности воинствующего атеизма тоже не определяют специфики «социализма» и что климатические особенности страны в принципе исключают слепое копирование любого чужого опыта, будь-то теоретический марксистский или практический рыночный.
Если бы, повторяю, всё это учитывалось, то мы не метались бы из крайности в крайность, а спокойно занимались улучшением того, что имеем, исходя из соображений одной лишь целесообразности. Но поскольку наблюдается именно метание из крайности в крайность, то приходится думать, что за сменой ориентиров стоит нечто иное, нежели здравый смысл и трезвый расчёт.
Собака Павлова
Что же это такое – нечто иное? А вот что. Представим себе так называемую «собаку Павлова», в мозг которой вживлены два электрода: один – в «центр удовольствия», а другой – в «центр агрессии». От электродов проводки тянутся на испытательный стенд, где с помощью клемм подсоединены к кнопкам управления. Представим, что проводок от электрода в «центре удовольствия» подсоединён к кнопке с биркой «социализм», а проводок от электрода в «центре агрессии» – к кнопке с биркой «капитализм». Нажимается первая кнопка – и собака распускает слюни от удовольствия; нажимается вторая кнопка – и собака заходится в бешеном лае. Это – моделирование ситуации, наблюдавшейся в России в начале ХХ века. Затем клеммы от проводков перебрасываются с одной кнопки на другую – меняются местами, в результате чего операция раздражения «центра удовольствия» проводится уже под кодовым названием «капитализм», а операция раздражения «центра агрессии» – под кодовым названием «социализм». Это – моделирование ситуации, наблюдаемой сегодня.
«Бирки на кнопках» – это довлеющие в массовом сознании понятийные штампы. «Центр удовольствия» и «центр агрессии» – это сферы эмоций массового сознания. Проводки, соединяющие электроды с кнопками – это штат профессиональных манипуляторов массовым сознанием, специалистов по эмоциональной окраске понятийных штампов (журналисты, политологи, идеологи, артисты и пр.). «Оператор», перебрасывающий проводки с одной кнопки на другую – это власть, содержащая штат манипуляторов и направляющая его. А суть власти «оператора» над «собакой Павлова» – это свойство сознания принимать своё эмоциональное отношение к словам за их понимание (свойство, блестяще описанное в рассказе А. П. Чехова «Сильные ощущения»).
Если принять нарисованный здесь образ за отвечающий реальности, то придётся согласиться, что любой взятый наугад обыватель, костерящий сегодня «проклятых коммуняк» – это всегда «собака Павлова». Но придётся согласиться и с тем, что точно такой же «собакой Павлова» является и любой взятый наугад обыватель из противоположного политико-идеологического лагеря, наивно полагающий, что суть минувшей эпохи неотделима от её «бирки на кнопке».
«Бирочная» технология
Лёгкость манипуляций с понятиями «социализм» и «капитализм» объясняется тем, что стоящая за ними реальность намного шире их содержания, не исчерпывается ими. Что и позволяет при желании играть словами, называя ту или иную западноевропейскую страну социалистической («шведский социализм», «швейцарский социализм»), а, скажем, нэповский СССР или ден-сяопиновский Китай – капиталистическими («государственный капитализм»). Но от игры словами рукой подать до их переосмысления, – достаточно с помощью СМИ сообщить каждой бирке нужный «оператору» эмоциональный заряд, который и будет принят за «правильное понимание» смысла бирки. Т. е. всё, действительно, решает искусственно возбуждаемое эмоциональное отношение – положительное или отрицательное – к словам.
Сказанное целиком подтверждается на примере с массовым восприятием слова «фашизм». Сегодня это слово неотделимо от сопровождающей его негативной эмоции. Но в начале XX в. ситуация была совершенно иной. В фашизме тогда видели течение политической мысли, исходившее, по словам И. А. Ильина, «из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может ни утвердить своего существования, ни создать свою культуру» [1]. К тому же данная форма фашизма рассматривалась тогда как политическая реакция на спонсированный Фининтерном («закрытыми структурами наднационального управления», по современному определению А. И. Фурсова) коммунистический проект [2]. И хотя такого же спонсирования не чуждалась и она сама в лице некоторых своих лидеров [3], но, тем не менее, именно её идеология легла в ряде стран Западной Европы (в Италии, Испании, Португалии) в основу политических режимов, ограничивших свободу движения капиталов и ставших поэтому неугодными Фининтерну (концепция «экономического национализма»). Не удивительно, что тем же Фининтерном в Германии была взращена уже совершенно новая, уродливо-расистская разновидность фашизма, с целью компрометации опасного понятия путём его превращения в «бирочное пугало», а также с целью обуздания силами Германии советского эксперимента, вышедшего в 1930-х гг. из-под фининтерновского контроля.
На сознательную компрометацию первоначально-положительного смысла понятия «фашизм» указывает и история главного фашистского символа – свастики. Как известно, этот знак, встречающийся на памятниках древних культур почти всей Евразии, был широко представлен и в русской народной орнаментике (в резьбе, вышивке и др.), и даже в церковном прикладном искусстве [4]. А ко времени его научного изучения в конце XIX в. он уже имел устойчивую репутацию одного из важнейших элементов традиционной культуры, пробуждающего в сознании память о её до-исторических пластах. Именно этим, кстати, объясняется мода на данный символ в семье последних Романовых, да и в других кругах тогдашнего общества. (Отголоски такой моды видны в изображениях свастики на деньгах Временного правительства и даже – в качестве курьёза – на красноармейских нарукавных шевронах 1918–1919 гг., на образцах раннесоветского агитпропа и т. д.). Лишь с момента «приватизации» этого символа предтечами германского фашизма в 1920-х гг. он стал постепенно восприниматься массовым сознанием, не без помощи специальных разъяснений [5], как неотъемлемый атрибут «бирочного пугала».
Ещё одно «бирочное пугало» – понятие «тоталитаризм», восходящее к вполне положительному латинскому значению «полный», «целый». Здесь тоже всё не однозначно. С одной стороны: «сама концепция тоталитаризма, как и сравнение национал-социалистической Германии со сталинской системой, всё чаще принимаются с существенными оговорками. Сейчас стало ясно, что сформулированная в годы холодной войны, она упрощала реальный ход событий и в Германии, и в СССР. В ней не учитывались такие существенные моменты в режимах двух стран, как экстренная модернизация экономики, быстрое и коренное преобразование социальной структуры общества, подготовка новой элиты во всех сферах общественной жизни, массовая политика поддержки правящей партии…» [6]. С другой стороны: сочетания слова «тоталитаризм» с характеристиками «либеральный», «экономический», «глобалистский» – употребляются всё чаще [7]. Это полностью соответствует точке зрения А. Тойнби на тоталитаризм как на чисто европейское явление, «сочетающее в себе западный гений организации и механизации с дьявольской способностью порабощения душ, которой могли бы позавидовать тираны всех времён и народов…» [8]. Да и в самом определении тоталитаризма как политического режима, стремящегося к полному контролю государства над всеми сторонами жизни общества, роль именно государственного контроля – не принципиальна. Надгосударственный (глобалистский) контроль обещает оказаться, и уже оказывается, намного более жёстким.
Диаметрально противоположный «бирочным пугалам» пример – слово «демократия», превращённое сегодня в «бирочную наживку». Под этим словом подразумевается обычно внешне привлекательная идея народовластия, определявшая политическое устройство многих до-государственных и раннегосударственных обществ. А манипуляция сознанием начинается с подмены этого понятия древнегреческой «калькой» с него – «демократией» [9]. Суть подмены в том, что «демократическое» устройство общества в его исторических истоках – это политическое устройство рабовладельческих Афин, где народовластие являлось привилегией немногочисленного слоя свободных граждан – при одновременном их неравноправии по имущественному цензу, а также при численном преобладании «не-граждан» («метеков») и рабов. Таким оно оставалось и в позднейших формах данного типа организации, например, в средневековых североитальянских республиках, с их более совершенной технологией обоснования и упрочения социального неравенства. Именно поэтому ещё сравнительно недавно (по историческим меркам) ни один здравомыслящий человек не питал по поводу демократической формы социальной организации никаких иллюзий. У Пушкина, например, читаем об «отвратительном цинизме», о «жестоких предрассудках» и о «нестерпимом тиранстве» демократии [10]. И о том же – у французского посла в предреволюционной России Мориса Палеолога: «…Демократия… не нарушая своих принципов… может сочетать в себе все виды гнёта политического, религиозного, социального. Но при демократическом строе деспотизм становится неуловимым, так как он распыляется по различным учреждениям; он не воплощается ни в каком одном лице, он вездесущ и в то же время его нет нигде; оттого он, как пар, наполняющий пространство, невидим, но удушлив; он как бы сливается с национальным климатом. Он нас раздражает, от него страдают, на него жалуются, но не на кого обрушиться. Люди обыкновенно привыкают к этому злу и подчиняются. Нельзя же сильно ненавидеть то, чего не видишь» [11] .
Скептицизм в отношении «демократии» вызывает и порождённое ею учение о «приспособленных» и «неприспособленных» расах и народах (см. данные о евгенических программах в «интересах устойчивого развития» [12]). Это, чисто расистское, учение явно роднит «демократию» с присущим немецкому варианту фашизма делением общество на «высшую» и «низшую» расы. Родство не случайное: именно «в английском обществе позднего викторианского периода и особенно в Америке стала общепринятой особенно зверская форма оправдания социального порядка – социал-дарвинизм», вошедший «в культурный багаж западной цивилизации… прежде всего благодаря своей роли в обосновании экономического либерализма…» [13]. А лежащий в глубине социал-дарвинизма расизм стал одним из оснований общей идеологии Запада (его матаидеологии) – евроцентризма» [14].
Политико-идеологические игры с бирками «тоталитаризм», «фашизм» и «демократия» – это игры XX–XXI веков. Похоже, что их назначение – внести некоторое разнообразие в давно всех утомившие, ведущиеся с XIX века, игры с бирками «коммунизм», «социализм» и «капитализм». И не исключено, что близится момент «переброски проводков» с одной кнопки на другую. Во всяком случае, «демократия» уже объявлена не целью, а всего лишь одним из возможных средств достижения цели; целью же являются совсем «другие ценности», – именно так выразился, в частности, Е. Ясин в своём выступлении на «Эхе Москвы» (17.12.2010). А то, что это вовсе не оговорка, подтверждается текстом речи английского премьера Дэвида Кэмерона для Мюнхенской конференции по безопасности ЕС (февраль 2011). «Пришло время, – говорится там, – сменить принцип пассивной толерантности на либерализм в действии, либерализм с мускулами» [15].
Как известно, «демократия» и прежде никогда не стеснялась применять «мускулы», но – действуя при этом вразрез с собственным «бирочным имиджем». Видимо, такая ситуация стала осознаваться как досадная помеха, и нынешнее заявление английского премьер-министра сигнализирует о взятии курса на приведение «бирочного имиджа» в соответствие с «демократическими» целями.
Сценарии спектакля
«Бирки на кнопках» могут быть не только политико-идеологическими и социально-экономическими, но и любыми другими: религиозными, научно-философскими, юридическими, литературно-художественными и др. Единственное предъявляемое к ним требование – они должны иметь свою смысловую антитезу в форме того или иного эмоционально воспринимаемого отвлечённого понятия. Только при наличии такой антитезы сценарий «спектакля для посвящённых» (под кодовым названием «борьба нанайских мальчиков») сможет быть запущен в работу. А от «собак Павлова» (от «рабов слов») требуется лишь «вера в бирки» – вера в стоящую за их эмоциональным восприятием «объективную реальность». Только при наличии такой веры любые сценарии спектакля будут восприниматься как «жизненные».
Всерьёз, например, воспринимается спектакль с бирочными крайностями в оценках той или иной эпохи российской истории. Скажем, русское язычество с точки зрения современных взглядов на его природу может интерпретироваться и в контексте противопоставления «заблуждения» «истине», и в контексте противопоставления «национальных корней» «религиозному чужебесию». Но и в тех, и в других интерпретациях неизбежно игнорируется специфика взаимоотношений язычества и христианства как взаимообусловленных этапов истории культуры: «детского» и «взрослого», до-рефлексивного и вступившего на путь интеллектуальной рефлексии.
Аналогичным образом обстоит дело с восприятием русского православия как «тысячелетнего монолита». Для одних он – залог спасения России, а для других – доказательство тяготеющего над ней проклятия, не пускающего страну в «цивилизованное сообщество». И лишь отдельные узкие специалисты знают, что нет почти ничего общего между домонгольским киевским двоеверием, московским «Третьим Римом» и петербургским синодальным периодом, и что поэтому эпоха русского православия – не спасительный или зловещий «монолит», а захватывающе интересное тысячелетие борьбы и поиска, смятения и страстей, побед и поражений в мистерии народного духа.
Ещё большие крайности наблюдаются в оценках такого загадочного периода истории России, как советская эпоха. Для одних это – «чёрная дыра» русской истории, а для других – её «кульминация». И почти не освоен массовым сознанием взгляд на советскую эпоху как на уникальный опыт исторического выживания народа в условиях непримиримой борьбы двух разнонаправленных социальных проектов [16], известных под названиями «троцкистского» (приносящего Россию в жертву мировой революции) и «сталинского» (строящего социализм в отдельно взятой стране), где выживание народа обеспечивал лишь второй проект [17].
Даже для такого относительно благополучного отрезка советской эпохи, как хрущёвско-брежневский, нет единой бирки: для одних это – последовательность этапов «оттепели» и «застоя», а для других – «развитой социализм». И очевиден дефицит взвешенных оценок послесталинского периода – времени «глубокого, подспудного движения русской духовной жизни, глубоко своеобразной и самобытной русской мысли, несмотря на иго, на гнёт политических доктрин, которыми управлялось марксистское государство» [18]. «Ничтожность деклараций и общественно-политических идей, высказанных скороспелым поколением “шестидесятников”, была осознана, и мысль общества ушла в глубину, в поиски новых путей, к истокам национальной культуры, национального сознания, национального характера. Это сулило большие результаты, но, как видно, напугало» [19].
Ещё бы не напугало, – не будь «перестройки», с кем бы нынешние «операторы» работали по всей «демо/тоталитаристской» программе?
Огромное поле спекуляций вокруг «исторических сценариев» связано с нерешёнными методологическими проблемами внутри самой исторической науки. Достаточно указать на кризисную ситуацию с теорией исторического материализма – «этой некогда модной идеологической доктриной социально-философского толка» [20], никогда не уделявшей должного внимания ментально-языковой («надстроечной») проблематике.
Выходом из кризиса считается сегодня такая альтернатива истмату, как теория самоорганизации. Но анализ предпосылочных оснований обеих теорий показывает, что их противопоставление друг другу – тоже очередной сценарий бирочного спектакля. На самом деле теория самоорганизации оказывается не альтернативой истмату, а попыткой реабилитации его предпосылочных оснований всё теми же, лишь слегка подновлёнными, средствами [21].
«Режимы» сценариев
Рассмотренные выше сценарии представляют собой образцы бирочной технологии в режиме или–или», где, кстати, момент с «переброской проводков» не обязателен. Но возможны и другие режимы, в частности – режим «ложного имени». Здесь не обязателен момент с «антитезой», зато управление эмоциями – более изощрённое.
Вот простейший пример в режиме «ложного имени»: очень трудно вызвать положительную эмоцию в отношении понятий «наёмный убийца», «проститутка», «гомосексуалист», «грабёж». Но если такая практическая задача ставится, то в действие приводится замена негативно воспринимаемых понятий на звучащие более пристойно и даже гламурно: «киллер», «путана», «гей», «рэкет» и т. п.
Ещё простой пример. На последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе (ВЭФ-2009) прозвучало заявление его председателя о том, что «нынешний кризис стал следствием алчности, жадности, безответственности, акульей логики ведущих банкиров, предпринимателей, инвесторов, финансистов и прочих лидеров современного неолиберального капитализма» [22]. А то, что заявление это целиком соответствует действительности, подтвердил американский президент Барак Обама: в марте 2009 г. он обрушился с критикой в адрес крупнейшей страховой компании American International Group и банка Citigroup, которые в условиях углубляющегося кризиса получили многомиллиардную помощь от государства и тут же раздали её значительную часть своим топ-менеджерам в качестве бонусов. И аналогичное подтверждение фактов криминального разгула в мировой финансово-экономической сфере дали многие западноевропейские страны. – Между тем практически все мировые СМИ, все аналитики и эксперты настойчиво продолжают называть разразившийся кризис, вопреки очевидным фактам, «финансово-экономическим», – вместо того, чтобы назвать его тем именем, которого он заслуживает на самом деле: кризисом элементарной порядочности на всех уровнях управления, включая международный уровень.
А вот пример посложнее, с привлечением авторитета экономической науки. Практиковавшееся в начале 90-х гг. кредитование Центральным банком России экономики страны под 210% годовых (при средней мировой норме 5–10%) – это нечто невообразимое, дающее исчерпывающее представление о причине российской экономической катастрофы [23]. Но если бы причина уже тогда была названа её собственным именем – «ростовщической удавкой ФРС» – то экономическая катастрофа, скорее всего, обернулась бы намного более глубоким управленческим кризисом, нежели наблюдаемый сегодня. Для предотвращения нежелательного развития событий и предназначены ложные имена усыпляющего характера: «ставка рефинансирования ЦБ РФ» – вместо «инструкция ФРС для ЦБ РФ», «золотовалютные резервы» – вместо «инструмент внешнего управления российскими финансами» и т. д. [24]. Такие, эмоционально нейтральные, бирочные выражения слух не режут. А их дезориентирующая роль помогает переложить вину за происходящее на «последствия семидесятилетнего коммунистического правления» и на «экономические трудности переходного периода».
Возможны случаи совмещения режимов; их наглядный образец – тема перераспределения национального богатства, воплощённая в принципе «отнять и поделить». Принцип одновременно реализуется в режимах «ложного имени» и «двойного стандарта». Если, скажем, он соблюдается в интересах большинства, то это – нечто глубоко отвратительное и недостойное, т. е. «шариковщина». А если тот же принцип соблюдается в интересах привилегированного меньшинства, то это – «залоговый аукцион» (смысловое «ядро» приватизации 90-х гг.).
Ещё пример совмещения режимов. Ни в одной уважающей себя стране невозможно вызвать отрицательную эмоцию в отношении понятия «протекционизм», означающего защиту государством собственного внутреннего рынка. Но в условиях конкуренции с экономиками чужих, менее самостоятельных в собственных мнениях, стран, запускается компрометирующая бирка «патернализма». Т. е. внутренняя политика таких стран начинает квалифицироваться как «патерналистская» – как экономически вредная и стимулирующая иждивенчество (естественно, компрометация – это лишь подготовка к более действенным санкциям).
Режим «двойного стандарта» универсален и сам по себе. Образцы его осуждения находим даже в памятниках культуры средневековой Руси: «Свидетельство крайнего неразумия, зависти и лукавства – одних хвалить, а других, говоривших то же самое и о том же, укорять» [25]. Если же обратиться к современности, то здесь напрашивается пример с «ксенофобией». Как известно, «здоровое отчуждение от “иных” совершенно необходимо для существования любой человеческой общности и даже личности. Каждый человек имеет своё “личное духовное пространство” и должен защищать его от непрошенных вторжений чужих людей» [26]. Точно также и «этническое самосознание любого народа возникает при делении людей на “мы” и “они”. Здесь всегда есть примесь ксенофобии. Требовать её полной ликвидации – значит запретить народу обладать собственной идентичностью» [27]. Но «проблема в том, что для нынешней российской элиты, которой служат СМИ и большинство интеллектуалов, ксенофобия русских является пороком и преступной наклонностью, а ксенофобия, скажем, англичан заслуживает всяческого уважения. “Мой дом – моя крепость”, – ах, какие мудрые пословицы у этих англичан! Как нам ещё далеко до Европы!» [28].
Аналогично – с «национализмом», который, как известно, легко переквалифицировать и в «патриотизм», и в «нацизм». В духе такой разнонаправленной «переквалификации» и обрабатывается обычно сознание народов многонациональной страны, приговорённой в целях глобального управления к расчленению. В отношении нашей страны результат налицо: все уже «знают», что есть «здоровый, патриотический национализм» прибалтов, кавказцев и др., и есть «русский фашизм».
Эффективен также режим «пустышки», при котором под одну и ту же бирку подвёрстываются, по чисто формальному сходству, принципиально различные явления. Типичный пример – бирка «империя»: её наклеивают и на западноевропейские колониальные и неоколониальные империи, «сделавшие себя из материала колоний» (выражение К. Леви-Стросса), и на Российскую империю, израсходовавшую себя на собственные национальные окраины. (О русской политике предпочтения окраин центру, прямо противоположной европейской практике, см. у М. А. Миропиева [29] и В. В. Розанова [30]; о той же политике в СССР – у А. Панарина [31]). А ведь «имперские амбиции» и «имперский гнёт» – едва ли не главное, что до сих пор ставится исторической России в вину некоторыми входившими в её состав малыми народами.
Оправдания в таких случаях бесполезны; для их нейтрализации бирочная технология предусматривает режимы «эмоционального окрашивания запретов и поощрений». Возникает, скажем, управленческая необходимость наложить запрет на правду об управлении в обход сознания управляемых путём увязывания такой правды с отрицательной эмоцией. В этом случае пускаются в ход бирки «теория заговора» и «поиск врага». Или, наоборот: нужно поощрить равнодушие к вопросам: кто, кем и как управляет? – путём увязывания такого равнодушия с положительной эмоцией. Тут наготове бирочный слоган «политика – грязное дело», выдаваемый за вершину житейской мудрости.
Фантом «свободы»
Особая роль в управлении общественными процессами принадлежит бирке «свобода». Особость её в том, что, используемая практически в любых режимах, она в высшей степени провокативна. С одной стороны, понятие «свобода», отождествляемое с чисто теоретической возможностью неограниченного удовлетворения желаний, очень сильно окрашено положительной эмоцией. А, с другой стороны, любые реально окружающие нас формы организованной сложности – это всегда продукты наложения ограничений на их исходный «строительный материал». В частности, сама «культура» определяется как наложение ограничений на вседозволенность, т. е. как «несвобода». Но поэтому доверять эмоциональному восприятию «свободы» очень опасно: «все знают, что это один из самых общеупотребляемых и вводящих в заблуждение лозунгов» [32]. Именно под эйфорические требования «свободы» были запущены в феврале 1917 г. необратимые процессы, завершившиеся распадом российского государства и гражданской войной. И точно также под троекратное провозглашение Г. Бурбулисом лозунга «свободы» начался в 1991 г. новейший, во всех отношениях спорный, этап истории России.
Поразительное сходство обоих исторических моментов – не натяжка и не случайность. Свобода, не оговорённая, от чего конкретного она освобождает – всего лишь отвлечённое языковое понятие, способное выполнять функцию мощнейшего средства манипулирования общественным сознанием. Потому-то очарованное «биркой свободы» сознание и не способно понять, что везде, где такая «бирка» становится инструментом политико-идеологических игр, обязательно начинают литься реки крови и вымирать народы.
Символом абстрактной свободы, «свободы вообще» служит на все времена выведенный в шекспировской «Буре» пьяный дикарь Калибан, завывающий: «У-у-у, свобода! У-у-у, свобода!». Но апологеты абстрактной «свободы», давно исчерпавшие придуманные ими же «классовый» и «расовый» потенциалы этого ролевого типажа, предпочитают сегодня не вспоминать о нём. Им больше нравится стихотворение молодого А. С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный…»:
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды