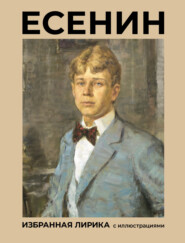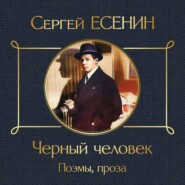По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Яр
Год написания книги
1916
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Отослал… сам возил, прощаться ездил.
– То-то долго-то.
– Да.
– Ну, входи, – сказал Филипп. – Ваньчок приехал, чай пьют, дожидаются.
Ваньчок сидел в углу с примасленными, расчесанными на ряд волосами и жевал пышку.
Когда Карев ступил на порог, он недовольно поглядел на него и, приподняв руками блюдечко, чуть-чуть кивнул головой.
– Принес? – спросила Лимпиада и с затаенной болью, нагнувшись, стала рассматривать рисунки.
На крышке было вырезано заходящее солнце и волны реки.
Незатейливый рисунок очень много говорил Лимпиаде, и, положив солонку на окно, она задумалась.
Карев подвинул стакан к чайнику и налил чаю.
– Ну, ты что ж молчишь? – обратился он к Ваньчку. – Рассказывай что-нибудь.
– Чего рассказывать-то? – протянул Ваньчок. – Все пересказано давно.
– Ну, – засмеялся Карев, – это ты, наверно, не в духе сегодня. Ты бы послухал, как ты под «баночкой» говоришь, ты себя смехом кропишь и других заражаешь.
– Лучше Фильке пойду подсоблю, – сказал он, надевая картуз и затягивая шарф.
Когда Ваньчок вышел, Карев поднял на Лимпиаду глаза.
– Идешь? – спросил глухо он. – Я ухожу послезавтра. Пойдем. Жалеть нечего.
Лимпиада свесила голову и тихо, безжизненно прошептала:
– Иди, я не пойду.
– Прощай. Больше, я думаю, говорить тебе нечего.
Лимпиада загородила ему дорогу и повисла, схватившись за него, на руках.
– Не уходи, милый Костя, ради всего святого, пожалей меня.
– Нет, я не могу оставаться, – сказал Карев и отдернул ее руку.
На пороге показался Филипп.
– Ты что же, совсем уходишь?
– Да, совсем, проститься зайду. Не поминайте лихом, а если сделал чего плохого, то прошу прощенья…
Когда Карев ушел, Лимпиада проводила Филиппа к Ваньчку, а сама побежала на мельницу.
Хата была заперта, и на крыльце на скамейке лежала пустая пороховница.
«Куда же ушел?» – подумала она и повернула обратно. Вечерело. Оступилась в колею и вдруг, задрожав, почувствовала, что под сердцем зашевелился ребенок.
– Ох! – вскрикнула тихо и глухо, побежала к дому, щеки горели, платок соскочил на плечи, но она бежала и ничего не замечала.
В открытых глазах застыл ужас, губы подергивались как бы от боли.
Прибежала и, запыхавшись, села у окна.
«Зачем же я бежала? Господи, откуда эта напасть? Что делать мне… что делать?..»
Думы вспыхивали пламенем и, как разбившаяся на плесе волна, замирали.
«Вытравить, избавиться», – мелькнула мысль. Она поспешно подбежала к печурке.
«Преступница», – шептал какой-то голос и колол, как шилом, в голову.
«Господи, – упала она перед иконой, – научи!»
На брусе – для мора тараканов, в синей бумажке, – в глаза ей бросилась спорынья.
С лихорадочной дрожью наскребла спичек и смешала с спорыньей.
Когда цедила из самовара воду, в ней была какая-то неведомая ей дотоле решимость.
Без страха поднесла к губам запенившуюся влагу и выпила.
Чашка, разбившись, зазвенела осколками, и, свалившись на пол плашмя, Лимпиада забилась, как в судороге.
Волосы, сбившись тонкими прядями, рассыпались по полу и окропились бившей клочьями с губ пеной. Под окном ворковали голуби, и затихший бор шептался о чем-то зловещем.
Лицо ее было как мел, и на нем отражалась лесная зеленая дремь.
Филипп не поехал к Ваньчку, он встретил чухлинского старосту и пошел оглядывать намеднишнюю вырубку.
Щепа пахла ладаном, на голых корнях в вырубях сверкала вода.
– Тут надо бы примерить, – сказал староста. – Сбегай-ка до дому за рулеткой.
Филипп сломил ветку калинника и побег к сторожке.
Чукан, свернувшись в кольцо у ворот, хотел схватить его за ногу.
В голову ударило мертвечиной, на полу в луже крови валялась Лимпиада – и около нее разбитая чашка.
– Отравилась!.. – крикнул, как журавль перед смертью, и побежал к колодцу за холодной водой.
– То-то долго-то.
– Да.
– Ну, входи, – сказал Филипп. – Ваньчок приехал, чай пьют, дожидаются.
Ваньчок сидел в углу с примасленными, расчесанными на ряд волосами и жевал пышку.
Когда Карев ступил на порог, он недовольно поглядел на него и, приподняв руками блюдечко, чуть-чуть кивнул головой.
– Принес? – спросила Лимпиада и с затаенной болью, нагнувшись, стала рассматривать рисунки.
На крышке было вырезано заходящее солнце и волны реки.
Незатейливый рисунок очень много говорил Лимпиаде, и, положив солонку на окно, она задумалась.
Карев подвинул стакан к чайнику и налил чаю.
– Ну, ты что ж молчишь? – обратился он к Ваньчку. – Рассказывай что-нибудь.
– Чего рассказывать-то? – протянул Ваньчок. – Все пересказано давно.
– Ну, – засмеялся Карев, – это ты, наверно, не в духе сегодня. Ты бы послухал, как ты под «баночкой» говоришь, ты себя смехом кропишь и других заражаешь.
– Лучше Фильке пойду подсоблю, – сказал он, надевая картуз и затягивая шарф.
Когда Ваньчок вышел, Карев поднял на Лимпиаду глаза.
– Идешь? – спросил глухо он. – Я ухожу послезавтра. Пойдем. Жалеть нечего.
Лимпиада свесила голову и тихо, безжизненно прошептала:
– Иди, я не пойду.
– Прощай. Больше, я думаю, говорить тебе нечего.
Лимпиада загородила ему дорогу и повисла, схватившись за него, на руках.
– Не уходи, милый Костя, ради всего святого, пожалей меня.
– Нет, я не могу оставаться, – сказал Карев и отдернул ее руку.
На пороге показался Филипп.
– Ты что же, совсем уходишь?
– Да, совсем, проститься зайду. Не поминайте лихом, а если сделал чего плохого, то прошу прощенья…
Когда Карев ушел, Лимпиада проводила Филиппа к Ваньчку, а сама побежала на мельницу.
Хата была заперта, и на крыльце на скамейке лежала пустая пороховница.
«Куда же ушел?» – подумала она и повернула обратно. Вечерело. Оступилась в колею и вдруг, задрожав, почувствовала, что под сердцем зашевелился ребенок.
– Ох! – вскрикнула тихо и глухо, побежала к дому, щеки горели, платок соскочил на плечи, но она бежала и ничего не замечала.
В открытых глазах застыл ужас, губы подергивались как бы от боли.
Прибежала и, запыхавшись, села у окна.
«Зачем же я бежала? Господи, откуда эта напасть? Что делать мне… что делать?..»
Думы вспыхивали пламенем и, как разбившаяся на плесе волна, замирали.
«Вытравить, избавиться», – мелькнула мысль. Она поспешно подбежала к печурке.
«Преступница», – шептал какой-то голос и колол, как шилом, в голову.
«Господи, – упала она перед иконой, – научи!»
На брусе – для мора тараканов, в синей бумажке, – в глаза ей бросилась спорынья.
С лихорадочной дрожью наскребла спичек и смешала с спорыньей.
Когда цедила из самовара воду, в ней была какая-то неведомая ей дотоле решимость.
Без страха поднесла к губам запенившуюся влагу и выпила.
Чашка, разбившись, зазвенела осколками, и, свалившись на пол плашмя, Лимпиада забилась, как в судороге.
Волосы, сбившись тонкими прядями, рассыпались по полу и окропились бившей клочьями с губ пеной. Под окном ворковали голуби, и затихший бор шептался о чем-то зловещем.
Лицо ее было как мел, и на нем отражалась лесная зеленая дремь.
Филипп не поехал к Ваньчку, он встретил чухлинского старосту и пошел оглядывать намеднишнюю вырубку.
Щепа пахла ладаном, на голых корнях в вырубях сверкала вода.
– Тут надо бы примерить, – сказал староста. – Сбегай-ка до дому за рулеткой.
Филипп сломил ветку калинника и побег к сторожке.
Чукан, свернувшись в кольцо у ворот, хотел схватить его за ногу.
В голову ударило мертвечиной, на полу в луже крови валялась Лимпиада – и около нее разбитая чашка.
– Отравилась!.. – крикнул, как журавль перед смертью, и побежал к колодцу за холодной водой.