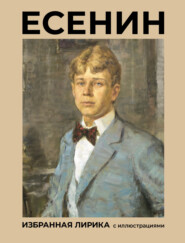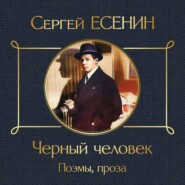По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Стихотворения. Поэмы. Повести. Рассказы
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я пришла за тобой к празднику. Ты разве не знаешь, что сегодня в Раменках престол?
– К кому ж мы пойдем?
– Как к кому?.. Там у меня тетка…
– Хорошо, – согласился он, – только вперед Аксютку накормить надо. Он сегодня ко мне на заре вернулся.
Лимпиада развела костер и, засучив рукава, стала чистить рыбу.
С губастых лещей, как гривенники, сыпалась чешуя и липла на лицо и на волосы. Соль, как песок, обкатывала жирные спины и щипала заусенцы.
– Ну, теперь садись с нами к костру, – шумнул Карев. – Да выбирай зараня большую ложку.
Лимпиада весело хохотнула и указала на Аксютку. Он, то приседая, то вытягиваясь, ловил картузом бабочку.
– Аксютка, – крикнула, встряхивая раскосмаченную косу, – иди, поищу!
Аксютка, запыхавшись, положил ей на колени голову и зажмурил глаза.
Рыба кружилась в кипящем котле и мертво пучила зрачки.
Солнце плескалось в синеве, как в озере, и рассыпало огненные перья.
Карев сидел в углу и смотрел, как девки, звякая бусами, хватались за руки и пели про царевну.
В избу вкатился с расстегнутым воротом рубахи, в грязном фартуке сапожник Царек.
Царька обступили корогодом и стали упрашивать, чтоб сыграл на губах плясовую.
Он вынул из кармана обгрызанный кусок гребешка и, оторвав от численника бумажку, приложил к зубьям.
«Подружки голубушки, – выговаривал, как камышовая дудка, гребешок, – ложитесь спать, а мне, молодешеньке, дружка поджидать».
– Будя, – махнула старуха, – слезу точишь.
Царек вытер рукавом губы и засвистал плясовую. Девки с серебряным смехом расступились и пошли в пляс.
– В расходку! – кричал в новой рубахе Филипп. – Ходи веселей, а то я пойду!
Лимпиада дернула за рукав Карева и вывела плясать.
На нем была белая рубашка, и черные плюшевые штаны широко спускались на лаковые голенища.
С улыбкой щелкнул пальцами и, приседая, с дробью ударял каблуками.
В избу ввалился с тальянкой Ваньчок и, покачиваясь, кинулся в круг.
– Ух, леший тебя принес! – засуетился обидчиво Филипп. – Весь пляс рассыпал.
Ваньчок вытаращил покраснелые глаза и впился в Филиппа.
– Ты не ругайся, – сдавил он мехи, – а то я играть не буду.
– Ты чей же будешь, касатик? – подвинулась к Кареву старуха.
– С мельницы, – ласково обернулся он.
– Это что школу строишь?..
– Самый.
– Надоумь тебя царица небесная. Какое дело-то ты делаешь… Ведь ты нас на воздуси кинаешь – звезды, как картошку, сбирать.
Карев перебил ее и, отмахиваясь руками, стал отказываться:
– Я тут, как кирпич, толку… Деньги-то ведь не мои.
– Зрящее, зрящее, – зашамкала прыгающим подбородком. – Ведь тебе оставил-то он…
Лимпиада стояла и слушала. В ее глазах сверкал умильный огонек.
За окном в матовом отсвете грустили вербы и целовали листьями голубые окна.
Аксютка запер хату и пошел в Раменки.
Ему хотелось напиться пьяным и побуянить. Он любил, когда на него смотрели как на страшного человека.
Однажды покойная Устинья везла с ярмарки спившегося Ваньчка и, поравнявшись с Аксюткой, схватила мужа за голову и ударила о постельник.
– Чтоб тебя где-нибудь уж Аксютка зарезал! – крикнула она и пнула в лицо ногой.
Ребятишки, собираясь по кулижкам, часто грезили о нем; каждый думал – как вырастет, пойдет к нему в шайку.
– Вот меня-то уж он наверняка возьмет в кошевые, – говорил с белыми, как сметана, волосами Микитка, – потому знает, что я крепче всех люблю его.
– А я кашеваром буду, – тянул однотонно Федька, – Ермаком сделаюсь и Сибирь завоюю.
– Сибирь, – передразнивал Микитка. – А мы, пожалуй, вперед тваво возьмем Сибирь-то, уж ты это не говори.
– Ты все сычишься наперед, – обидчиво дернул губами Федька. – Твоя вся родня такая… твой отец, мамка говорит, только губами шлепает. А мы все время на Чухлинке лес воруем. Нам Ваньчок что хошь сделает.
– Поди-ка съешь кулака, – волновался Микитка. – А откуда у нас жерди-то, чьи строги-то на телегах?.. Это вы губами-то шлепаете, мы у вас в овине всю солому покрали, а вы и не знаете… накось…
Аксютка вошел в избу сотского и попросил бабку налить ему воронка.
Бабка в овчинной шубенке вышла в сени и, отвернув кран, нацедила глубокий полоник.
– Где ж Аким-то? – спросил, оглядывая пустую лежанку.
– К кому ж мы пойдем?
– Как к кому?.. Там у меня тетка…
– Хорошо, – согласился он, – только вперед Аксютку накормить надо. Он сегодня ко мне на заре вернулся.
Лимпиада развела костер и, засучив рукава, стала чистить рыбу.
С губастых лещей, как гривенники, сыпалась чешуя и липла на лицо и на волосы. Соль, как песок, обкатывала жирные спины и щипала заусенцы.
– Ну, теперь садись с нами к костру, – шумнул Карев. – Да выбирай зараня большую ложку.
Лимпиада весело хохотнула и указала на Аксютку. Он, то приседая, то вытягиваясь, ловил картузом бабочку.
– Аксютка, – крикнула, встряхивая раскосмаченную косу, – иди, поищу!
Аксютка, запыхавшись, положил ей на колени голову и зажмурил глаза.
Рыба кружилась в кипящем котле и мертво пучила зрачки.
Солнце плескалось в синеве, как в озере, и рассыпало огненные перья.
Карев сидел в углу и смотрел, как девки, звякая бусами, хватались за руки и пели про царевну.
В избу вкатился с расстегнутым воротом рубахи, в грязном фартуке сапожник Царек.
Царька обступили корогодом и стали упрашивать, чтоб сыграл на губах плясовую.
Он вынул из кармана обгрызанный кусок гребешка и, оторвав от численника бумажку, приложил к зубьям.
«Подружки голубушки, – выговаривал, как камышовая дудка, гребешок, – ложитесь спать, а мне, молодешеньке, дружка поджидать».
– Будя, – махнула старуха, – слезу точишь.
Царек вытер рукавом губы и засвистал плясовую. Девки с серебряным смехом расступились и пошли в пляс.
– В расходку! – кричал в новой рубахе Филипп. – Ходи веселей, а то я пойду!
Лимпиада дернула за рукав Карева и вывела плясать.
На нем была белая рубашка, и черные плюшевые штаны широко спускались на лаковые голенища.
С улыбкой щелкнул пальцами и, приседая, с дробью ударял каблуками.
В избу ввалился с тальянкой Ваньчок и, покачиваясь, кинулся в круг.
– Ух, леший тебя принес! – засуетился обидчиво Филипп. – Весь пляс рассыпал.
Ваньчок вытаращил покраснелые глаза и впился в Филиппа.
– Ты не ругайся, – сдавил он мехи, – а то я играть не буду.
– Ты чей же будешь, касатик? – подвинулась к Кареву старуха.
– С мельницы, – ласково обернулся он.
– Это что школу строишь?..
– Самый.
– Надоумь тебя царица небесная. Какое дело-то ты делаешь… Ведь ты нас на воздуси кинаешь – звезды, как картошку, сбирать.
Карев перебил ее и, отмахиваясь руками, стал отказываться:
– Я тут, как кирпич, толку… Деньги-то ведь не мои.
– Зрящее, зрящее, – зашамкала прыгающим подбородком. – Ведь тебе оставил-то он…
Лимпиада стояла и слушала. В ее глазах сверкал умильный огонек.
За окном в матовом отсвете грустили вербы и целовали листьями голубые окна.
Аксютка запер хату и пошел в Раменки.
Ему хотелось напиться пьяным и побуянить. Он любил, когда на него смотрели как на страшного человека.
Однажды покойная Устинья везла с ярмарки спившегося Ваньчка и, поравнявшись с Аксюткой, схватила мужа за голову и ударила о постельник.
– Чтоб тебя где-нибудь уж Аксютка зарезал! – крикнула она и пнула в лицо ногой.
Ребятишки, собираясь по кулижкам, часто грезили о нем; каждый думал – как вырастет, пойдет к нему в шайку.
– Вот меня-то уж он наверняка возьмет в кошевые, – говорил с белыми, как сметана, волосами Микитка, – потому знает, что я крепче всех люблю его.
– А я кашеваром буду, – тянул однотонно Федька, – Ермаком сделаюсь и Сибирь завоюю.
– Сибирь, – передразнивал Микитка. – А мы, пожалуй, вперед тваво возьмем Сибирь-то, уж ты это не говори.
– Ты все сычишься наперед, – обидчиво дернул губами Федька. – Твоя вся родня такая… твой отец, мамка говорит, только губами шлепает. А мы все время на Чухлинке лес воруем. Нам Ваньчок что хошь сделает.
– Поди-ка съешь кулака, – волновался Микитка. – А откуда у нас жерди-то, чьи строги-то на телегах?.. Это вы губами-то шлепаете, мы у вас в овине всю солому покрали, а вы и не знаете… накось…
Аксютка вошел в избу сотского и попросил бабку налить ему воронка.
Бабка в овчинной шубенке вышла в сени и, отвернув кран, нацедила глубокий полоник.
– Где ж Аким-то? – спросил, оглядывая пустую лежанку.