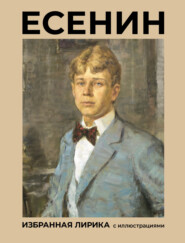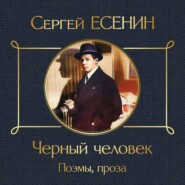По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Яр
Год написания книги
1916
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тогда она запрягала лошадь в таратайку и посылала Филиппа спроведать его.
Филипп чуял, что с сестрой что-то стало неладное, и заботливо исполнял ее приказанья.
Он пришел в лунную майскую ночь. Шмыгнул, как тень, за сосну и притаился.
Карев сидел на крыльце и, слушая соловьев, совал в лыки горбатый качатыг. Он плел кошель и тоненько завастривал тычинки.
В кустах завозилось, он поднял голову и стал вслушиваться.
В прозрачной тишине ему ясно послышались крадущиеся шаги и сдавленное дыханье.
– Кто там? – крикнул он, откидывая кошель.
– Я… – тихо и кратко было ответом.
– Кто ты?
– Я…
– Я не знаю, кто ты, – смеясь, зашевелил он кудрявые волосы. – А если пришел зачем, так подходи ближе.
Кусты зашумели, и тень прыгнула прямо на освещенное луною крыльцо.
– Чего ж ты таишься?
К крыльцу, ссутулясь, подошел приземистый парень. Лицо его было покрыто веснушками, рыжие волосы клоками висели из-под картуза за уши и над глазами.
– Так, – брызнул он сквозь зубы слюну.
Карев глухо и протяжно рассмеялся. Глаза его горели лунным блеском, а под бородой и усами, как приколотый мак, алели губы.
– Ты бел, как мельник, – сказал отрывисто парень. – Я думал, ты ранен и с губ твоих течет кровь… Ты сегодня не ел калину?
Карев качнул головою.
– Я не сбирал ее прошлый год, а сегодня она только зацветает.
– Что ж ты здесь делаешь? – обернулся он, доставая кочатыг и опять протыкая в петлю лыко.
– Дорогу караулю…
Карев грустно посмотрел на его бегающие глазки и покачал головою.
– Зря все это…
Парень лукаво ухмыльнулся и, раскачиваясь, сел на обмазанную лунью ступеньку.
– Как тебя величают-то?..
– Аксютка.
Улыбнулся и почему-то стал вглядываться в его лицо.
– Правда, Аксютка… Когда крестили, назвали Аксеном, а потом почему-то по-бабьему прозвище дали.
– Чай хочешь пить? – поднялся Карев.
– Не отказываюсь… Я так и норовил к тебе ночевать.
– Что ж, у меня места хватит… Уснем на сеновале, так завтра тебя до вечера не разбудишь. Сено-то свежее, вчера самый зеленый побег скосил… она, вешняя отава-то, мягче будет и съедобней… Расставь-ка таганы, – указал он на связанные по верхушке три кола.
Аксютка разложил на кулижке плахи, собрал в кучу щепу и чиркнул спичку. Дым потянулся кверху и издали походил на махающий полотенец.
Карев повесил на выструганный крюк чайник и лег.
– Не воруй, Аксютка, – сказал, загораживаясь ладонью от едкого дыма. – Жисть хорошая штука, я тебе не почему-нибудь говорю, а жалеючи… поймают тебя, изобьют, зачахнешь, опаршивеет все, а не то и совсем укокошат.
Аксютка, облокотясь, тянул из глиняной трубки сизый дым и, отплевываясь, улыбался.
– Ладно тебе жалеть-то, – махнул он рукой. – Либо пан, либо пропал!
Чайник свистел и белой накипью брызгал на угли.
– Ох, – повернулся Аксютка, – хочешь, я расскажу тебе страшный случай со мною.
– Ну-ка…
Он повернулся, всматриваясь в полыхающий костер, и откинул трубку.
– Пошел я по весне с богомолками в лавру Печерскую. Накинул за плечи чоботы с узлом на палочке, помолился на свою церковь и поплелся.
С богомольцами, думаю, лучше промышлять. Где уснет, можно обшарить, а то и отдыхать сядешь, не дреми.
В корогоде с нами старушка шла. Двохлая такая старушонка, всю дорогу перхала.
Прослыхал я, что она деньжонки с собой несет, ну и стал присватываться к ней.
С ней шла годов восемнадцати али меньше того внучка.
Я и так к девке, и этак, – отвиливает чертовка. Долго бился, половину дороги почти, и все зря.
Потихонечку стала она отставать от бабки, стал я ей речи скоромные сыпать, а она все бурдовым платком закрывалась.
Разомлела моя краля. Подставила мне свои сахарные губы, обвила меня косником каштановым, так и прилипла на шею.
Ну, думаю, теперь с бабкой надо проехать похитрей; да чтоб того… незаметно было.
Идем мы, костылями звеним, воркуем, как голубь с голубкой. А все ж я вперед бабки норовлю.