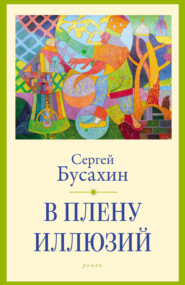По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Прозрачная тень
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После таких слов от самого повара нервы луноликого не выдержали, и, издав жалобный стон, он погрузился в голодный обморок и упал на соседа. Тот под тяжестью истощённого красавца только крякнул и вместе с ним повалился на пол. Матросы негодующе загалдели и в гневе решили надавать оплеух проворовавшемуся второму штурману, но тот, воспользовавшись суматохой в связи с падением изголодавшегося луноликого красавца, умудрился незаметно выскользнуть из кубрика и запереться у себя в каюте. Ещё какое-то время собравшиеся шумели и грозили убежавшему штурману натруженными кулаками, но вскоре, успокоившись, разошлись по своим каютам… Всё осталось по-прежнему. Только луноликому «повезло»: на обед он теперь получал двойную порцию жидких котлет с гарниром, что на время успокоило его и даже иногда можно было видеть на пеленгаторной палубе с гантелями в руках.
Когда после собрания мы с Лёшей обсуждали всё услышанное, и особенно об этой таинственной коробке дрожжей, то пришли к выводу, что, видимо, в ней находились деньги, которые капитан получил за махинации с продуктами для судна. Вероятно, предназначенные для выброса на помойку испорченные продукты по бросовым ценам были проданы нам, а по накладным – числились как продукты высокого качества. Разница в стоимости в виде валюты и находилась в этой пресловутой коробке.
После очередной продовольственной аферы матросы решили составить свой список необходимых им продуктов питания и передали его капитану с условием, чтобы в следующий раз он заказал их через шипчандлера.
– Хорошо жрать захотели?! – прочитав список и придя в бешенство, завопил капитан. – Вот вам! – и показал рукой непристойный жест.
Вскоре из «Центра» пришла радиограмма, в которой сообщалось, что второй помощник капитана понижается в должности – до третьего помощника, а недостачу необходимо покрыть за счёт экономии на продуктах питания. Ликованию капитана не было предела, а обвиняемый – теперь третий штурман – пребывал на седьмом небе от счастья, что так легко отделался, гоголем ходил по судну, всем своим видом демонстрируя, что теперь он честный человек.
Скоро заканчивается рейс. Пришла пора отчёта, и большую часть времени мы проводим в лаборатории, подводя итоги проделанной работы. Я не стал в этом рассказе писать о нашей научной работе на этом судне. Всё это выглядело бы скучно и нудно, день за днём – одно и то же: как мы сутками не спали, выходя к тралам, разбирали улов, затем делали всевозможные анализы пойманных рыб и определяли их видовую принадлежность, после чего фиксировали их в формалине. Надо было бы тогда употреблять всякие научные термины и названия на латинском языке. Тогда бы это больше походило на научно-популярную статью, например, для журнала «Наука и жизнь». Мне же хотелось создать художественный, с налётом романтики и поэзии, рассказ. По существу, по прошествии лет, в памяти остаются только отдельные эпизоды простых человеческих взаимоотношений, да и то далеко не все.
В южном полушарии Земли, где мы сейчас находимся, наступило лето. Жара становится просто невыносимой. Но Лёша в свободное от отчёта время опять начал пропадать на пеленгаторной палубе, «выравнивая загар» своего тела, решив переплюнуть в этом важном мероприятии вечно сонного и мечтающего после возвращения домой стать сутенёром Валька – стажёра-радиста, который весь рейс только этим и занимался, да ещё исступлённо точил нож, сидя на пеленгаторной палубе. Вот и в этот раз, когда Лёша пришёл на очередную тренировку, почти чёрный от загара Валёк, как всегда, сидел на пеленгаторной палубе с точильным камнем и ножом в руках.
– Зачем ты всё время точишь нож? – настороженно поинтересовался любознательный Лёша. – Как ни приду на тренировку, так ты всё с ножом тут сидишь.
Валёк странно посмотрел на спортсмена и ничего ему не ответил, а молча вырвал у себя из головы клок волос и провёл по нему тонко отточенным лезвием, и разрезанные на весу волосы посыпались на металлическую палубу. На всякий случай Лёша не стал больше задавать других вопросов, а отойдя к противоположному от странного стажёра-радиста борту, подставил своё тело под горячие лучи тропического солнца.
Наконец очередной рейс подошёл к концу. Наше судно стоит на рейде в порту Кальяо. Мы получили местную валюту и ждём, когда подойдёт ланч, чтобы отвезти нас на берег. Там мы будем носиться по местным лавочкам и магазинам в поисках самобытных сувениров, потом на переполненном потными телами автобусе поедем в столицу Перу – Лиму, где тоже будем на бегу любоваться местными достопримечательностями и опять покупать сувениры. А через два дня мы окажемся на борту самолёта и полетим на родину, в Россию.
Простой художник
Светов проснулся поздно. Стрелки будильника показывали одиннадцатый час утра. Во рту неприятная сухость, а тут ещё пепельница, до краёв наполненная окурками «Примы», смердела невыносимо. Светов поморщился, закрыл глаза, но спать уже не хотелось. Сумрачный зимний день своим неярким светом освещал заставленную картинами комнату, старый потёртый стол у окна и рядом заляпанный красками мольберт с начатой картиной. Он сердито покосился на неё и отвернулся, уставившись в тусклое запылённое окно на серое небо. «Серый день… Изумрудно-серый день… А почему бы и нет, – подумал он, – написать бы нечто подобное и назвать картину просто – так, как раньше художники называли: “Серый день” – без современных глупых выкрутасов. С ума все посходили. Каждый об индивидуальности толкует, а рисовать-то многие и не умеют или специально не хотят. Какие-то страшные рожи малюют и выдают это за откровения свыше: мол, всё это с небес на них нисходит, и силы неземные их рукой водят; народу только кич подавай, а гениев он никогда не понимал. Не хочу быть гением, хочу быть простым художником и писать картины, понятные людям…»
Вчера он начал новую картину и работал над ней до глубокой ночи. Никакая сила не могла бы сдержать этого мощного порыва творчества. Какой восторг души испытывал он, когда возникало это ни с чем не сравнимое чувство, когда перестаёт существовать всё вокруг – только замысел и холст, который он наполнит содержанием и цветом, создаст то, что до него не существовало. Тайна живописи манила, завораживала, увлекая в фантастический мир иллюзий и открытий. Когда он начинал писать картину, то, глядя со стороны, могло показаться, что делает он это неохотно: движения скованные и неуверенные. Он то подходил к мольберту, то отступал прочь, а то и вовсе садился и замирал, уставившись в одну точку, куря одну сигарету за другой. Так могло продолжаться довольно долго. Но наступала долгожданная минута: он сосредотачивался, глаза загорались творческим огнём, выражение лица становилось отстранённым, и уже ничего не сдерживало его. Работал он самоуглублённо, без отдыха, не чувствуя усталости. Слышалось только его прерывистое дыхание, шарканье кисти по холсту, да видавший виды мольберт поскрипывал, сотрясаясь под неудержимым натиском вдохновлённого художника… Незаметно подступал вечер. Светов, словно сомнамбула, машинально включал свет и продолжал творить, иногда отступая на несколько шагов назад, прищуривал глаза, пытаясь таким образом увидеть общую гармонию картины, чтобы затем, бросившись к ней, несколькими уверенными мазками исправить неточности в цвете или в форме или соскоблить мастихином краску, а то вместо кисти и мастихина начинал орудовать пальцами руки… Писал он, как некоторым могло показаться со стороны, весьма странно и производил впечатление не вполне нормального человека. Никогда вначале не наносил на холст рисунок задуманной композиции, а начинал писать картину красками сразу, используя сначала широкую кисть, заполняя весь холст широкими цветными плоскостями, то есть создавал, так называемый у художников, подмалёвок. Затем брал кисть потоньше и начинал лепить форму густыми мазками. Он считал, что, создавая образ на холсте, нельзя вписывать его в рисунок, – это ограничивает творческий процесс; предварительный рисунок, как наручники, сковывает живописца и часто приводит образ к застылости и ничем не оправданной сухости, в то время как свободный и трепетный мазок оживляет картину, создавая иллюзию движения и живой природы, кроме того, выражает всё существо живописца, его чувства и настроение. Отдаваясь целиком живописи и часто работая без отдыха, весь день, он мог очень быстро написать картину и в следующий сеанс сделать только некоторые поправки. Поэтому, когда у него появлялось вдохновение, одна картина следовала за другой. Однажды один из его знакомых художников, видя, как он создаёт свои произведения, с некоторой досадой в голосе воскликнул: «Тебя, Светов, иногда надо привязывать к стулу на какое-то время и не подпускать к мольберту. Сиди и смотри, что ты там понаделал, а то ты превращаешься в штамповщика картин». Светов только посмеялся, а про себя подумал: «Не хочу я никому объяснять ничего. У каждого – свой темперамент. Да и недоделанные картины я никогда не продаю. Некоторые из них у меня годами на стеллажах находятся, и я их постепенно дописываю. Каждая следующая картина или этюд – это шаг к совершенству, и на полпути я не собираюсь останавливаться».
Рука с кистью застыла в воздухе. Постепенно стали проступать очертания его комнаты и знакомых предметов; появлялся этот привычный мир: шум за окном, надоедливый жёлтый фонарь, подвешенный на проводах, раскачивался и скрипел под ветром; на крышах соседних домов белел снег. Светов отложил палитру и кисти в сторону и, не отрывая взгляда от своего творения, без сил опустился на шаткий табурет. Он смотрел долго, ревниво сравнивая воображаемый образ с этим – вызывающе сверкающим на холсте, каким-то чужим, непривычным. Он чувствовал не только сильную усталость, но и полную внутреннюю опустошённость. Однако в душе уже возникала светлая щемящая радость, знакомая каждому художнику после хорошо сделанной работы. Он смотрел на свою картину, как младенец смотрит на мир, который искрится перед ним множеством граней и не устаёт поражать всё новыми и новыми открытиями. Всё же усталость брала своё, и, погасив свет, он, не раздеваясь, рухнул на диван и, не обратив внимания на выпирающую пружину, погрузился в глубокий сон…
Внимательно разглядев начатое вчера полотно, он недовольно хмыкнул, поднялся с кровати и, шлёпая босыми ногами по прохладному паркету, прошёл на кухню. Открыл кран и, выждав некоторое время, наполнил стакан холодной водой и выпил её не спеша и с наслаждением, после чего проследовал в ванную комнату, принял холодный душ и полностью пробудился от сна. Быстро оделся и прошёл на кухню. Есть не хотелось, он сварил себе кофе и не спеша, поглядывая в окно, выпил его. После чего подошёл к картине и, окинув её критическим взглядом, взял в руки палитру и кисти, на которых ещё не высохла краска, и машинально попытался смешать несколько цветов, но не почувствовал вчерашнего душевного подъёма, словно что-то мешало ему, отгораживало невидимой стеной от картины. Тем не менее он сделал несколько мазков и понял, что они выглядят нелепо и только разрушают задуманный вчера образ. Такое с ним случалось довольно редко. Обычно на следующий день он с не меньшим пылом продолжал работу, намереваясь если и не закончить картину, то, по крайней мере, значительно продвинуть её вперёд. «Оставлю пока так, – с досадой подумал он, – лучше пойду прогуляюсь, глядишь, и полегчает». Надев старое короткое пальто и шапку, он вышел на улицу.
Морозный свежий воздух сразу же привёл его в чувство. От холодного ветра наворачивались слёзы и захватывало дыхание. Он повернулся спиной к ветру, вынул мобильник и набрал знакомый номер. Ленки дома не оказалось. «Сколько лет уже встречаемся, и до сих пор не знаю, когда она бывает дома», – досадовал он на себя. (Ленка работала кассиршей в магазине, по какому-то скользящему графику, и, как правило, она сама ему звонила по телефону, назначая свидание, или приходила прямо в мастерскую.) Он шёл по улице, думая о будущей картине, и в его воображении она выстраивалась чётко и почти завершённой, но Светов прекрасно знал, что это ничего не значит: задуманный образ не всегда удаётся передать на холсте, и, к своей досаде, он не раз с этим сталкивался на практике. Одно время это приводило его в страшное замешательство и разочарование в своих способностях как художника, однако природная страсть к живописи заставляла его снова и снова браться за кисть и воплощать задуманное… Внезапно его обогнала машина и вдруг резко затормозила перед ним. Когда же он проходил мимо, стекло у передней двери опустилось, и человек, сидевший за рулём, наклонившись в его сторону, прокричал:
– Колька! Светов! Ты чего не узнаёшь меня?
Светов вздрогнул от неожиданности и остановился, с недоумением глядя на дорогую иномарку. Таких знакомых, ездивших на дорогих машинах, у него точно не было, однако находившийся в ней мужик не унимался и уже в который раз назвал его по имени. Только он подошёл, как незнакомец выскочил из машины и, не дав ему опомниться, сграбастал его своими ручищами так крепко, что у него сразу же перехватило дыхание и возникло желание немедленно освободиться от столь крепких объятий, но, взглянув снизу вверх на сияющее неподдельной радостью лицо здоровенного парня, он сразу же узнал его.
– Лёшка Корнеев! Вот так встреча! Да отпусти ты меня, громила! Все кости мне переломал!
– Ну наконец-то узнал! Я и сам-то, когда увидел тебя, сначала засомневался: ты или не ты? На всякий случай решил остановиться и позвать тебя, и оказалось – не напрасно! – Лёшка разъял свои могучие объятия и, хлопнув по плечу своего бывшего друга, весело захохотал. – Слушай, Колян, раз мы с тобой так неожиданно встретились, то не мешает отпраздновать это событие. Ты не очень занят сегодня? Или, как всегда, полон грандиозных замыслов? Брось! Надо же и расслабляться иногда!
– Начал вчера новую картину. Сегодня хотел продолжить, да что-то не пошла. Вот и решил прогуляться. Может, что и надумаю.
– Раз так, то у меня идея – поехали ко мне. Я тоже сегодня свободен. Вот и решил просто так покататься по зимней Москве. Красиво! И вдруг встретил тебя. Это не случайно. Во всём Божий промысел. Тем более ты ведь у меня сто лет не был. Молодость вспомним. Мы же в «художке» какими друзьями были! Помнишь?
– Конечно, помню. Молодость всегда прекрасна и незабываема. Вся жизнь впереди… Ладно, поехали!
Светов и Корнеев учились когда-то в художественном училище и были тогда закадычными друзьями. Корнееву все пророчили славное будущее. Ему всё давалось легко, словно он и раньше всё это знал, а сейчас только вспоминал. Однажды он прочитал статью о художнике Егорове, учившемся вместе с великим Карлом Брюлловым, как тот перед изумлёнными товарищами по Академии художеств начал рисовать натурщика с большого пальца на ноге и, не отрывая карандаша от бумаги, дорисовал всю фигуру, идеально выдерживая все пропорции. «А мы что, хуже?» – подумал тогда Лёшка и на глазах у своих товарищей проделал то же самое. Все рты поразевали от восторга и удивления – так ловко у него это получилось. Вот живопись ему давалась труднее, но учителя надеялись, что со временем он и в ней преуспеет. В его карьере большого художника никто не сомневался. Светов же, как говорится, «звёзд с неба не хватал», но в хвосте не плёлся. «Хоть и с претензиями, а всё же середняк и в дальнейшем будет простым, но крепким художником» – так о нём думали в училище. Руководитель их класса Анатолий Семёнович Азимов – замечательный живописец, когда-то учившийся у самого Крымова, так не считал, и ученики видели, что к Светову он относился с большим вниманием, считая, что он пока не нашёл себя, но его жажда к знаниям, упорство и стремление к совершенству не ускользали от старого и опытного педагога. «Ты, Коленька, всё мечешься. Не надо подражать “великим”. Они сделали своё дело, а ты делай своё. Главное, найди себя, своё отношение к окружающему тебя миру. Как чувствуешь, так и передавай натуру… Учти, все известные художники стали известными только потому, что смогли выразить своё видение мира, не подражая предшественникам. Если ты это не поймёшь, то, как бы технично ты ни писал, ты всегда будешь вторым, а не первым… Учтите, друзья мои, – обращался он к притихшим ученикам, – картина живёт по своим законам и то, что вы видите, когда пишете картину на природе, порой не соответствует вашим живописным материалам: нет у вас таких красок в наличии и волшебных кистей, чтобы передать эту Божественную красоту, и превзойти Творца вы не сможете, как бы ни старались. Многие художники прячутся за фразу: “Так было”. Мало ли, что “так было”, картина – это иллюзия реальности, а не “такбылость”. Другое заблуждение, которое я часто вижу у вас, – это полная разнузданность при работе с красками. Многие словно с цепи сорвались – работают как Бог на душу положит, да ещё всю картину мажут чистым цветом, видимо, думая, что они колористы Божьей милостью, а выглядит это как светофор в чистом поле. Возьмём, например, зелёный цвет. Летом он составляет основу любого пейзажа, а ведь, взаимодействуя со средой, он может менять свой тон и цвет, словно хамелеон, превращаться в серый, коричневый, жёлтый и даже в красный – на закате солнца, а вдали он становится синим. Такое изменение цвета касается абсолютно всех красок. Это вы уясните себе только при постоянном и внимательном наблюдении за природой. Кроме того, создавая картину, необходимо убирать из композиции всё лишнее, оставляя только то, что наиболее полно раскроет ваш замысел. Иногда одно дерево в пейзаже скажет больше, чем целый лес…»
Азимов был рад, что Светов учился у него. Он прекрасно видел, как с каждым годом у этого молчаливого и упрямого парня растёт мастерство и какое-то своё видение, не похожее на других. Он верил в своего ученика и, стараясь не подавать вида, гордился им. Он видел, как загорались его глаза, когда тот начинал воплощать задуманное на холсте, как увлечённо и сосредоточенно работал, в отличие от других учеников, которые, часто отвлекаясь, переговаривались между собой или рассеянно водили кистью по холсту, с нетерпением ожидая окончания занятий, чтобы убежать по своим делам – более интересным и увлекательным. Преподавал он давно и научился прекрасно разбираться в своих учениках, многие из которых, как говорится, продолжали семейные династии. Вот и на этот раз, в противоположность мнению других, он был уверен, что из Корнеева вряд ли получится настоящий художник и при малейшем препятствии он может и бросить это неблагодарное ремесло. А вот за Светова он не опасался – этот ни при каких обстоятельствах не откажется от любимой живописи… Пролетели годы учёбы. Оба друга окончили училище с отличными результатами. Какое-то время они ещё встречались, вместе ходили на этюды, спорили до хрипоты об искусстве, но постепенно появлялись другие дела и заботы. Встречались они всё реже, а затем и звонить друг другу перестали. Разошлись их дороги. Забыли и о своей студенческой дружбе, о совместных планах и мечтах…
Корнеев заглушил двигатель, и, когда они вышли из машины, Светов увидел, что остановились они возле красивого многоэтажного здания.
– Ты что же, переехал на другую квартиру? – спросил Светов, с восхищением рассматривая современную постройку – Я здесь никогда не был.
– Отцу дали, несколько лет назад. Ты же знаешь, он был военным лётчиком. До генерал-лейтенанта дослужился.
– Почему был? Ушёл в отставку?
– Ах да, ты же ничего не знаешь. Весной этого года у него внезапно случился обширный инфаркт. Когда скорая приехала – было уже поздно. – Голос приятеля дрогнул, и какое-то время он молчал. – Главное – не болел никогда. Здоровье железное было. До последнего дня на новых самолётах летал. Пришёл с работы, лёг на диван и захрипел… Жизнь-то у него нелёгкая была: война, ранение, потом – испытатель. Сколько у него друзей погибло: и на войне, и на испытаниях, а с ним – ничего, ни одной царапины. Всё шутил, мол, мне Господь сто лет жизни отпустил… Ладно, не будем о грустном.
Алексей открыл массивную тяжёлую парадную дверь. Они вошли. У лифта, в застеклённой будке, сидела консьержка. Лицо её выражало сознание большой ответственности за вверенный ей пост, однако во всей её позе, в глазах, в том, как она гримасничала и кривила губы, чувствовалась некая ущемлённость, словно всем своим видом она пыталась сказать, что когда-то выполняла и более ответственную работу. Сухо поздоровавшись с Алексеем и окинув подозрительным взглядом сутуловатую фигуру Николая, старуха скрипнула стулом и уткнулась в книгу с яркой обложкой современного детектива или любовного романа, которыми сегодня наводнены прилавки книжных магазинов.
Кабина лифта была отделана красным деревом, зеркало от пола до потолка сверкало дорогой рамой, по стенам висели репродукции картин известных художников – и, конечно, никаких самостийных надписей.
– Этот дом и ещё несколько вокруг построены для высшего офицерского состава, – важно произнёс Алексей и нажал кнопку второго этажа. Лифт плавно тронулся и почти тут же остановился.
– Пижон, можно было бы и пешком подняться для разнообразия.
– Зачем же пешком, если лифт есть. – Алексей достал из кармана связку ключей.
– Я так у себя пешком поднимаюсь на шестой этаж. Надо же как-то форму поддерживать, а то иногда по нескольку дней из дома не выходишь: над картиной пыхтишь.
– Ну, ты у нас всегда в героях числился. Потому и в любимчиках у Азимова ходил, – весело проговорил Алексей, открывая бронированную дверь.
В квартире царил уютный полумрак. Через зашторенные окна в комнаты просачивался слабый дневной свет, и от этого квартира казалась таинственной и уединённой.
– Ты проходи, располагайся, – Алексей широким жестом радушного хозяина пригласил Николая в одну из комнат, – там журналы есть. Полистай их пока, а я чего-нибудь на кухне быстренько соображу. Можешь музыку послушать – там у меня отличный музыкальный центр установлен и записи современные. – После этих слов он растворился в тени длинного коридора, ведущего на кухню.
Николай плюхнулся в мягкое кресло у журнального столика, и его словно неведомая сила отбросила назад, и он мгновенно принял полулежачее положение. Поза оказалась для него настолько непривычной, что он тут же, не без некоторых усилий, вернул себя в вертикальное положение, примостившись на краешке этого непредсказуемого кресла. На журнальном столике лежали толстые иностранные журналы – в основном рекламного характера. От нечего делать он стал их листать. С глянцевых страниц на него туманно смотрели полуобнажённые красотки в неестественных и жеманных позах, рекламировавшие различные товары: от купальников до автомобилей. Вскоре это занятие ему надоело. Он встал и принялся осматривать комнату, надеясь увидеть картины своего друга, но, к своему большому удивлению, даже намёка на то, что здесь живёт художник, не обнаруживалось, скорее наоборот – человек очень далёкий от искусства. Вся комната была отделана в стиле хай-тек – ничего лишнего, всё просто, и только громадный плоский телевизор чёрным прямоугольником занимал чуть ли не половину стены, выкрашенной в палевых тонах. Под телевизором на полу длинная тумбочка с музыкальным центром и простой вазочкой с голыми искривлёнными сухими ветками. У стен стояли стулья упрощённой формы, обтянутые светло-серой материей, и ещё одно красное кресло у окна. Посреди комнаты расположился круглый стол из серебристого металла, а над ним – сделанная из того же металла – дискообразная люстра, напоминающая своим видом летающую тарелку. Вот и весь интерьер. «Может быть, картины находятся в двух других комнатах, и Лёха не хочет, чтобы другие видели их. Спрошу его, когда придёт», – решил про себя Светов. Всё это казалось ему странным и даже чуждым, словно он жил в другом мире. Он постоянно размышлял о живописи, о её значении в жизни людей; для чего человек рождается на земле; почему кто-то стремится к роскоши и комфорту, а кто-то к этому равнодушен и довольствуется малым; почему один за короткую жизнь успевает создать для людей много полезного и прекрасного, а кто-то за долгую жизнь ничего не оставляет после себя… Правда, последние годы он всё меньше думал об этом: до истины всё равно не докопаться. Просто надо жить и хорошо делать своё дело. Главное, найти своё место в жизни, дело по душе, тогда всё остальное отойдёт на второй план и станешь счастливым человеком. Когда он высказывал эту немудрёную философию своим друзьям, те поднимали его на смех, считая все его рассуждения наивными и детскими. Он на них не обижался, а только всё больше уходил в свой иллюзорный мир, отдавая живописи всё своё время. С каждым годом, теряя друзей, он избавлялся от мечтаний, свойственных юности, от «замков на песке», и на смену этому приходило счастье упорного труда и следовавших за этим успехов… Светов постоял у окна, глядя на заснеженный двор и на работу обессилевшего дворника, после чего лёг в откидное кресло и, продолжая размышлять, уставился в хайтековский потолок…
– Привет! – внезапно раздался женский голос.
Светов вздрогнул от неожиданности и сквозь туман своих размышлений увидел стройные ноги в кроссовках и, не понимая, откуда они здесь появились, перевёл яснеющий взгляд вверх и увидел девушку, задорно и весело смотревшую на него.
– Ты словно из глянцевого журнала выскочила, или мне это только кажется, – брякнул он первое, что пришло на ум, кивнув при этом на журнальный столик.
– Что, теперь так принято знакомиться? – не теряя весёлости, спросила обладательница стройных ног и, усевшись на ковёр против Светова, принялась пристально разглядывать его.
– Я вообще предпочитаю не знакомиться, – буркнул Николай, раздражённый бесцеремонностью внезапно появившейся «дамочки».
– Какие мы сердитые. Вы, наверное, издалёка приехали? – подражая деревенскому выговору, насмешливо глядя на него, спросила та.
– Издалёка, отседова не видать, – продолжил игру Николай, – из дярёвни Лапотки, возля северной реки – там у нас одни соседи: зайцы, волки и медведи!
– Ух как интересно! Вы, наверное, тамошний поэт, а ещё что-нибудь почитайте из тамошнего.
– Вам, городским, это ни к чему. У вас другая культура. Вот она, – кивнул он на кипу глянцевых журналов, – вот чему вы поклоняетесь – это ваш бог.
– Надо же, какой вы прозорливый! И что же вам ещё известно о нашей городской жизни? Расскажите нам, грешникам, может быть, тогда мы и пойдём за вами по праведному пути. – С этими словами она отклонилась немного назад, обнажив бёдра.