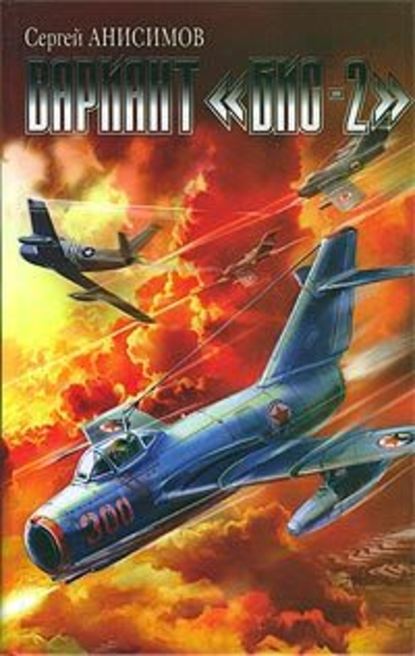По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Год мертвой змеи
Серия
Год написания книги
2006
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Генерал Разуваев совершенно не лукавил, когда заявил, что у небольшой, мобильной и скрытной группы гораздо больше шансов на успех, чем у укомплектованного полка Корейской Народной Армии, атакующего в полный рост и с полной самоотверженностью, как это умеют делать корейские коммунисты. Вряд ли старший лейтенант и даже инженер—старший лейтенант имели хорошее военное образование – не лейтенантское это дело. Но вот ему, как генералу, в голову пришел отлично подошедший пример, пусть и из морской истории.
Воздушную составляющую битвы за Лейте в октябре 1944 года японцы, как известно, проиграли было вчистую, понеся чудовищные потери, но так и не добившись почти ничего серьезного. Единственным исключением стал легкий авианосец «Принстон», легко и уверенно потопленный одиночным пикировщиком японцев. Как говорят, он просто затесался в мешанину пронизывающих облака в разных направлениях групп американских самолетов и точно вложил единственную 250-килограммовую бомбу в забитую заправленными самолетами полетную палубу авианосца. Еще говорят, что пилотировал тот пикировщик генерал-майор – но не будучи ни летчиком, ни моряком, генерал Разуваев не был уверен, правда это или нет. В любом случае, когда через полчаса на пылающем «Принстоне» взорвались погреба, силой взрыва перебило почти половину экипажа еще и на пытавшемся тушить его пожары легком крейсере[76 - При взрыве кормового бомбового погреба авианосца на подошедшем к его борту для буксировки и оказания помощи в борьбе с пожарами американском легком крейсере «Бирмингем» погибло 233 человека и еще более 400 ранено.]. Так что – да, хорошо подготовленным и способным действовать хладнокровно одиночкам иногда везет по-крупному, и даже там, где ничего не добились сотни полных энтузиазма новобранцев.
– Я еще раз напоминаю, вы можете рассчитывать на любые силы и средства, находящиеся в моем распоряжении. Как и на то, что я способен достаточно заметно повлиять на принятие решения командиром 64-го истребительного авиакорпуса и на командующего КНА генерала Джу Янг Кана. Если понадобится, я пойду и выше – но только в том случае, если вы представите мне нормальный, логичный план действий, требующий чего-то выполнимого. А не то, что вы...
Он не договорил, не видя в этом нужды. Распрощавшимся с ним по-уставному разведчикам все было ясно и так: наверняка они не были дураками, на такой-то службе. И скорее всего, как окончательно решил для себя генерал, дело было действительно сложнее, чем они сочли нужным ему сообщить. Получалось, что не зная полной картины, он не имел возможности принять точное решение и этим, возможно, обрекал разведчиков на провал, но другого выбора, кроме как отменить их бредовый план, он не видел. Нетрудно догадаться, что, не получив требуемого результата, Москва и лично товарищ Сталин вполне закономерно обвинят его в саботаже. Подписанная Председателем Совета министров СССР бумага «Оказывать всяческое содействие» будет его смертным приговором. Но и здесь ничего не поделаешь тоже. Совсем. Изменять решение было нельзя – по крайней мере, пока не откроются новые обстоятельства, диктующие новые же варианты действий. В конце концов, не стали бы же в Москве закручивать такую гигантскую по охвату операцию ради одного вражеского офицера, даже имя которого неизвестно никому, включая и того пленного стрелка-американца.
Значит – и это тоже было логично, – в качестве объекта захвата этот химик просто подвернулся им под руку, как и было рассказано. Но на капитане свет клином не сошелся, будет и другой капитан, майор, первый лейтенант, в попытках вытащить которого какой-нибудь заслуженный десантно-диверсионный отряд КНА, с порядковым номером, подбирающимся к девятистам, потеряет половину бойцов. Опять потеряет и опять пополнится худенькими семнадцати-восемнадцатилетними пацанами, вроде тех, которые десять-одиннадцать лет назад своими жизнями удержали немецкие танки в российских и украинских степях, не пропустив их к горам Кавказа, к великим русским городам, дав следующему поколению солдат возможность повернуть войну вспять и гнать ее на запад, где еще так многим из них отвела черту жестокая фронтовая судьба. И эти бойцы тоже за считанные недели станут ветеранами – те из них, кто уцелеет. Уж в этом отношении ничего нового война в Корее не открыла...
После ухода разведчиков генерал-лейтенант снова остался в одиночестве в кабинете, единственной особенностью которого, по местным понятиям, были сразу два портрета на стенах: и Ленина, и Сталина. У генералов-корейцев, в рабочих кабинетах которых Разуваеву приходилось бывать, обычно висел только один – Ленина. У китайцев иногда еще и председателя Мао, но реже. Вздохнув, он подошел к письменному столу, начав перекладывать бумаги обратно лицевой стороной вверх. Интересно, куда лейтенанты направились? Очень может быть, что именно к генерал-лейтенанту Котову-Легонькову, главному советском военному советнику при штабе КНД, а до этого, много лет назад, начальнику оперативного управления 2-го Белорусского фронта у маршала Рокоссовского. До него лейтенанты будут добираться сутки, и скорее всего, он скажет им то же самое, что они услышали здесь, в его кабинете.
Котова генерал Разуваев ценил чрезвычайно высоко, ставя его по чисто военному оперативному таланту значительно выше себя. Решение Сталина заменить генерал-лейтенантом Котовым-Легоньковым предыдущего главвоенсоветника при КНД, генерал-полковника авиации Красовского, бывшего одновременно и командующим оперативной группой советских ВВС в КНР, он принял не только безоговорочно, как положено принимать приказы Вождя, но и с удовлетворением. Котов – человек умнейший и смелый и не станет рисковать своими драгоценными резервами ради какой-то дурновато попахивающей истории.
Очень уж все это вместе взятое походит на какую-то сложную провокацию или политическую игру. На такие Иосиф Виссарионович большой мастер, но от них все равно всегда лучше держаться в стороне, даже рискуя вызвать неудовольствие своей пассивностью. Да, дескать, такой я тупой солдафон – пришли ко мне, генерал-лейтенанту, два старших лейтенанта со злыми плавными движениями и глазами опытных убийц и начали требовать, чтобы я заставил корейских товарищей вести наступление в никуда, в пустоту, растрачивая при этом не только силы, технику, боеприпасы и топливо, но и то доверие, ту веру в «северных братьев», в советских людей, в их опыт и правдивость, которую корейцы испытывают. А это гораздо важнее, чем один пленный, будь он химик-огнеметчик или химик-пиротехник. Ну чем они могли доказать, что он действительно важен? Ничем, товарищ Сталин. А я в общевойсковых частях всю жизнь, от командира взвода до командира подвижной группы и советника при Чосон Ин-Мин Куй, – всей Корейской Народной Армии, товарищ Сталин. Я лучше старших лейтенантов знаю, как надо вести наступление!
Высказав себе все это, генерал Разуваев несколько успокоился. «Провокация». Что-то такое правильное было в этом слове. Или не совсем правильное, но близкое по смыслу. Над этим стоит подумать. Такая война, которая ведется на Корейском полуострове сейчас, после того, как линия фронта несколько раз перепрыгнула через 38-ю параллель: на юг, на север, и опять на юг, и снова на север, – такая война не выгодна никому. Корейцам обеих Корей: и Южной, и народно-демократической, – потому, что они гибнут на ней. Советскому Союзу – тоже нет, потому что большинство русских, советских людей искренне, всей душой ненавидят войну – очень уж тяжело и страшно она им каждый раз обходится. Советские люди воюют в Корее, потому что это их долг, потому что это нужно их стране.
Следует признать, что и военнослужащие из «войск ООН», какой бы на самом деле ширмой ни являлось это название, тоже воюют за то, что они понимают под долгом. Итальянские и скандинавские врачи, в том числе и из нейтральной Швеции, и из дружественной Советскому Союзу Норвегии, колумбийские моряки и эфиопские гвардейские стрелки – все они находятся на неправильной стороне фронта не потому, что все без исключения есть выродки и беспринципные наемники мирового капитала, а потому, что они неправильно понимают, ради чего ведется эта война.
То, что война может быть выгодна Соединенным Штатам в качестве прикрытия для многократного наращивания военной, в том числе и военно-морской мощи, это одна сторона медали. Другая – это то, насколько корейская бойня неожиданно оказалась выгодна Японии. Сожженной до руин, потерявшей в процентном отношении почти столько же людей, сколько советская Белоруссия, сдавшейся только после урановой и плутониевой бомб, взорванных над ее городами. Ненавидимой по всему миру и до зубной боли, до кровавой пелены в глазах – почти во всех странах, которым не повезло быть ее соседями в пик расцвета японской мощи в конце 1930-х – начале 1940-х годов. В Сингапуре, Малайе, на Формозе[77 - Устаревшее название острова Тайвань, официальное используемое в Советском Союзе до 1949 года.], в Корее северной и Корее южной – всюду, где «отметились» японская армия и флот, правительства и народы с ненавистью и негодованием наблюдают то, как Япония богатеет на этой войне.
Машинально подойдя к окну и равнодушно разглядывая узор изморози на стекле, генерал Разуваев с некоторым неудовольствием подумал о том, что последняя фраза получилась у него очень уж «правильной», газетной, что ли. Но в то же время она была совершенно точной. Согласно мирному договору 1951 года, Япония восстанавливалась в правах суверенного государства, с исключениями для территорий островов Окинава и Рюкю. Но еще к 1949 году общее количество служащих ее «полицейских сил» превысило 200 тысяч человек. А в июле 1950-го, через две недели после начала войны в Корее, «ниспосланного Богом счастья», по выражению одного дальновидного японского политика, но прямому требованию и при прямом содействии США началось прямое и стремительное возрождение японской военной мощи – организуемой, оснащаемой, управляемой американцами. К 1953 году то, что послевоенная конституция Японии декларировала отсутствие вооруженных сил[78 - Это действительно так. Созданные в 1954 году яионекие вооруженные силы, являющиеся одними из сильнейших в регионе, до сих пор официально именуются Джиетай-Кинкен-би, Силами самообороны; военно-морской флот и военно-воздушные силы, – Морские и Воздушные Силы самообороны, соответственно.], было почти официально объявлено «ошибкой», но одно это не было бы так опасно.
Валовой национальный продукт Японии увеличился на 50 процентов за одно лишь второе полугодие 1950 года, то есть за первые полгода с начала этой войны. К 1952 году в Японии был достигнут довоенный уровень жизни – и это при том, что немалая часть населения Советского Союза и европейских стран до сих пор живет в бараках, сколоченных из обломков разбитых бомбами досок. Насколько было известно, к этому времени тот же валовой национальный продукт составил в Японии 200 % от уровня 1949 года – показатель, о котором оставалось только мечтать советской промышленности, при всех ее достижениях и трудовых победах вернувшихся домой с войны, уцелевших в ней мужчин.
За последние годы – за считанные годы – Япония из государства, низведенного до уровня африканских колоний, вновь возвысилась в промышленную державу с растущей как на дрожжах индустриальной мощью, с верфями, закладывающими один сухогруз и танкер за другим, с экономикой, ежегодно накачиваемой сотнями миллионов идущих на военные заказы долларов. Кому такое может нравиться – кроме, понятно, японцев?
Две сильнейшие политические партии Японии, либеральная и демократическая, поддерживают войну в Корее с энтузиазмом, сделавшим бы честь футбольным болельщикам – да и самой «Партии свободы», то есть либеральной партии Ли Сын Мана тоже. Но на самом деле такой невиданный рост японского экономического и военного потенциала, пусть и необходимый как вынужденная мера, не может нравиться даже самим американцам, которые организовали совершенно новые финансовые модели межгосударственных отношений, – лишь бы еще больше ускорить этот процесс, лишь бы обойти собственную военную бюрократию. За годы этой войны работающие на войну японские компании получили миллиарды полновесных долларов, – это и позволило снова набухнуть, как вулканическим прыщам, таким именам, как «Мицуи», «Мицубиси», «Сумимото». С военной точки зрения все это имело самый прямой смысл: произведенные в Японии боеприпасы доставляются на театр военных действий морем, на японских же судах, при том, что спускаемый на воду японскими судоверфями тоннаж уже уверенно перевалил за 20 процентов от общемирового. Но каждый полученный ими доллар – это доллар, переложенный из карманов собственно американских военно-индустриальных и финансовых магнатов и корпораций: Дюпона, Мартина, Локхида – всех, чьи имена склоняют в советских газетах как вполне употребимые в печати синонимы гнусных ругательств. Недовольство «неправильной» войной растет даже в самих США, и постоянно растущий список убитых и искалеченных на другой половине Земли американских военнослужащих почти не имеет к этому отношения. «Такая» война не нужна и им тоже – и именно в эту точку нужно бить всеми методами: разведкой, политикой, дипломатией.
Понимает ли это Сталин? На этот вопрос генерал Разуваев мог ответить совершенно определенно: Сталин понимает это не хуже, а скорее всего и значительно лучше, чем он сам – дипломат по должности, уже два с половиной года занимающий пост посла СССР в КНДР, научившийся разбираться в хитросплетении политических нитей, но все равно еще оценивающий большую часть известных ему деталей с точки зрения военного.
Делает ли Москва что-нибудь, чтобы данный фактор наконец-то стал настолько значимым, чтобы в совокупности со всем остальным перевести переговоры между воюющими сторонами из простого обмена угрозами и ультиматумами в плоскость хоть какого-нибудь компромисса? Да, почти наверняка. Но вот в том, является ли появление в Корее спецразведгруппы признаком того, что политику и войну в Кремле начали смешивать в нужной пропорции, он все же не был уверен. В конце концов, даже то, что инженер-лейтенант с русской фамилией Петров был азиатом, не значило ничего. Таких он видал и раньше – забывших свое настоящее имя беспризорников, приемышей, детей, потерявших родителей в революцию, в Гражданскую войну, в голод 1920-х и начала 1930-х годов. Из таких, кстати, действительно получаются отличные разведчики – и войсковые, и нелегалы. Они обязаны стране всем и готовы ради нее на все, как мамелюки старой Оттоманской империи. Они умеют выживать и принимать любые правила, не ломаясь при этом, не теряя способности оставаться бойцами. Его адъютант, кстати говоря, тоже как раз из таких.
– Сергей! – проорал генерал, подойдя к двери и толкнув ее ногой. Капитан появился через секунду, за ним из угла приемной тенью поднялись двое сержантов с автоматами на коленях: судя по всему, капитан пока не расценил уровень опасности как вернувшийся к норме.
– Сергей, – позвал генерал уже нормальным голосом. – Зайди.
Когда дверь закрылась, они встретились глазами.
– Тоскуешь? – поинтересовался Разуваев.
Адъютант ничего не ответил, только вздохнул – едва заметно. Не знай генерал, что он так сделает, – и не увидел бы.
– А напрасно. Судя по всему, становится веселее. Главное – это чтобы не слишком весело. Машина ждет?
– Так точно, товарищ генерал-лейтенант, ждет.
Машина, много лет назад привезенная из Союза на железнодорожной платформе, до улыбки знакомая еще с фронтовых лет «M1», ждала приказов посла и главвоенсоветника не просто с утра до вечера, а круглые сутки. Случалось, что эти самые круглые сутки генерал-лейтенанту приходилось проводить на ее заднем сиденье, мотаясь между разделенными сотней километров разбитых грунтовых дорог штабами. Шофер и адъютант снова и снова менялись местами, фары «эмки», до половины заклеенные сверху черной бумагой от оберток фотопластинок, выхватывали из темноты очередной шлагбаум с замерзшим часовым в куцем ватничке – а потом шли очередные часы работы с командирами корейских подразделений: генералами, старшими полковниками, полковниками...
Сейчас, когда в Пхеньяне начинали происходить интересные события и когда в любую минуту делу могло понадобиться, чтобы он к ним подключился, генерал Разуваев не собирался уезжать далеко от посольского квартала. Но нужный ему человек находился недалеко, полтора или два часа езды в одну сторону, и на это можно было пойти – для того же дела.
– Едем в Намьянг, – приказал он капитану. – Сколько сейчас, семь? К полуночи вернемся. Обеспечь связь, предупреди пункт назначения, обеспечь охрану по полной форме. Все, как обычно, в общем, только быстрее.
Проведя всегда выделяемый на подготовку охраны десяток минут в разговоре со штабом 32-й ИАД по спецсвязи, генерал-лейтенант открыл собственный сейф, стоящий в углу кабинета на коротких, оформленных под лапы грифонов ножках. Сейф был еще девятнадцатого века, большой, английский, оставшийся от какой-то респектабельной торговой компании, размещавшейся в этом здании до японской оккупации. Бережливые японцы утилизировали полезный предмет, и когда их армия капитулировала, он почти напрямую достался первому советскому военному коменданту Пхеньяна, а после образования в 1948 году КНДР – и послу.
Заперев часть бумаг в сейф, генерал вынул с нижней полки маленький немецкий «Вальтер» и запасную обойму к нему, небрежно рассовав все по карманам. Забрав со стола оставшиеся бумаги и сунув (просто чтобы не слишком бросалась в глаза) коробочку из-под незапотевающих противогазных пленок под крышку изображающего китайскую пагоду бронзового чернильного прибора, известного тем, что им пользовались при принятии японской капитуляции, он покинул кабинет. Проследив, чтобы вернувшийся со двора капитан обошелся с бумагами так, как они того заслуживают, Разуваев кивнул стоящему «руки по швам» дежурному и вышел на улицу.
«Эмка» стояла у подъезда – если так можно было назвать главный выход из мелковатого для такого количества посольских и военных служб здания. Пространство до самой ограды было обсажено прозрачными сейчас кустами, на которых летом изобильно росли бесполезные в питании, но хорошо помогающие от жажды сизовато-красные ягоды. Прямо перед выездом с территории посольства, уткнувшись тупорылой мордой в закрытые ворота, стоял мощный крытый «ЗИС» с полувзводом «внешней» охраны. Двигатель его уже работал, выбрасывая в наступившие сумерки медленно расплывающиеся клубы пара и копоти. Еще один, меньшей грузоподъемности, автомобиль стоял вплотную за его машиной, – в нем, помимо нескольких охранников, главвоенсоветника сопровождали переводчики. За воротами стояла машина с корейскими военными, один из которых махал то ли капитану, то ли самому генералу рукой: «Мы готовы, можно ехать».
Всего охраны у генерал-лейтенанта было столько, что этого должно было хватить на нормальную диверсионную группу, даже дав ей право первого выстрела. Разумеется, это ничуть не гарантировало того, что на полдороге между Пхеньяном и Намьянгом ему не прошибет голову вовремя выпущенная умелым стрелком пуля. Выехав за ограду неприкосновенной территории советского посольства, генерал в качестве советника при вооруженных силах находящегося в состоянии войны государства автоматически превращался в совершенно легитимную цель, а редчайший в КНДР легковой автомобиль с несколькими машинами сопровождения спереди и сзади делал его просто лакомой мишенью для любого достаточно смелого врага, добравшегося из-за линии фронта до той дороги, по которой он сию минуту проезжает. На этой войне в генерала уже стреляли несколько раз – и каждый раз мимо. Но лишь попавший в цель выстрел считается снайперским, поэтому возможно, что все у него было еще впереди.
Хотя... Пули на этой войне он опасался все же несколько меньше, чем опалы по возвращении домой. Раскачиваясь в теплом нутре комфортной «полковничьей» машины, глядя на бритый затылок немолодого опытного водителя, генерал-лейтенант Разуваев размышлял «о вечном» – о том, сколько знакомых ему генералов и офицеров, вытащивших на себе чудовищную войну, были смещены со своих постов вскоре после Победы. И не по сокращениям армии, последовавшим сначала в середине 1945-го, а потом еще раз – в середине 1946-го, когда большинству имеющих значение для мировой политики стран вполне хватало собственных проблем и бед, чтобы серьезно угрожать началом новой войны, а... Да по необъяснимым в общем-то причинам. Жуков в армии, Кузнецов и Галлер на флоте, Новиков и Шахурин в авиации, несколько других известных фамилий. Большинство из них, кроме разве что вице-адмирала Галлера, были живы, некоторые были на свободе, а другие даже занимали какие-то посты, но все это навевало нехорошие мысли. В последний год Вождь как будто снова начал «чистить» партийный и военный аппараты – и пусть значительно мягче, чем раньше, но все равно риск попасть под его непредсказуемый удар всегда был слишком реальным, чтобы о нем забывать.
На XIX съезде партии, материалы которого миллионы советских людей читали с замиранием сердца, под критику Сталина попали Молотов и Микоян – вернейшие, надежнейшие люди, каждый из которых сделал для страны больше, чем десяток таких генералов, как он, вместе взятых. Делавших только то, что требовала от них страна, и никогда не подводивших ни ее, ни самого товарища Сталина. Не то что он, в ходе операции по освобождению Крыма упустивший свой шанс встать вровень если не с Жуковым и Баграмяном, то хотя бы с Батовым и Поповым, и рискующий потерпеть поражение и сейчас. Собственно, уже потерпевший – учитывая, что назначение он получил в ноябре 1950-го, в самый канун наступлений армий КНА и КНД на Пхеньян и Хамхын, когда после их удара, почти советского по мощи, размаху и темпу, судьба войны казалась почти решенной. Но потом все повернулось вспять...
Фронтовые дороги не меняются – они всегда одинаковы, где бы они ни пролегали. Дорога от Пхеньяна до Намьянга не была исключением – такая же разбитая техникой, такая же ей забитая. Особенно сейчас, когда стемнело уже окончательно и можно было не опасаться никого, кроме вражеских «ночников». Но это была уже почти мелочь, не стоящая особого беспокойства: на Мяогоу базировался советский 258-й ночной истребительный авиаполк, на Аньшань, Аньдун и пару других аэродромов – несколько отдельных ночных истребительных эскадрилий, как советских, так и союзиичьих. Ночные налеты американских бомбардировщиков, включая «Сверхкрепости», не прекращались, но основной их целью были серьезные объекты, вроде плотин, железнодорожных мостов и крупных заводов, над которыми их с переменным успехом и отлавливали «Лавочкины» и «МиГи». Все это вместе взятое давало достаточно хорошие шансы на то, что их участок тянущейся на юг, разбитой на звенья колонны разномастных автомобилей американцы проигнорируют.
Так оно и случилось: какой-то час с четвертью езды – и вокруг замелькали остовы обгоревших полуразрушенных и разрушенных до основания домов, отмечающих начало нового населенного пункта. Проехав бывший город насквозь, грузовики охраны и втиснутая между ними «эмка» свернули на одну из пересекавших накатанный путь дорог, и трясти начало еще сильнее.
– Стой! – вдруг заорал адъютант генерала, сильно наклонившись вперед. Вцепившийся в рулевое колесо взмокший от пота старшина-шофер тут же уперся ногой в педаль тормоза. Передний грузовик застыл, наполовину развернувшись поперек узкой дороги. Их мотнуло, и автомобиль окончательно остановился, не дотянувшись бампером до кормы грузовика примерно на метр.
Вжав голову в плечи и терзанув истертые шестерни коробки передач, шофер тут же дал задний ход – не быстро, чтобы не въехать в так же пятящиеся машины сзади. Спереди из крытого кузова уже выпрыгивали бойцы с оружием в руках, часть из них мгновенно исчезла в темноте справа и слева от дороги, остальные в неподвижности остановились в луче идущего откуда-то спереди света. Собственные фары их машины шофер погасил почти немедленно, точно так же поступили грузовики позади. Генералу захотелось властно, как он привык делать, приказать капитану выйти и разобраться, по он смолчал – и старшина, и капитан знают свое дело отлично, и мешать им не стоит.
Кроме того, все действия охраны пока были совершенно правильными, – у него возникло ощущение, что все эти слитные, синхронные „манипуляции были отработаны или, по крайней мере, заранее обговорены. Столкнувшись с чем-то, не видимым ему, грузовик закрыл машину главвоенсоветника своей тушей, основная часть группы охраны изготовилась к огневому бою, в то время как остальные остались с ним – как возможная «следующая порция».
Через минуту толкотня впереди стала неразличимой в темноте, лишь немного разбавляемой желтым блеклым светом нескольких фар, просвечивающих через морозный парок. Это было даже красиво. Потом спереди трижды мигнули красным фонариком, и капитан отчетливо выпустил воздух из груди. Похоже, он действительно напрягся. Повернувшись к генералу и получив от него согласный кивок, адъютант шепнул «давай!», и шофер аккуратно тронулся вперед.
Грузовик уже подвинулся, освобождая место высоким угловатым теням, с единственной яркой фарой, горящей как глаз похмельного циклопа на каждой машине. Сначала генералу показалось, что это «ИСы»[79 - Советский тяжелый танк «ИС-2» («Иосиф Сталин»), незначительное количество которых было поставлено КНДР в ходе войны.], но он понял свою ошибку почти сразу же, не обнаружив знакомых черт в массивном силуэте. Тяжелые самоходки « ИСУ-122», известные тем, что являлись едва ли не единственными самоходными артиллерийскими установками Отечественной войны, к которым так и не прилипло никакого прозвища. Действительно похожие на «ИС-2» в темноте и с недосыпу и имеющие с ним массу общего с технической точки зрения. Двигалась передняя машина осторожно, стараясь не задеть бронированным бортом уступивший им дорогу, но оставивший на ней левые скаты «ЗИС».
– Стой, – не удержавшись, потребовал генерал. Старшина остановил машину немедленно, и Разуваев вышел, тяжело натужившись, чтобы справиться с неудобно сбившейся под ним на сиденье шинелью. Оставив дверцу открытой, генерал прошел точно на середину дороги, приземистый и массивный в гротескном свете танковой фары. Из открытого люка ему, надсаживаясь, что-то прокричала неразличимая фигура, но он продолжал стоять. Сзади уже подбегали корейцы: переводить, стрелять – что прикажут.
Самоходка остановилась, не заглушив дизель, но умерив обороты. Вонючий солярный дым, окутавший на мгновение ее траки, дополз до колен генерала, заставив того хмыкнуть. Он любил этот запах.
– Твою мать! – донеслось сверху среди неразборчивых звуков, перебиваемых рычанием мощного двигателя в каких-то трех-четырех метрах.
– Сам «твою мать!», – во весь голос заорал генерал. – А ну, слезай!
То ли самоходчик услышал его натренированный командами голос, то ли прочел слова по губам, но он на несколько секунд исчез и тут же появился снова с комплектом сигнальных флажков. Вроде бы было слишком темно, чтобы пользоваться классической связью танкистов эффективно, но короткое движение его рук – и вслед за головной машиной двигатели начали вразнобой глушить все остальные. Лязг металла, стук, хрип каких-то механизмов внутри бронированных зверюг – и машины начали гасить фары. Кто бы ни командовал этим подразделением, он явно с почтением относился к способностям пилотов американских ночных ударных самолетов.
Теперь стало совсем ничего не различить более чем в нескольких метрах, но самоходки все равно угадывались: пахло от них так же оглушительно. Высокая, крепко сложенная фигура со стуком спрыгнула с брони и остановилась перед генералом, белея пятном лица, черты которого едва можно было различить в свете единственной включенной пары автомобильных фар. Адъютант шумно дышал справа, но неизвестный самоходчик молчал. Впрочем, сомнений у генерала уже не оставалось.
– Я генерал-лейтенант Разуваев, – представился он. – Назовите себя и свою часть.
– Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Майор Чапчаков, военный советник при командире отдельного танко-самоходного полка резерва Главного командования Корейской Народной Армии. Батареи полка, согласно приказу, следуют к назначенному рубежу.
– Вольно, майор. Где командир?
– В концевой машине, товарищ генерал-лейтенант. Марш тяжелый, он хотел лично обеспечить...
Воздушную составляющую битвы за Лейте в октябре 1944 года японцы, как известно, проиграли было вчистую, понеся чудовищные потери, но так и не добившись почти ничего серьезного. Единственным исключением стал легкий авианосец «Принстон», легко и уверенно потопленный одиночным пикировщиком японцев. Как говорят, он просто затесался в мешанину пронизывающих облака в разных направлениях групп американских самолетов и точно вложил единственную 250-килограммовую бомбу в забитую заправленными самолетами полетную палубу авианосца. Еще говорят, что пилотировал тот пикировщик генерал-майор – но не будучи ни летчиком, ни моряком, генерал Разуваев не был уверен, правда это или нет. В любом случае, когда через полчаса на пылающем «Принстоне» взорвались погреба, силой взрыва перебило почти половину экипажа еще и на пытавшемся тушить его пожары легком крейсере[76 - При взрыве кормового бомбового погреба авианосца на подошедшем к его борту для буксировки и оказания помощи в борьбе с пожарами американском легком крейсере «Бирмингем» погибло 233 человека и еще более 400 ранено.]. Так что – да, хорошо подготовленным и способным действовать хладнокровно одиночкам иногда везет по-крупному, и даже там, где ничего не добились сотни полных энтузиазма новобранцев.
– Я еще раз напоминаю, вы можете рассчитывать на любые силы и средства, находящиеся в моем распоряжении. Как и на то, что я способен достаточно заметно повлиять на принятие решения командиром 64-го истребительного авиакорпуса и на командующего КНА генерала Джу Янг Кана. Если понадобится, я пойду и выше – но только в том случае, если вы представите мне нормальный, логичный план действий, требующий чего-то выполнимого. А не то, что вы...
Он не договорил, не видя в этом нужды. Распрощавшимся с ним по-уставному разведчикам все было ясно и так: наверняка они не были дураками, на такой-то службе. И скорее всего, как окончательно решил для себя генерал, дело было действительно сложнее, чем они сочли нужным ему сообщить. Получалось, что не зная полной картины, он не имел возможности принять точное решение и этим, возможно, обрекал разведчиков на провал, но другого выбора, кроме как отменить их бредовый план, он не видел. Нетрудно догадаться, что, не получив требуемого результата, Москва и лично товарищ Сталин вполне закономерно обвинят его в саботаже. Подписанная Председателем Совета министров СССР бумага «Оказывать всяческое содействие» будет его смертным приговором. Но и здесь ничего не поделаешь тоже. Совсем. Изменять решение было нельзя – по крайней мере, пока не откроются новые обстоятельства, диктующие новые же варианты действий. В конце концов, не стали бы же в Москве закручивать такую гигантскую по охвату операцию ради одного вражеского офицера, даже имя которого неизвестно никому, включая и того пленного стрелка-американца.
Значит – и это тоже было логично, – в качестве объекта захвата этот химик просто подвернулся им под руку, как и было рассказано. Но на капитане свет клином не сошелся, будет и другой капитан, майор, первый лейтенант, в попытках вытащить которого какой-нибудь заслуженный десантно-диверсионный отряд КНА, с порядковым номером, подбирающимся к девятистам, потеряет половину бойцов. Опять потеряет и опять пополнится худенькими семнадцати-восемнадцатилетними пацанами, вроде тех, которые десять-одиннадцать лет назад своими жизнями удержали немецкие танки в российских и украинских степях, не пропустив их к горам Кавказа, к великим русским городам, дав следующему поколению солдат возможность повернуть войну вспять и гнать ее на запад, где еще так многим из них отвела черту жестокая фронтовая судьба. И эти бойцы тоже за считанные недели станут ветеранами – те из них, кто уцелеет. Уж в этом отношении ничего нового война в Корее не открыла...
После ухода разведчиков генерал-лейтенант снова остался в одиночестве в кабинете, единственной особенностью которого, по местным понятиям, были сразу два портрета на стенах: и Ленина, и Сталина. У генералов-корейцев, в рабочих кабинетах которых Разуваеву приходилось бывать, обычно висел только один – Ленина. У китайцев иногда еще и председателя Мао, но реже. Вздохнув, он подошел к письменному столу, начав перекладывать бумаги обратно лицевой стороной вверх. Интересно, куда лейтенанты направились? Очень может быть, что именно к генерал-лейтенанту Котову-Легонькову, главному советском военному советнику при штабе КНД, а до этого, много лет назад, начальнику оперативного управления 2-го Белорусского фронта у маршала Рокоссовского. До него лейтенанты будут добираться сутки, и скорее всего, он скажет им то же самое, что они услышали здесь, в его кабинете.
Котова генерал Разуваев ценил чрезвычайно высоко, ставя его по чисто военному оперативному таланту значительно выше себя. Решение Сталина заменить генерал-лейтенантом Котовым-Легоньковым предыдущего главвоенсоветника при КНД, генерал-полковника авиации Красовского, бывшего одновременно и командующим оперативной группой советских ВВС в КНР, он принял не только безоговорочно, как положено принимать приказы Вождя, но и с удовлетворением. Котов – человек умнейший и смелый и не станет рисковать своими драгоценными резервами ради какой-то дурновато попахивающей истории.
Очень уж все это вместе взятое походит на какую-то сложную провокацию или политическую игру. На такие Иосиф Виссарионович большой мастер, но от них все равно всегда лучше держаться в стороне, даже рискуя вызвать неудовольствие своей пассивностью. Да, дескать, такой я тупой солдафон – пришли ко мне, генерал-лейтенанту, два старших лейтенанта со злыми плавными движениями и глазами опытных убийц и начали требовать, чтобы я заставил корейских товарищей вести наступление в никуда, в пустоту, растрачивая при этом не только силы, технику, боеприпасы и топливо, но и то доверие, ту веру в «северных братьев», в советских людей, в их опыт и правдивость, которую корейцы испытывают. А это гораздо важнее, чем один пленный, будь он химик-огнеметчик или химик-пиротехник. Ну чем они могли доказать, что он действительно важен? Ничем, товарищ Сталин. А я в общевойсковых частях всю жизнь, от командира взвода до командира подвижной группы и советника при Чосон Ин-Мин Куй, – всей Корейской Народной Армии, товарищ Сталин. Я лучше старших лейтенантов знаю, как надо вести наступление!
Высказав себе все это, генерал Разуваев несколько успокоился. «Провокация». Что-то такое правильное было в этом слове. Или не совсем правильное, но близкое по смыслу. Над этим стоит подумать. Такая война, которая ведется на Корейском полуострове сейчас, после того, как линия фронта несколько раз перепрыгнула через 38-ю параллель: на юг, на север, и опять на юг, и снова на север, – такая война не выгодна никому. Корейцам обеих Корей: и Южной, и народно-демократической, – потому, что они гибнут на ней. Советскому Союзу – тоже нет, потому что большинство русских, советских людей искренне, всей душой ненавидят войну – очень уж тяжело и страшно она им каждый раз обходится. Советские люди воюют в Корее, потому что это их долг, потому что это нужно их стране.
Следует признать, что и военнослужащие из «войск ООН», какой бы на самом деле ширмой ни являлось это название, тоже воюют за то, что они понимают под долгом. Итальянские и скандинавские врачи, в том числе и из нейтральной Швеции, и из дружественной Советскому Союзу Норвегии, колумбийские моряки и эфиопские гвардейские стрелки – все они находятся на неправильной стороне фронта не потому, что все без исключения есть выродки и беспринципные наемники мирового капитала, а потому, что они неправильно понимают, ради чего ведется эта война.
То, что война может быть выгодна Соединенным Штатам в качестве прикрытия для многократного наращивания военной, в том числе и военно-морской мощи, это одна сторона медали. Другая – это то, насколько корейская бойня неожиданно оказалась выгодна Японии. Сожженной до руин, потерявшей в процентном отношении почти столько же людей, сколько советская Белоруссия, сдавшейся только после урановой и плутониевой бомб, взорванных над ее городами. Ненавидимой по всему миру и до зубной боли, до кровавой пелены в глазах – почти во всех странах, которым не повезло быть ее соседями в пик расцвета японской мощи в конце 1930-х – начале 1940-х годов. В Сингапуре, Малайе, на Формозе[77 - Устаревшее название острова Тайвань, официальное используемое в Советском Союзе до 1949 года.], в Корее северной и Корее южной – всюду, где «отметились» японская армия и флот, правительства и народы с ненавистью и негодованием наблюдают то, как Япония богатеет на этой войне.
Машинально подойдя к окну и равнодушно разглядывая узор изморози на стекле, генерал Разуваев с некоторым неудовольствием подумал о том, что последняя фраза получилась у него очень уж «правильной», газетной, что ли. Но в то же время она была совершенно точной. Согласно мирному договору 1951 года, Япония восстанавливалась в правах суверенного государства, с исключениями для территорий островов Окинава и Рюкю. Но еще к 1949 году общее количество служащих ее «полицейских сил» превысило 200 тысяч человек. А в июле 1950-го, через две недели после начала войны в Корее, «ниспосланного Богом счастья», по выражению одного дальновидного японского политика, но прямому требованию и при прямом содействии США началось прямое и стремительное возрождение японской военной мощи – организуемой, оснащаемой, управляемой американцами. К 1953 году то, что послевоенная конституция Японии декларировала отсутствие вооруженных сил[78 - Это действительно так. Созданные в 1954 году яионекие вооруженные силы, являющиеся одними из сильнейших в регионе, до сих пор официально именуются Джиетай-Кинкен-би, Силами самообороны; военно-морской флот и военно-воздушные силы, – Морские и Воздушные Силы самообороны, соответственно.], было почти официально объявлено «ошибкой», но одно это не было бы так опасно.
Валовой национальный продукт Японии увеличился на 50 процентов за одно лишь второе полугодие 1950 года, то есть за первые полгода с начала этой войны. К 1952 году в Японии был достигнут довоенный уровень жизни – и это при том, что немалая часть населения Советского Союза и европейских стран до сих пор живет в бараках, сколоченных из обломков разбитых бомбами досок. Насколько было известно, к этому времени тот же валовой национальный продукт составил в Японии 200 % от уровня 1949 года – показатель, о котором оставалось только мечтать советской промышленности, при всех ее достижениях и трудовых победах вернувшихся домой с войны, уцелевших в ней мужчин.
За последние годы – за считанные годы – Япония из государства, низведенного до уровня африканских колоний, вновь возвысилась в промышленную державу с растущей как на дрожжах индустриальной мощью, с верфями, закладывающими один сухогруз и танкер за другим, с экономикой, ежегодно накачиваемой сотнями миллионов идущих на военные заказы долларов. Кому такое может нравиться – кроме, понятно, японцев?
Две сильнейшие политические партии Японии, либеральная и демократическая, поддерживают войну в Корее с энтузиазмом, сделавшим бы честь футбольным болельщикам – да и самой «Партии свободы», то есть либеральной партии Ли Сын Мана тоже. Но на самом деле такой невиданный рост японского экономического и военного потенциала, пусть и необходимый как вынужденная мера, не может нравиться даже самим американцам, которые организовали совершенно новые финансовые модели межгосударственных отношений, – лишь бы еще больше ускорить этот процесс, лишь бы обойти собственную военную бюрократию. За годы этой войны работающие на войну японские компании получили миллиарды полновесных долларов, – это и позволило снова набухнуть, как вулканическим прыщам, таким именам, как «Мицуи», «Мицубиси», «Сумимото». С военной точки зрения все это имело самый прямой смысл: произведенные в Японии боеприпасы доставляются на театр военных действий морем, на японских же судах, при том, что спускаемый на воду японскими судоверфями тоннаж уже уверенно перевалил за 20 процентов от общемирового. Но каждый полученный ими доллар – это доллар, переложенный из карманов собственно американских военно-индустриальных и финансовых магнатов и корпораций: Дюпона, Мартина, Локхида – всех, чьи имена склоняют в советских газетах как вполне употребимые в печати синонимы гнусных ругательств. Недовольство «неправильной» войной растет даже в самих США, и постоянно растущий список убитых и искалеченных на другой половине Земли американских военнослужащих почти не имеет к этому отношения. «Такая» война не нужна и им тоже – и именно в эту точку нужно бить всеми методами: разведкой, политикой, дипломатией.
Понимает ли это Сталин? На этот вопрос генерал Разуваев мог ответить совершенно определенно: Сталин понимает это не хуже, а скорее всего и значительно лучше, чем он сам – дипломат по должности, уже два с половиной года занимающий пост посла СССР в КНДР, научившийся разбираться в хитросплетении политических нитей, но все равно еще оценивающий большую часть известных ему деталей с точки зрения военного.
Делает ли Москва что-нибудь, чтобы данный фактор наконец-то стал настолько значимым, чтобы в совокупности со всем остальным перевести переговоры между воюющими сторонами из простого обмена угрозами и ультиматумами в плоскость хоть какого-нибудь компромисса? Да, почти наверняка. Но вот в том, является ли появление в Корее спецразведгруппы признаком того, что политику и войну в Кремле начали смешивать в нужной пропорции, он все же не был уверен. В конце концов, даже то, что инженер-лейтенант с русской фамилией Петров был азиатом, не значило ничего. Таких он видал и раньше – забывших свое настоящее имя беспризорников, приемышей, детей, потерявших родителей в революцию, в Гражданскую войну, в голод 1920-х и начала 1930-х годов. Из таких, кстати, действительно получаются отличные разведчики – и войсковые, и нелегалы. Они обязаны стране всем и готовы ради нее на все, как мамелюки старой Оттоманской империи. Они умеют выживать и принимать любые правила, не ломаясь при этом, не теряя способности оставаться бойцами. Его адъютант, кстати говоря, тоже как раз из таких.
– Сергей! – проорал генерал, подойдя к двери и толкнув ее ногой. Капитан появился через секунду, за ним из угла приемной тенью поднялись двое сержантов с автоматами на коленях: судя по всему, капитан пока не расценил уровень опасности как вернувшийся к норме.
– Сергей, – позвал генерал уже нормальным голосом. – Зайди.
Когда дверь закрылась, они встретились глазами.
– Тоскуешь? – поинтересовался Разуваев.
Адъютант ничего не ответил, только вздохнул – едва заметно. Не знай генерал, что он так сделает, – и не увидел бы.
– А напрасно. Судя по всему, становится веселее. Главное – это чтобы не слишком весело. Машина ждет?
– Так точно, товарищ генерал-лейтенант, ждет.
Машина, много лет назад привезенная из Союза на железнодорожной платформе, до улыбки знакомая еще с фронтовых лет «M1», ждала приказов посла и главвоенсоветника не просто с утра до вечера, а круглые сутки. Случалось, что эти самые круглые сутки генерал-лейтенанту приходилось проводить на ее заднем сиденье, мотаясь между разделенными сотней километров разбитых грунтовых дорог штабами. Шофер и адъютант снова и снова менялись местами, фары «эмки», до половины заклеенные сверху черной бумагой от оберток фотопластинок, выхватывали из темноты очередной шлагбаум с замерзшим часовым в куцем ватничке – а потом шли очередные часы работы с командирами корейских подразделений: генералами, старшими полковниками, полковниками...
Сейчас, когда в Пхеньяне начинали происходить интересные события и когда в любую минуту делу могло понадобиться, чтобы он к ним подключился, генерал Разуваев не собирался уезжать далеко от посольского квартала. Но нужный ему человек находился недалеко, полтора или два часа езды в одну сторону, и на это можно было пойти – для того же дела.
– Едем в Намьянг, – приказал он капитану. – Сколько сейчас, семь? К полуночи вернемся. Обеспечь связь, предупреди пункт назначения, обеспечь охрану по полной форме. Все, как обычно, в общем, только быстрее.
Проведя всегда выделяемый на подготовку охраны десяток минут в разговоре со штабом 32-й ИАД по спецсвязи, генерал-лейтенант открыл собственный сейф, стоящий в углу кабинета на коротких, оформленных под лапы грифонов ножках. Сейф был еще девятнадцатого века, большой, английский, оставшийся от какой-то респектабельной торговой компании, размещавшейся в этом здании до японской оккупации. Бережливые японцы утилизировали полезный предмет, и когда их армия капитулировала, он почти напрямую достался первому советскому военному коменданту Пхеньяна, а после образования в 1948 году КНДР – и послу.
Заперев часть бумаг в сейф, генерал вынул с нижней полки маленький немецкий «Вальтер» и запасную обойму к нему, небрежно рассовав все по карманам. Забрав со стола оставшиеся бумаги и сунув (просто чтобы не слишком бросалась в глаза) коробочку из-под незапотевающих противогазных пленок под крышку изображающего китайскую пагоду бронзового чернильного прибора, известного тем, что им пользовались при принятии японской капитуляции, он покинул кабинет. Проследив, чтобы вернувшийся со двора капитан обошелся с бумагами так, как они того заслуживают, Разуваев кивнул стоящему «руки по швам» дежурному и вышел на улицу.
«Эмка» стояла у подъезда – если так можно было назвать главный выход из мелковатого для такого количества посольских и военных служб здания. Пространство до самой ограды было обсажено прозрачными сейчас кустами, на которых летом изобильно росли бесполезные в питании, но хорошо помогающие от жажды сизовато-красные ягоды. Прямо перед выездом с территории посольства, уткнувшись тупорылой мордой в закрытые ворота, стоял мощный крытый «ЗИС» с полувзводом «внешней» охраны. Двигатель его уже работал, выбрасывая в наступившие сумерки медленно расплывающиеся клубы пара и копоти. Еще один, меньшей грузоподъемности, автомобиль стоял вплотную за его машиной, – в нем, помимо нескольких охранников, главвоенсоветника сопровождали переводчики. За воротами стояла машина с корейскими военными, один из которых махал то ли капитану, то ли самому генералу рукой: «Мы готовы, можно ехать».
Всего охраны у генерал-лейтенанта было столько, что этого должно было хватить на нормальную диверсионную группу, даже дав ей право первого выстрела. Разумеется, это ничуть не гарантировало того, что на полдороге между Пхеньяном и Намьянгом ему не прошибет голову вовремя выпущенная умелым стрелком пуля. Выехав за ограду неприкосновенной территории советского посольства, генерал в качестве советника при вооруженных силах находящегося в состоянии войны государства автоматически превращался в совершенно легитимную цель, а редчайший в КНДР легковой автомобиль с несколькими машинами сопровождения спереди и сзади делал его просто лакомой мишенью для любого достаточно смелого врага, добравшегося из-за линии фронта до той дороги, по которой он сию минуту проезжает. На этой войне в генерала уже стреляли несколько раз – и каждый раз мимо. Но лишь попавший в цель выстрел считается снайперским, поэтому возможно, что все у него было еще впереди.
Хотя... Пули на этой войне он опасался все же несколько меньше, чем опалы по возвращении домой. Раскачиваясь в теплом нутре комфортной «полковничьей» машины, глядя на бритый затылок немолодого опытного водителя, генерал-лейтенант Разуваев размышлял «о вечном» – о том, сколько знакомых ему генералов и офицеров, вытащивших на себе чудовищную войну, были смещены со своих постов вскоре после Победы. И не по сокращениям армии, последовавшим сначала в середине 1945-го, а потом еще раз – в середине 1946-го, когда большинству имеющих значение для мировой политики стран вполне хватало собственных проблем и бед, чтобы серьезно угрожать началом новой войны, а... Да по необъяснимым в общем-то причинам. Жуков в армии, Кузнецов и Галлер на флоте, Новиков и Шахурин в авиации, несколько других известных фамилий. Большинство из них, кроме разве что вице-адмирала Галлера, были живы, некоторые были на свободе, а другие даже занимали какие-то посты, но все это навевало нехорошие мысли. В последний год Вождь как будто снова начал «чистить» партийный и военный аппараты – и пусть значительно мягче, чем раньше, но все равно риск попасть под его непредсказуемый удар всегда был слишком реальным, чтобы о нем забывать.
На XIX съезде партии, материалы которого миллионы советских людей читали с замиранием сердца, под критику Сталина попали Молотов и Микоян – вернейшие, надежнейшие люди, каждый из которых сделал для страны больше, чем десяток таких генералов, как он, вместе взятых. Делавших только то, что требовала от них страна, и никогда не подводивших ни ее, ни самого товарища Сталина. Не то что он, в ходе операции по освобождению Крыма упустивший свой шанс встать вровень если не с Жуковым и Баграмяном, то хотя бы с Батовым и Поповым, и рискующий потерпеть поражение и сейчас. Собственно, уже потерпевший – учитывая, что назначение он получил в ноябре 1950-го, в самый канун наступлений армий КНА и КНД на Пхеньян и Хамхын, когда после их удара, почти советского по мощи, размаху и темпу, судьба войны казалась почти решенной. Но потом все повернулось вспять...
Фронтовые дороги не меняются – они всегда одинаковы, где бы они ни пролегали. Дорога от Пхеньяна до Намьянга не была исключением – такая же разбитая техникой, такая же ей забитая. Особенно сейчас, когда стемнело уже окончательно и можно было не опасаться никого, кроме вражеских «ночников». Но это была уже почти мелочь, не стоящая особого беспокойства: на Мяогоу базировался советский 258-й ночной истребительный авиаполк, на Аньшань, Аньдун и пару других аэродромов – несколько отдельных ночных истребительных эскадрилий, как советских, так и союзиичьих. Ночные налеты американских бомбардировщиков, включая «Сверхкрепости», не прекращались, но основной их целью были серьезные объекты, вроде плотин, железнодорожных мостов и крупных заводов, над которыми их с переменным успехом и отлавливали «Лавочкины» и «МиГи». Все это вместе взятое давало достаточно хорошие шансы на то, что их участок тянущейся на юг, разбитой на звенья колонны разномастных автомобилей американцы проигнорируют.
Так оно и случилось: какой-то час с четвертью езды – и вокруг замелькали остовы обгоревших полуразрушенных и разрушенных до основания домов, отмечающих начало нового населенного пункта. Проехав бывший город насквозь, грузовики охраны и втиснутая между ними «эмка» свернули на одну из пересекавших накатанный путь дорог, и трясти начало еще сильнее.
– Стой! – вдруг заорал адъютант генерала, сильно наклонившись вперед. Вцепившийся в рулевое колесо взмокший от пота старшина-шофер тут же уперся ногой в педаль тормоза. Передний грузовик застыл, наполовину развернувшись поперек узкой дороги. Их мотнуло, и автомобиль окончательно остановился, не дотянувшись бампером до кормы грузовика примерно на метр.
Вжав голову в плечи и терзанув истертые шестерни коробки передач, шофер тут же дал задний ход – не быстро, чтобы не въехать в так же пятящиеся машины сзади. Спереди из крытого кузова уже выпрыгивали бойцы с оружием в руках, часть из них мгновенно исчезла в темноте справа и слева от дороги, остальные в неподвижности остановились в луче идущего откуда-то спереди света. Собственные фары их машины шофер погасил почти немедленно, точно так же поступили грузовики позади. Генералу захотелось властно, как он привык делать, приказать капитану выйти и разобраться, по он смолчал – и старшина, и капитан знают свое дело отлично, и мешать им не стоит.
Кроме того, все действия охраны пока были совершенно правильными, – у него возникло ощущение, что все эти слитные, синхронные „манипуляции были отработаны или, по крайней мере, заранее обговорены. Столкнувшись с чем-то, не видимым ему, грузовик закрыл машину главвоенсоветника своей тушей, основная часть группы охраны изготовилась к огневому бою, в то время как остальные остались с ним – как возможная «следующая порция».
Через минуту толкотня впереди стала неразличимой в темноте, лишь немного разбавляемой желтым блеклым светом нескольких фар, просвечивающих через морозный парок. Это было даже красиво. Потом спереди трижды мигнули красным фонариком, и капитан отчетливо выпустил воздух из груди. Похоже, он действительно напрягся. Повернувшись к генералу и получив от него согласный кивок, адъютант шепнул «давай!», и шофер аккуратно тронулся вперед.
Грузовик уже подвинулся, освобождая место высоким угловатым теням, с единственной яркой фарой, горящей как глаз похмельного циклопа на каждой машине. Сначала генералу показалось, что это «ИСы»[79 - Советский тяжелый танк «ИС-2» («Иосиф Сталин»), незначительное количество которых было поставлено КНДР в ходе войны.], но он понял свою ошибку почти сразу же, не обнаружив знакомых черт в массивном силуэте. Тяжелые самоходки « ИСУ-122», известные тем, что являлись едва ли не единственными самоходными артиллерийскими установками Отечественной войны, к которым так и не прилипло никакого прозвища. Действительно похожие на «ИС-2» в темноте и с недосыпу и имеющие с ним массу общего с технической точки зрения. Двигалась передняя машина осторожно, стараясь не задеть бронированным бортом уступивший им дорогу, но оставивший на ней левые скаты «ЗИС».
– Стой, – не удержавшись, потребовал генерал. Старшина остановил машину немедленно, и Разуваев вышел, тяжело натужившись, чтобы справиться с неудобно сбившейся под ним на сиденье шинелью. Оставив дверцу открытой, генерал прошел точно на середину дороги, приземистый и массивный в гротескном свете танковой фары. Из открытого люка ему, надсаживаясь, что-то прокричала неразличимая фигура, но он продолжал стоять. Сзади уже подбегали корейцы: переводить, стрелять – что прикажут.
Самоходка остановилась, не заглушив дизель, но умерив обороты. Вонючий солярный дым, окутавший на мгновение ее траки, дополз до колен генерала, заставив того хмыкнуть. Он любил этот запах.
– Твою мать! – донеслось сверху среди неразборчивых звуков, перебиваемых рычанием мощного двигателя в каких-то трех-четырех метрах.
– Сам «твою мать!», – во весь голос заорал генерал. – А ну, слезай!
То ли самоходчик услышал его натренированный командами голос, то ли прочел слова по губам, но он на несколько секунд исчез и тут же появился снова с комплектом сигнальных флажков. Вроде бы было слишком темно, чтобы пользоваться классической связью танкистов эффективно, но короткое движение его рук – и вслед за головной машиной двигатели начали вразнобой глушить все остальные. Лязг металла, стук, хрип каких-то механизмов внутри бронированных зверюг – и машины начали гасить фары. Кто бы ни командовал этим подразделением, он явно с почтением относился к способностям пилотов американских ночных ударных самолетов.
Теперь стало совсем ничего не различить более чем в нескольких метрах, но самоходки все равно угадывались: пахло от них так же оглушительно. Высокая, крепко сложенная фигура со стуком спрыгнула с брони и остановилась перед генералом, белея пятном лица, черты которого едва можно было различить в свете единственной включенной пары автомобильных фар. Адъютант шумно дышал справа, но неизвестный самоходчик молчал. Впрочем, сомнений у генерала уже не оставалось.
– Я генерал-лейтенант Разуваев, – представился он. – Назовите себя и свою часть.
– Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Майор Чапчаков, военный советник при командире отдельного танко-самоходного полка резерва Главного командования Корейской Народной Армии. Батареи полка, согласно приказу, следуют к назначенному рубежу.
– Вольно, майор. Где командир?
– В концевой машине, товарищ генерал-лейтенант. Марш тяжелый, он хотел лично обеспечить...