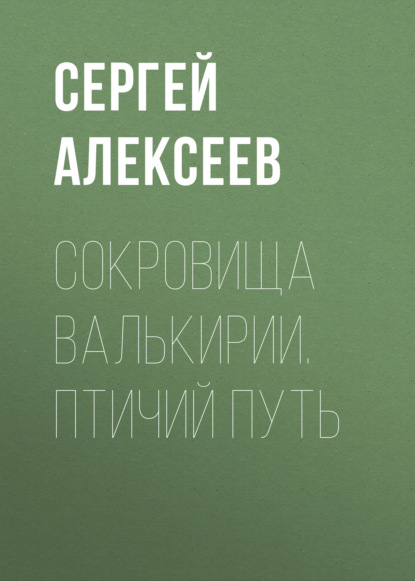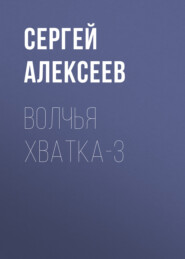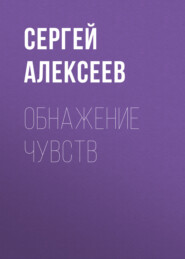По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сокровища Валькирии. Птичий путь
Серия
Год написания книги
2012
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За все время он отлил всего один золотой венец и спрятал его на виду, забросив в шкафчик ванной комнаты, где валялись хозяйские расчески, бигуди, сломанные плойки и прочий хлам. А серебряные раздаривал избранным из толпы женщинам – тем, которые взирали на певца открыто и прямо, с нескрываемым восторгом и при этом носили длинные, не знавшие ножниц, волосы. «Безделушка! – уверял он, венчая гребнем голову слушательницы. – Китайцы делают. Приходи еще!»
Сколот верил: рано или поздно гребень с таинственным орнаментом попадет на глаза или в космы той единственной, и она прочтет зашифрованный сигнал, призыв о помощи, снизойдет и откликнется лишенцу. Он помнил судьбу своего родителя, который много лет скитался, странствовал и бродяжил в поисках неких сокровищ, Соли Земли – призрачного мира, казавшегося тогда нереальным, некогда бывшим на свете и погибшим. За это отец даже получил прозвище Мамонт.
Но этот мир отцу открылся!
Однажды ночью, когда Сколот варил серебро, в квартиру позвонили. Такое уже случалось – тогда он замирал, прокрадывался к двери и смотрел в глазок, но на лестничной площадке обычно оказывались случайные люди. На сей раз там стояла Роксана, одетая по-домашнему, в легкомысленном халате, тапочках и, что более всего поразило его, с длинными, распущенными волосами, которые прежде всегда были закручены и убраны в прическу либо под забавный головной убор типа шляпки, кепки или дорогой меховой шапки, если зимой. Да и одежды всегда были закрытыми, чаще строгими – брючные костюмы, длиннополые плащи, пальто, и все это подобрано с подчеркнутым изяществом и вкусом.
Сейчас в полумраке лестничной площадки волосы ее светились!
Сколот дыхнул на стекло дверного глазка, потер его рукавом – нет, радужное свечение не исчезло, напротив, стало ярче, с переливом цветов, как Полярное сияние небесных косм.
Он заколебался, влекомый неким сиюминутным порывом, бросился убирать эскизы с письменного стола и даже хотел потушить тигель, однако вовремя взял себя в руки и вернулся к двери.
Соседка позвонила еще раз, стоя перед глазком, словно на портрете, и только сейчас Сколот заметил в ее руках тяжелую, толстую книгу большого формата в синеватом переплете. Роксана подождала и медленно, с сожалением удалилась, унося с собой свет, и на площадке потемнело.
Только наутро Сколота осенило – да это же она, Белая Ящерица! Дева, которую столько времени искал! Ради которой носился по улицам в бандах погромщиков, стриг космы ночным бабочкам, палил машины и дома, наказывая пороки, потом выглядывал ее в бесконечной, серой ленте толпы, каждый день спускался в бетонную трубу!
И пел для нее, чтобы услышала и откликнулась!
А она оказалась так близко, жила себе над его головой, и разделял их только потолок. Роксана давно уже посылала знаки: он должен был догадаться раньше, когда она еще приходила с кактусом! А когда повезла его в музей художника Васильева, чтобы показать, как его песни похожи на картины, он обязан был открыть глаза и увидеть!
Не случайно же зацвело то, что в принципе цвести не может, – черная, уродливая колючка. И не случайно украли полотна, устроили пожар в музее. Все это были знаки, которые он не узрел!
Смущало и обескураживало единственное: если она Дева, то почему замужем? Почему живет в одной квартире с этим странным аллергиком? Или все-таки ее лишили памяти, оставив космы?..
В тот же миг у него созрела шальная мысль проверить свои выводы. Дождавшись, когда со двора стартует автомобиль ее мужа, Сколот достал золотой гребень, прикрытый окислившимся во влажной среде монетным томпаком, решительно поднялся и позвонил в дверь верхних соседей. Роксана открыла почти сразу и словно ждала его: тот же халатик, тапочки и лишь волосы собраны в пучок.
– Я хотела только показать репродукции картин Константина Васильева, – виновато призналась она, – и посмотреть на твое чародейство… когда приходила ночью.
Сколот молча увенчал ее голову, не касаясь волос, и отступил за порог, намереваясь закрыть за собой дверь, однако Роксана его задержала:
– Погоди, Алеша! Что это? – Осторожно вынула гребень. – Какой красивый… Это же золото?
– Китайская безделушка, – заверил он и попятился на лестничную площадку.
Она взяла его за руку, ввела в прихожую и затворила дверь на внутреннюю задвижку.
– Ты не уйдешь! – опахнула манящим запахом дыхания. – Я хочу, чтобы ты этим гребнем расчесал мои волосы. Ты не узнал меня?..
Это была она!
2
В последние года полтора Сторчака преследовало ощущение усталости. От всего – от бесконечных заседаний, на которых его присутствие было обязательным, от официальных и официозных лиц, которые тасовались перед глазами, словно карты в руках шулера, от приемов по случаю и без, наградных церемоний, пошлых фуршетов с шоу-звездами, разговоров о будущем, которое, еще не наступив, уже воняло нафталином. Сторчак хоть и возглавлял атомную энергетику, но по инерции еще исполнял роль знаковой фигуры, присутствовал, заседал, посещал, резал ленточки и даже говорил, отчетливо понимая, что это ему уже не нужно. Его всё еще считали продвинутым, эффективным менеджером, еще по привычке и всерьез называли великим реформатором, университеты стояли в очереди, приглашая хотя бы для одной лекции по новейшим проблемам экономики; где-то в глубинке неизбалованные и заискивающие ректоры объявляли Сторчака почетным профессором, полагая, что ему это будет приятно. Вокруг еще колготилась некая суета, но кроме пыли, уже ничего не поднимала, даже настроения, и он в пятьдесят лет чувствовал себя старым генералом, которому не светят маршальские звезды, впрочем, как и блистательные победы, рождающие славу героя и всенародную любовь.
Он знал, отчего приходит столь ранняя усталость: начинался некий застой крови, он терял азарт, который еще лет десять назад выплескивался через край, побуждая возглавлять новорожденные, но недоношенные, быстро умирающие демократические партии, невзирая на всеобщую к нему, Сторчаку, ненависть, раздавать длинные интервью, более напоминавшие монологи, соглашаться на участие в самых скандальных идеологических передачах, хотя он отлично знал, что телезрители, едва завидев его, плевались и тут же переключали каналы. В принципе Сторчаку были безразличны ненависть и ярость толпы – такое отношение к себе он предугадывал и все равно брался за проведение непопулярных реформ, за всякое грязное дело, не позволяющее остаться чистым и непорочным. Сам он сравнивал свою долю с долей золотаря, который с утра до вечера выгребает дерьмо из туалетов и ночью пахнет не парфюмом, а тем же дерьмом, ибо его запах хоть и отпаривается в бане, но остается на тонком уровне, как радиация. И те, кто был тогда рядом, а сейчас выше его, тоже испытывали к нему нелюбовь, однако терпели и готовы были терпеть и дальше, поскольку понимали, что сами так не могут.
Сторчак давно ушел бы в глухую оппозицию – не по убеждениям, по психологическим причинам полного неприятия застоя, который выдавался за стабильность, но сейчас уже было не с кем: получив свои пайки из его рук, вчерашние товарищи разбежались по углам, чтоб не отобрали пищу, и жрали в одиночку, жадно, торопливо, а что уже не влезало и вываливалось, подбирали и опять пихали в рот.
Он мог бы отойти от дел, чтобы не смотреть на все это, отправиться на покой, но понимал: стоит спрыгнуть с круга, как его тотчас порвут на куски. И из страны уехать не мог, ибо являлся гарантом стабильного движения преобразованной России, и это было не его личное мнение. За глаза, не только в узких кругах и не только в стране, его давно уже звали на бандитский манер – Смотрящим, или на английский – Супервизором, о чем Сторчак тоже знал и не очень-то переживал по поводу своего прозвища. Напротив, старался ему соответствовать, пока и от этого не притомился.
И вот тогда заговорили, мол, или сдавать стал великий реформатор, или его сдают: на экране теперь появляется редко, да и то в качестве статиста или унылой говорящей головы, чаще всего за что-нибудь оправдывающейся, – почему-то перестали снимать в полный рост. Этот ропот особенно усилился, когда на одной из атомных станций произошла несанкционированная и пустяковая утечка радиоактивной воды и у самого ленивого появилась возможность пнуть Сторчака. Он и сам чувствовал: надо как-то выходить, выруливать из пробки, вновь напомнить о себе, а то скоро и анекдотов сочинять не будут.
Сторчаку были известны десятки способов, как это сделать, еще больше знали его советники, но сейчас почему-то ни один не срабатывал. Запущенный им слух, будто под самого? Супервизора роет прокуратура и вот-вот возбудит уголовное дело, прозвучал как глас вопиющего в пустыне. Ну слегка порадовались ярые ненавистники, постояли с плакатами жиденькой толпой, ну сам он дал парочку интервью, как в былые времена, подчеркивая собственную неуязвимость, ну еще премьер в кулуарах поклялся, что, пока он у власти, никто не посмеет тронуть Смотрящего. И политическая тектоника была едва заметной дрожью, а не землетрясением, хотя проявили интерес на сей раз сразу две крайние партии. Правые попросту вдруг вспомнили о нем, в очередной раз оставшись без вождя, на роль которого им подходил мученик, а хитрые левые вздумали таким образом опорочить Сторчака перед соперниками, настойчиво предлагая лидерство и намекая на раскаяние и смену его убеждений. И все вместе ждали, когда он взойдет на Голгофу, но поскольку он так и не взошел, все опять заглохло, захирело, покрываясь липучей, намагниченной пылью. Требовался же качественный прорыв, дабы вновь разгорячить, разогнать кровь и смыть потом усталость, как золотарь смывает вонь своей профессии.
Вторую акцию Смотрящий поручил провести Корсакову, бывшему тогда начальником его личной охраны. Взорвали бомбу мощностью четыреста граммов в тротиловом эквиваленте, обстреляли из автоматического оружия, к месту происшествия слетелась стая журналистов, поднялась волна шума и пыли, нашлись и подозреваемые из числа особо ярых ненавистников, и даже закрытый суд состоялся, но результат оказался прямо противоположным. И хоть враги сожалели, что террористы промахнулись, что в бомбу заложили мало пластида, редкие единомышленники поздравляли, назначив ему вторую дату рождения, а пресса резвилась на высокоэмоциональном уровне – его личная температура не повысилась ни на градус и утраченного азарта не вернула. К тому же «злодеев» оправдали за недоказанностью и отпустили, чуть ли не сотворив из них народных кумиров. В выигрыше остался лишь туповатый владелец элитного автосалона, который торговал бронированными «мерседесами» и по недомыслию пытался всучить Смотрящему деньги – оплатить рекламную кампанию.
Неожиданный выход предложил ветеран теневой экономики Церковер, который из-за преклонных лет никак не мог вписаться в стремительно убегающее время, однако бесконечно и настойчиво делал такие попытки, испрашивая советы у Смотрящего. Ему не удавалось наладить сырьевой бизнес – не подпускали ни к нефти, ни к газу, ни к трубам и прочим транспортным системам, а Сторчак уже ничем помочь не мог. Неугомонный Церковер по случаю сначала прикупил несколько скважин, но конкуренты устроили пожар и вынудили продать их по дешевке. Старый теневик умел держать и не такие удары. Он приобрел два ржавых танкера и судно для перевозки сжиженного газа в Японию, а когда вчерашний его приятель Чингиз Алпатов по прозвищу Хан и это отнял, причем дерзко и нагло, Церковер пришел к Смотрящему. И долго, со стариковским кряхтением, но азартным блеском в глазах размышлял над новой теорией противников добычи углеводородного сырья из земных недр. Согласно его изложению, нефть являлась кровью земли, газ – легкими, а угольные бассейны – не чем иным, как подушками безопасности, обеспечивающими равномерное вращение планеты. Сама же Земля – живой организм. Бурить скважины и бить шахты в ее коре – все равно что человеку каждый день сверлить череп и выкачивать, например, мозговую жидкость. Безумие обеспечено. А это землетрясения, цунами, извержения вулканов и прочие катастрофы вплоть до «ядерной зимы».
Было странно видеть в бывшем цеховике патриота-теоретика, однако Сторчак его терпеливо выслушал, посоветовал возглавить движение неистовых экологов и создать партию «зеленых». Церковер не обиделся, но философствовать прекратил и спросил прямо:
– Миша, зачем вы пустили «голодных» до нефти и газу? Татары, кавказцы, евреи и даже великороссы – все стали жидами! Моисей их сорок лет водил по пустыне и не смог накормить манной небесной. Я извиняюсь, Миша, но подозреваю, что вы скрытый антисемит! И забыли, что вашу бабушку звали Сарра Губер. Я отниму у вас израильский паспорт. Вы недостойны носить его в своих широких штанинах.
Израильский паспорт у Сторчака на самом деле был, однако о нем знал только один человек – покойный ныне премьер-министр Израиля, который когда-то этот документ и выдал, чтобы в случае чего защитить известного менеджера: проводить реформы в России было делом рискованным. Откуда знал о паспорте Церковер, Сторчак догадывался, ибо сам хорошо когда-то изучил личность этого предпринимателя.
Еще будучи вице-премьером, Супервизор по сути определил направление его бизнеса, позволив открывать банки, рынки и торговые центры вокруг Москвы. После того как Церковер не без помощи Сторчака выкупил четыреста гектаров земли у разорившегося НИИ зерновых и бобовых культур, расположенного сразу за Московской кольцевой дорогой, его стали называть Оскол – по населенному пункту Осколково, где располагался сам институт. Зачем ему потребовалось столько зарастающих опытных полей с перелесками, побитых стеклянных теплиц и малопригодных, ветшающих железобетонных корпусов, никто не знал, строительным бизнесом Церковер не занимался, впрочем как и сельским хозяйством, однако землю не продавал, а вкладывал деньги, воздвигая высокий железный забор по периметру, содержал многочисленную охрану, и это невзирая на значительные налоги. Губернатор области пытался сначала выкупить весь участок, потом несколько лет судился – земли относились к фонду сельхозназначения и не обрабатывались, – однако Оскол нещадно тратился на адвокатов и не отдавал ни клочка, доказывая, что эта территория принадлежала раньше науке. А чтобы пустыри не мозолили завидущие глаза, он распахивал поля и сеял то, что было дешево, – кукурузу, початки которой бережно снимал усовершенствованным комбайном, и землю вновь запахивал.
Сторчак давно и хорошо знал Оскола, считал его прагматичным, успешным предпринимателем, достаточно прижимистым, даже скупым, и объяснить его столь нерачительное поведение было невозможно. В ту пору Смотрящий создал целую школу капиталистов, куда набирал предприимчивых, но «голодных» людей, еще не подозревая, что пережитый голод – болезнь неизлечимая. И многие, кого он выкормил с руки, потом норовили ее укусить. Церковер же пришел туда «сытым», и его будущий конкурент Чингиз Алпатов, тогда еще без своего громкого прозвища Хан, скромный, даже застенчивый начальник нефтепромыслов из Сибири, взирал на известного цеховика с уважением и в рот ему смотрел. А перед Сторчаком и вовсе трепетал, как дева на выданье, не смея глаз поднять. И вот поди ж ты, осмелел, ханскую силу почуял и отнял баржи у своего однокашника пиратским образом – остановил в море, захватил вместе с нефтью и командами, поднял другие флаги, да и угнал в неизвестном направлении.
Стареющий Церковер к числу «голодных» не принадлежал, поскольку еще при коммунистах два срока отсидел за подпольные цеха на обувных фабриках, незаконные операции с золотом и был еще тогда завербован госбезопасностью в качестве платного секретного сотрудника. Подбирая кадры в свою школу капиталистического труда, Сторчак тогда еще интуитивно запрашивал досье на каждого в самых разных, даже сверхзакрытых инстанциях и, на удивление, получал их – в начале девяностых и это было возможно. Зато потом все его ученики, за редким исключением, становились ручными и управляемыми. В послужном списке Церковера он ничего особенного не вычитал – у иных будущих олигархов автобиография была куда цветистее, – однако отметил то, что искал: Оскол был инициативным, исполнительным и вполне управляемым агентом, все его доносы на товарищей по подпольному золотому рынку не имели мотивов зависти и желчной злобы. Он вообще был веселым, неунывающим человеком и однажды признался, что в юности, подражая Аркадию Райкину, писал юмористические рассказики, интермедии и обожал составлять ребусы.
Теперь Церковер жил по понятиям, добро помнил, ценил, был благодарен и, несмотря на восьмой десяток, оставался все тем же бодрячком, однако уже склонным к старческой философии, мистике и неожиданным экспериментам. Но даже при всем этом Сторчак относился к нему серьезно и с уважением, ибо запомнил его науку – случайно или с умыслом, но однажды Церковер проронил фразу, которой руководствовался сам всю свою жизнь и которая стала ключевой для будущей карьеры Смотрящего: «Запомните, Миша: кто владеет информацией, тот обладает реальной властью. Суть менеджмента заключается в умении создавать золотой запас информации и сколько угодно потом печатать бумажную валюту. Все остальное – сор, который можно выносить из избы».
Сторчак тогда не особенно-то проникся таким витиеватым философским заключением старшего товарища, но всякий раз вспоминал его, когда остро ощущал, как власть уходит из рук. И чтобы вернуть ее, он не боролся ни на ковре, ни под ковром, не плел интриг, никого не подсиживал и ничего ни у кого не просил. Он тихо и молча собирал информацию из самых разных источников, добывал ее, как старатель золото, и когда масса знаний набирала критический вес, она, власть, сама падала в руки.
Однажды Сторчак спросил Церковера про земли Осколкова и бесполезную для общества кукурузу – областной губернатор доставал, полагая, что через Смотрящего можно надавить на упрямого бизнесмена.
«Миша, идите за мной, – попросил тот. – Идите и не пожалеете. Я открою вам тайну кукурузного семени!»
Любитель ребусов привел его на стоянку автомобилей, поставил возле выхлопной трубы и велел своему водителю запустить мотор.
«Понюхайте, Миша, и скажите – чем пахнет?»
«Горелым маслом, – понюхал и заключил Сторчак. – Странный запах…»
«Вы пессимист, Миша! – развеселился Церковер. – Так пахнут жареные пирожки! Когда вы в последний раз ели пирожки? Знаете, когда жарят прямо на улице, на большом противне, где много кипящего масла? Да, там много канцерогенов, сплошной холестерин, но как это вкусно, Миша! В вологодской пересылке я слышал этот аромат сквозь решетчатое окно и мечтал хоть чуть-чуть отравиться вредными веществами. Там жарили пирожки на улице Энгельса…»
Если опустить его лирические отступления о своем мрачном прошлом, получалось, что Оскол из кукурузного зерна получает масло и заправляет его в бак автомобиля, для чего приобрел в Штатах технологическую линию.
И тогда впервые Сторчак услышал от него сочетание двух слов – «альтернативное топливо»…
«Что мне делать, Миша, когда не пускают на нефтяной рынок?» – декларативно вопросил Церковер.
Его новое предложение новизной не отличалось. Начальная его суть отдавала соответствующим топливным запахом, смешанным с ароматами иррациональности, алхимии и неожиданной утопичностью. Впрочем, как и теория о живой Земле.
– Миша, давайте вместе подумаем, как противостоять мутации, – сказал Оскол. – Голодные жиды скупают по всему миру самые роскошные дворцы, яхты, газеты и футбольные клубы. И этим навлекают на наши головы зависть и гнев. Нам нельзя забывать Веймарскую республику.
Сторчак от его душеспасительных разговоров и неугомонности уставал особенно, поскольку ничем уже старику помочь не мог.
Сколот верил: рано или поздно гребень с таинственным орнаментом попадет на глаза или в космы той единственной, и она прочтет зашифрованный сигнал, призыв о помощи, снизойдет и откликнется лишенцу. Он помнил судьбу своего родителя, который много лет скитался, странствовал и бродяжил в поисках неких сокровищ, Соли Земли – призрачного мира, казавшегося тогда нереальным, некогда бывшим на свете и погибшим. За это отец даже получил прозвище Мамонт.
Но этот мир отцу открылся!
Однажды ночью, когда Сколот варил серебро, в квартиру позвонили. Такое уже случалось – тогда он замирал, прокрадывался к двери и смотрел в глазок, но на лестничной площадке обычно оказывались случайные люди. На сей раз там стояла Роксана, одетая по-домашнему, в легкомысленном халате, тапочках и, что более всего поразило его, с длинными, распущенными волосами, которые прежде всегда были закручены и убраны в прическу либо под забавный головной убор типа шляпки, кепки или дорогой меховой шапки, если зимой. Да и одежды всегда были закрытыми, чаще строгими – брючные костюмы, длиннополые плащи, пальто, и все это подобрано с подчеркнутым изяществом и вкусом.
Сейчас в полумраке лестничной площадки волосы ее светились!
Сколот дыхнул на стекло дверного глазка, потер его рукавом – нет, радужное свечение не исчезло, напротив, стало ярче, с переливом цветов, как Полярное сияние небесных косм.
Он заколебался, влекомый неким сиюминутным порывом, бросился убирать эскизы с письменного стола и даже хотел потушить тигель, однако вовремя взял себя в руки и вернулся к двери.
Соседка позвонила еще раз, стоя перед глазком, словно на портрете, и только сейчас Сколот заметил в ее руках тяжелую, толстую книгу большого формата в синеватом переплете. Роксана подождала и медленно, с сожалением удалилась, унося с собой свет, и на площадке потемнело.
Только наутро Сколота осенило – да это же она, Белая Ящерица! Дева, которую столько времени искал! Ради которой носился по улицам в бандах погромщиков, стриг космы ночным бабочкам, палил машины и дома, наказывая пороки, потом выглядывал ее в бесконечной, серой ленте толпы, каждый день спускался в бетонную трубу!
И пел для нее, чтобы услышала и откликнулась!
А она оказалась так близко, жила себе над его головой, и разделял их только потолок. Роксана давно уже посылала знаки: он должен был догадаться раньше, когда она еще приходила с кактусом! А когда повезла его в музей художника Васильева, чтобы показать, как его песни похожи на картины, он обязан был открыть глаза и увидеть!
Не случайно же зацвело то, что в принципе цвести не может, – черная, уродливая колючка. И не случайно украли полотна, устроили пожар в музее. Все это были знаки, которые он не узрел!
Смущало и обескураживало единственное: если она Дева, то почему замужем? Почему живет в одной квартире с этим странным аллергиком? Или все-таки ее лишили памяти, оставив космы?..
В тот же миг у него созрела шальная мысль проверить свои выводы. Дождавшись, когда со двора стартует автомобиль ее мужа, Сколот достал золотой гребень, прикрытый окислившимся во влажной среде монетным томпаком, решительно поднялся и позвонил в дверь верхних соседей. Роксана открыла почти сразу и словно ждала его: тот же халатик, тапочки и лишь волосы собраны в пучок.
– Я хотела только показать репродукции картин Константина Васильева, – виновато призналась она, – и посмотреть на твое чародейство… когда приходила ночью.
Сколот молча увенчал ее голову, не касаясь волос, и отступил за порог, намереваясь закрыть за собой дверь, однако Роксана его задержала:
– Погоди, Алеша! Что это? – Осторожно вынула гребень. – Какой красивый… Это же золото?
– Китайская безделушка, – заверил он и попятился на лестничную площадку.
Она взяла его за руку, ввела в прихожую и затворила дверь на внутреннюю задвижку.
– Ты не уйдешь! – опахнула манящим запахом дыхания. – Я хочу, чтобы ты этим гребнем расчесал мои волосы. Ты не узнал меня?..
Это была она!
2
В последние года полтора Сторчака преследовало ощущение усталости. От всего – от бесконечных заседаний, на которых его присутствие было обязательным, от официальных и официозных лиц, которые тасовались перед глазами, словно карты в руках шулера, от приемов по случаю и без, наградных церемоний, пошлых фуршетов с шоу-звездами, разговоров о будущем, которое, еще не наступив, уже воняло нафталином. Сторчак хоть и возглавлял атомную энергетику, но по инерции еще исполнял роль знаковой фигуры, присутствовал, заседал, посещал, резал ленточки и даже говорил, отчетливо понимая, что это ему уже не нужно. Его всё еще считали продвинутым, эффективным менеджером, еще по привычке и всерьез называли великим реформатором, университеты стояли в очереди, приглашая хотя бы для одной лекции по новейшим проблемам экономики; где-то в глубинке неизбалованные и заискивающие ректоры объявляли Сторчака почетным профессором, полагая, что ему это будет приятно. Вокруг еще колготилась некая суета, но кроме пыли, уже ничего не поднимала, даже настроения, и он в пятьдесят лет чувствовал себя старым генералом, которому не светят маршальские звезды, впрочем, как и блистательные победы, рождающие славу героя и всенародную любовь.
Он знал, отчего приходит столь ранняя усталость: начинался некий застой крови, он терял азарт, который еще лет десять назад выплескивался через край, побуждая возглавлять новорожденные, но недоношенные, быстро умирающие демократические партии, невзирая на всеобщую к нему, Сторчаку, ненависть, раздавать длинные интервью, более напоминавшие монологи, соглашаться на участие в самых скандальных идеологических передачах, хотя он отлично знал, что телезрители, едва завидев его, плевались и тут же переключали каналы. В принципе Сторчаку были безразличны ненависть и ярость толпы – такое отношение к себе он предугадывал и все равно брался за проведение непопулярных реформ, за всякое грязное дело, не позволяющее остаться чистым и непорочным. Сам он сравнивал свою долю с долей золотаря, который с утра до вечера выгребает дерьмо из туалетов и ночью пахнет не парфюмом, а тем же дерьмом, ибо его запах хоть и отпаривается в бане, но остается на тонком уровне, как радиация. И те, кто был тогда рядом, а сейчас выше его, тоже испытывали к нему нелюбовь, однако терпели и готовы были терпеть и дальше, поскольку понимали, что сами так не могут.
Сторчак давно ушел бы в глухую оппозицию – не по убеждениям, по психологическим причинам полного неприятия застоя, который выдавался за стабильность, но сейчас уже было не с кем: получив свои пайки из его рук, вчерашние товарищи разбежались по углам, чтоб не отобрали пищу, и жрали в одиночку, жадно, торопливо, а что уже не влезало и вываливалось, подбирали и опять пихали в рот.
Он мог бы отойти от дел, чтобы не смотреть на все это, отправиться на покой, но понимал: стоит спрыгнуть с круга, как его тотчас порвут на куски. И из страны уехать не мог, ибо являлся гарантом стабильного движения преобразованной России, и это было не его личное мнение. За глаза, не только в узких кругах и не только в стране, его давно уже звали на бандитский манер – Смотрящим, или на английский – Супервизором, о чем Сторчак тоже знал и не очень-то переживал по поводу своего прозвища. Напротив, старался ему соответствовать, пока и от этого не притомился.
И вот тогда заговорили, мол, или сдавать стал великий реформатор, или его сдают: на экране теперь появляется редко, да и то в качестве статиста или унылой говорящей головы, чаще всего за что-нибудь оправдывающейся, – почему-то перестали снимать в полный рост. Этот ропот особенно усилился, когда на одной из атомных станций произошла несанкционированная и пустяковая утечка радиоактивной воды и у самого ленивого появилась возможность пнуть Сторчака. Он и сам чувствовал: надо как-то выходить, выруливать из пробки, вновь напомнить о себе, а то скоро и анекдотов сочинять не будут.
Сторчаку были известны десятки способов, как это сделать, еще больше знали его советники, но сейчас почему-то ни один не срабатывал. Запущенный им слух, будто под самого? Супервизора роет прокуратура и вот-вот возбудит уголовное дело, прозвучал как глас вопиющего в пустыне. Ну слегка порадовались ярые ненавистники, постояли с плакатами жиденькой толпой, ну сам он дал парочку интервью, как в былые времена, подчеркивая собственную неуязвимость, ну еще премьер в кулуарах поклялся, что, пока он у власти, никто не посмеет тронуть Смотрящего. И политическая тектоника была едва заметной дрожью, а не землетрясением, хотя проявили интерес на сей раз сразу две крайние партии. Правые попросту вдруг вспомнили о нем, в очередной раз оставшись без вождя, на роль которого им подходил мученик, а хитрые левые вздумали таким образом опорочить Сторчака перед соперниками, настойчиво предлагая лидерство и намекая на раскаяние и смену его убеждений. И все вместе ждали, когда он взойдет на Голгофу, но поскольку он так и не взошел, все опять заглохло, захирело, покрываясь липучей, намагниченной пылью. Требовался же качественный прорыв, дабы вновь разгорячить, разогнать кровь и смыть потом усталость, как золотарь смывает вонь своей профессии.
Вторую акцию Смотрящий поручил провести Корсакову, бывшему тогда начальником его личной охраны. Взорвали бомбу мощностью четыреста граммов в тротиловом эквиваленте, обстреляли из автоматического оружия, к месту происшествия слетелась стая журналистов, поднялась волна шума и пыли, нашлись и подозреваемые из числа особо ярых ненавистников, и даже закрытый суд состоялся, но результат оказался прямо противоположным. И хоть враги сожалели, что террористы промахнулись, что в бомбу заложили мало пластида, редкие единомышленники поздравляли, назначив ему вторую дату рождения, а пресса резвилась на высокоэмоциональном уровне – его личная температура не повысилась ни на градус и утраченного азарта не вернула. К тому же «злодеев» оправдали за недоказанностью и отпустили, чуть ли не сотворив из них народных кумиров. В выигрыше остался лишь туповатый владелец элитного автосалона, который торговал бронированными «мерседесами» и по недомыслию пытался всучить Смотрящему деньги – оплатить рекламную кампанию.
Неожиданный выход предложил ветеран теневой экономики Церковер, который из-за преклонных лет никак не мог вписаться в стремительно убегающее время, однако бесконечно и настойчиво делал такие попытки, испрашивая советы у Смотрящего. Ему не удавалось наладить сырьевой бизнес – не подпускали ни к нефти, ни к газу, ни к трубам и прочим транспортным системам, а Сторчак уже ничем помочь не мог. Неугомонный Церковер по случаю сначала прикупил несколько скважин, но конкуренты устроили пожар и вынудили продать их по дешевке. Старый теневик умел держать и не такие удары. Он приобрел два ржавых танкера и судно для перевозки сжиженного газа в Японию, а когда вчерашний его приятель Чингиз Алпатов по прозвищу Хан и это отнял, причем дерзко и нагло, Церковер пришел к Смотрящему. И долго, со стариковским кряхтением, но азартным блеском в глазах размышлял над новой теорией противников добычи углеводородного сырья из земных недр. Согласно его изложению, нефть являлась кровью земли, газ – легкими, а угольные бассейны – не чем иным, как подушками безопасности, обеспечивающими равномерное вращение планеты. Сама же Земля – живой организм. Бурить скважины и бить шахты в ее коре – все равно что человеку каждый день сверлить череп и выкачивать, например, мозговую жидкость. Безумие обеспечено. А это землетрясения, цунами, извержения вулканов и прочие катастрофы вплоть до «ядерной зимы».
Было странно видеть в бывшем цеховике патриота-теоретика, однако Сторчак его терпеливо выслушал, посоветовал возглавить движение неистовых экологов и создать партию «зеленых». Церковер не обиделся, но философствовать прекратил и спросил прямо:
– Миша, зачем вы пустили «голодных» до нефти и газу? Татары, кавказцы, евреи и даже великороссы – все стали жидами! Моисей их сорок лет водил по пустыне и не смог накормить манной небесной. Я извиняюсь, Миша, но подозреваю, что вы скрытый антисемит! И забыли, что вашу бабушку звали Сарра Губер. Я отниму у вас израильский паспорт. Вы недостойны носить его в своих широких штанинах.
Израильский паспорт у Сторчака на самом деле был, однако о нем знал только один человек – покойный ныне премьер-министр Израиля, который когда-то этот документ и выдал, чтобы в случае чего защитить известного менеджера: проводить реформы в России было делом рискованным. Откуда знал о паспорте Церковер, Сторчак догадывался, ибо сам хорошо когда-то изучил личность этого предпринимателя.
Еще будучи вице-премьером, Супервизор по сути определил направление его бизнеса, позволив открывать банки, рынки и торговые центры вокруг Москвы. После того как Церковер не без помощи Сторчака выкупил четыреста гектаров земли у разорившегося НИИ зерновых и бобовых культур, расположенного сразу за Московской кольцевой дорогой, его стали называть Оскол – по населенному пункту Осколково, где располагался сам институт. Зачем ему потребовалось столько зарастающих опытных полей с перелесками, побитых стеклянных теплиц и малопригодных, ветшающих железобетонных корпусов, никто не знал, строительным бизнесом Церковер не занимался, впрочем как и сельским хозяйством, однако землю не продавал, а вкладывал деньги, воздвигая высокий железный забор по периметру, содержал многочисленную охрану, и это невзирая на значительные налоги. Губернатор области пытался сначала выкупить весь участок, потом несколько лет судился – земли относились к фонду сельхозназначения и не обрабатывались, – однако Оскол нещадно тратился на адвокатов и не отдавал ни клочка, доказывая, что эта территория принадлежала раньше науке. А чтобы пустыри не мозолили завидущие глаза, он распахивал поля и сеял то, что было дешево, – кукурузу, початки которой бережно снимал усовершенствованным комбайном, и землю вновь запахивал.
Сторчак давно и хорошо знал Оскола, считал его прагматичным, успешным предпринимателем, достаточно прижимистым, даже скупым, и объяснить его столь нерачительное поведение было невозможно. В ту пору Смотрящий создал целую школу капиталистов, куда набирал предприимчивых, но «голодных» людей, еще не подозревая, что пережитый голод – болезнь неизлечимая. И многие, кого он выкормил с руки, потом норовили ее укусить. Церковер же пришел туда «сытым», и его будущий конкурент Чингиз Алпатов, тогда еще без своего громкого прозвища Хан, скромный, даже застенчивый начальник нефтепромыслов из Сибири, взирал на известного цеховика с уважением и в рот ему смотрел. А перед Сторчаком и вовсе трепетал, как дева на выданье, не смея глаз поднять. И вот поди ж ты, осмелел, ханскую силу почуял и отнял баржи у своего однокашника пиратским образом – остановил в море, захватил вместе с нефтью и командами, поднял другие флаги, да и угнал в неизвестном направлении.
Стареющий Церковер к числу «голодных» не принадлежал, поскольку еще при коммунистах два срока отсидел за подпольные цеха на обувных фабриках, незаконные операции с золотом и был еще тогда завербован госбезопасностью в качестве платного секретного сотрудника. Подбирая кадры в свою школу капиталистического труда, Сторчак тогда еще интуитивно запрашивал досье на каждого в самых разных, даже сверхзакрытых инстанциях и, на удивление, получал их – в начале девяностых и это было возможно. Зато потом все его ученики, за редким исключением, становились ручными и управляемыми. В послужном списке Церковера он ничего особенного не вычитал – у иных будущих олигархов автобиография была куда цветистее, – однако отметил то, что искал: Оскол был инициативным, исполнительным и вполне управляемым агентом, все его доносы на товарищей по подпольному золотому рынку не имели мотивов зависти и желчной злобы. Он вообще был веселым, неунывающим человеком и однажды признался, что в юности, подражая Аркадию Райкину, писал юмористические рассказики, интермедии и обожал составлять ребусы.
Теперь Церковер жил по понятиям, добро помнил, ценил, был благодарен и, несмотря на восьмой десяток, оставался все тем же бодрячком, однако уже склонным к старческой философии, мистике и неожиданным экспериментам. Но даже при всем этом Сторчак относился к нему серьезно и с уважением, ибо запомнил его науку – случайно или с умыслом, но однажды Церковер проронил фразу, которой руководствовался сам всю свою жизнь и которая стала ключевой для будущей карьеры Смотрящего: «Запомните, Миша: кто владеет информацией, тот обладает реальной властью. Суть менеджмента заключается в умении создавать золотой запас информации и сколько угодно потом печатать бумажную валюту. Все остальное – сор, который можно выносить из избы».
Сторчак тогда не особенно-то проникся таким витиеватым философским заключением старшего товарища, но всякий раз вспоминал его, когда остро ощущал, как власть уходит из рук. И чтобы вернуть ее, он не боролся ни на ковре, ни под ковром, не плел интриг, никого не подсиживал и ничего ни у кого не просил. Он тихо и молча собирал информацию из самых разных источников, добывал ее, как старатель золото, и когда масса знаний набирала критический вес, она, власть, сама падала в руки.
Однажды Сторчак спросил Церковера про земли Осколкова и бесполезную для общества кукурузу – областной губернатор доставал, полагая, что через Смотрящего можно надавить на упрямого бизнесмена.
«Миша, идите за мной, – попросил тот. – Идите и не пожалеете. Я открою вам тайну кукурузного семени!»
Любитель ребусов привел его на стоянку автомобилей, поставил возле выхлопной трубы и велел своему водителю запустить мотор.
«Понюхайте, Миша, и скажите – чем пахнет?»
«Горелым маслом, – понюхал и заключил Сторчак. – Странный запах…»
«Вы пессимист, Миша! – развеселился Церковер. – Так пахнут жареные пирожки! Когда вы в последний раз ели пирожки? Знаете, когда жарят прямо на улице, на большом противне, где много кипящего масла? Да, там много канцерогенов, сплошной холестерин, но как это вкусно, Миша! В вологодской пересылке я слышал этот аромат сквозь решетчатое окно и мечтал хоть чуть-чуть отравиться вредными веществами. Там жарили пирожки на улице Энгельса…»
Если опустить его лирические отступления о своем мрачном прошлом, получалось, что Оскол из кукурузного зерна получает масло и заправляет его в бак автомобиля, для чего приобрел в Штатах технологическую линию.
И тогда впервые Сторчак услышал от него сочетание двух слов – «альтернативное топливо»…
«Что мне делать, Миша, когда не пускают на нефтяной рынок?» – декларативно вопросил Церковер.
Его новое предложение новизной не отличалось. Начальная его суть отдавала соответствующим топливным запахом, смешанным с ароматами иррациональности, алхимии и неожиданной утопичностью. Впрочем, как и теория о живой Земле.
– Миша, давайте вместе подумаем, как противостоять мутации, – сказал Оскол. – Голодные жиды скупают по всему миру самые роскошные дворцы, яхты, газеты и футбольные клубы. И этим навлекают на наши головы зависть и гнев. Нам нельзя забывать Веймарскую республику.
Сторчак от его душеспасительных разговоров и неугомонности уставал особенно, поскольку ничем уже старику помочь не мог.