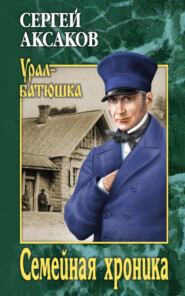По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Детские годы Багрова-внука
Жанр
Серия
Год написания книги
1858
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На поля зефиры мчатся
И опять летят с полей;
Шумом их слова твердятся:
Heт, здесь нет твоих друзей.
Травка, былиё, цветочек,
Жёлты класы, вид полей,
Всякий мне твердит листочек:
Нет, здесь нет твоих друзей.
Так, их нет со мной, конечно,
Нет друзей души моей:
Я мучение сердечно
Без моих терплю друзей.
И эти бедные вирши (напечатанные, кажется, в «Аонидах») не только в пении, где мелодия и голос певца или певицы придают достоинство и плохим словам, но даже в чтении производили на меня живое и грустное впечатление. Я выучил их наизусть и читал с большим увлечением; окружающие хвалили меня. Мать сказала об этом Прасковье Ивановне, и она очень была довольна, что мне так нравится любимая её песня. Она заставила меня прочесть её вслух при гостях в диванной и очень меня хвалила. С этих пор я стал пользоваться её особенной благосклонностью.
Чурасовская лакейская и девичья по-прежнему, или даже более, возбуждали опасения моей матери, и она заранее взяла все меры, чтоб предохранить меня от вредных впечатлений. Она строго приказала мне ни с кем не разговаривать, не вслушиваться в речи лакеев и горничных и даже не смотреть на их неприличное между собой обращение. Евсеичу и Параше было приказано отдалять нас от чурасовской прислуги. Но исполнение таких приказаний трудно, и никогда нельзя на него полагаться. Ушей не заткнёшь и глаз не зажмуришь, и услыхав или увидав кое-что новое и любопытное – захочешь услышать или увидеть продолжение. Самая строгость запрещения подстрекала любопытство, и я невольно обращал внимание на многое, чего мне не надо было ни слышать, ни видеть. Опасаясь, чтоб не вышло каких-нибудь неприятных историй, сходных с историей Параши, а главное, опасаясь, что мать будет бранить меня, я не всё рассказывал ей, оправдывая себя тем, что она сама позволила мне не сказывать тётушке Татьяне Степановне о моём посещении её заповедного амбара. Дети необыкновенно памятливы, и часто неосторожно сказанное при них слово служит им поощрением к такого рода поступкам, которых они не сделали бы, не услыхав этого ободрительного слова.
Я всегда предпочитал детскому обществу общество людей взрослых, но в Чурасове оно как-то меня не удовлетворяло. Сидя в диванной и внимательно слушая, о чём говорили, чему так громко смеялись, я не мог понять, как не скучно было говорить о таких пустяках? Ничто не возбуждало моего сочувствия, и все рассказы разных анекдотов о соседях, видно очень смешные, потому что все смеялись, казались мне незанимательными и незабавными. Я пробовал даже сидеть в гостиной подле играющих в карты, но и там мне было скучно, потому что я не понимал игры, не понимал слов и не понимал споров играющих, которые иногда довольно горячились. Любимыми гостями Прасковьи Ивановны были: Александр Михайлыч Карамзин и Никита Никитич Философов, женатый на его сестре. Карамзина все называли богатырём; и в самом деле редко можно было встретить человека такого крепкого, могучего сложения. Он был высок ростом, необыкновенно широк в плечах, довольно толст и в то же время очень строен; грудь выдавалась у него вперёд колесом, как говорится; нрав имел он горячий и весёлый; нередко показывал он свою богатырскую силу, играя двухпудовыми гирями, как лёгкими шариками. Один раз, в припадке весёлости, схватил он толстую и высокую Дарью Васильевну и начал метать ею, как ружьём, солдатский артикул. Отчаянный крик испуганной старухи, у которой свалился платок и волосник с головы и седые косы растрепались по плечам, поднял из-за карт всех гостей, и долго общий хохот раздавался по всему дому; но мне жалко было бедной Дарьи Васильевны, хотя я думал в то же время о том, какой бы чудесный рыцарь вышел из Карамзина, если б надеть на него латы и шлем и дать ему в руки щит и копье. Н. Н. Философов был небольшого роста, но очень жив и ловок. Язык его называли бритвой: он шутил беспрестанно, и я часто слыхал выражение, что он «мёртвого рассмешит». Но повторяю, что всё это как-то мало меня занимало, и я обратился к детскому обществу милой моей сестрицы, от которого сначала удалялся. Ей было не скучно в это время, потому что в Чурасове постоянно гостили две дочери Миницких, с которыми она очень подружилась. Старшая из них, А. П., была мне ровесница и так же, как я, очень любила читать книжки. Она привезла с собой тетрадку стихотворений князя Ив. М. Долгорукова. Она очень любила его стихи и предпочитала всем другим стихам, которые слышала от меня. Я горячо вступался за своих, известных мне стихотворцев, выученных мною почти наизусть, и у нас выходили прежаркие споры. Противница моя не соглашалась со мной, и я, чтоб отомстить ей за оскорбленную честь любимых мною сочинителей, бранил кн. Долгорукова, хотя, сказать по правде, он мне очень нравился[17 - Надобно признаться, что и теперь, не между детьми, а между взрослыми, заслуженными литераторами и дилетантами литературы, очень часто происходит точно то же.], особенно стихи «Бедняку», начинающиеся так:
Парфен! Напрасно ты вздыхаешь
О том, что должен жить в степи,
Где с горя, скуки изнываешь
Ты беден – следственно, терпи.
Блаженство даром достаётся
Таким, как ты, – на небеси;
А здесь с поклона все дается,
Ты беден – следственно, терпи! и пр.
Потихоньку я выучил лучшие его стихотворения наизусть. Дело доходило иногда до ссоры, но ненадолго: на мировой мы обыкновенно читали наизусть стихи того же князя Долгорукова, под названием «Спор». Речь шла о достоинстве солнца и луны. Я восторженно декламировал похвалы солнцу, а Миницкая повторяла один и тот же стих, которым заканчивался почти каждый куплет: «Всё так, да мне луна милей». Вот как мы это делали:
Я
Луч солнца греет и питает;
Что может быть его светлей?
Он с неба в руды проникает…
Миницкая
Всё так, да мне луна милей.
Я
Когда весной оно проглянет
И верх озолотит полей,
Всё вдруг цвести, рождаться станет…
Миницкая
Всё так, да мне луна милей… и пр. и пр.
Потом Миницкая читала последующие куплеты в похвалу луне, а я – окончательные четыре стиха, в которых вполне выражается любезность князя Долгорукова:
Вперёд не спорь, да будь умнее
И знай, пустая голова,
Что всякой логики сильнее
Любезной женщины слова.
Из такого чтения выходило что-то драматическое. Я много и усердно хлопотал, передавая мои литературные убеждения, наконец довёл свою противницу до некоторой уступки; она защищала кн. Долгорукова его же стихом и говорила нараспев звучным голоском своим, не заботясь о мере:
Всё так, да Долгорукой мне милей!
Долгое отсутствие моего отца, сильно огорчавшее мою мать, заставило Прасковью Ивановну послать к нему на помощь своего главного управляющего Михайлушку, который в то же время считался в Симбирской губернии первым поверенным, ходоком по тяжебным делам: он был лучший ученик нашего слепого Пантелея. Не говоря ни слова моей матери, Прасковья Ивановна написала письмецо к моему отцу и приказала ему сейчас приехать. Отец мой немедленно исполнил приказание и, оставя вместо себя Михайлушку, приехал в Чурасово. Мать обрадовалась, но радость её очень уменьшилась, когда она узнала, что отец приехал по приказанию тётушки. Я слышал кое-какие об этом неприятные разговоры. Через несколько дней, при мне, мой отец сказал Прасковье Ивановне: «Я исполнил, тётушка, вашу волю; но если я оставлю дело без моего надзора, то я его проиграю». Прасковья Ивановна отвечала, что это всё вздор и что Михайлушка побольше смыслит в делах. Отец мой остался, но весьма неохотно. Предсказание его сбылось: недели через две Михайлушка воротился и объявил, что дело решено в пользу Богдановых. Отец мой пришёл в отчаяние, и все уверения Михайлушки, что это ничего не значит, что дело окончательно должно решиться в сенате (это говорил и наш Пантелей), что тратиться в низших судебных местах – напрасный убыток, потому что, в случае выгодного для нас решения, противная сторона взяла бы дело на апелляцию и перенесла его в сенат и что теперь это самое следует сделать нам, – нисколько не успокаивали моего отца. Прасковья Ивановна и мать соглашались с Михайлушкой, и мой отец должен был замолчать. Михайлушке поручено было немедленно выхлопотать копию с решения дела, потому что прошение в сенат должен был сочинить поверенный Пантелей Григорьич в Багрове.
Между тем наступал конец сентября, и отец доложил Прасковье Ивановне, что нам пора ехать, что к Покрову он обещал воротиться домой, что матушка все нездорова и становится слаба, но хозяйка наша не хотела и слышать о нашем отъезде. «Все пустое, – говорила она, – матушка твоя совсем не слаба, и ей с дочками не скучно, да и внучек ей оставлен на утешение. Я отпущу вас к вашему празднику, к Знаменью». Отец мой докладывал, что до Знаменья, то есть до 27 ноября, ещё с лишком два месяца и что в половине ноября всегда становится зимний путь, а мы приехали в карете. Прасковья Ивановна признала такое возражение справедливым и сказала: «Ну, так и быть, отпускаю вас к Михайлину дню».
Как ни хотелось моему отцу исполнить обещание, данное матери, горячо им любимой, как ни хотелось ему в Багрово, в свой дом, в своё хозяйство, в свой деревенский образ жизни, к деревенским своим занятиям и удовольствиям, но мысль ослушаться Прасковьи Ивановны не входила ему в голову. Он повиновался, как и всегда. Я был огорчён не меньше отца. С каждым днём более и более надоедала мне эта городская жизнь в деревне; даже мать скорее желала воротиться в противное ей Багрово, потому что там оставался маленький братец мой, которому пошёл уже третий год. Отец очень грустил и даже плакал. П. И. Миницкий и А. И. Ковригина, как самые близкие люди к Прасковье Ивановне, решились попробовать упросить её, чтоб она нас отпустила или, по крайней мере, хоть одного моего отца. Но Прасковья Ивановна приняла такое ходатайство с большим неудовольствием и сказала: «Алексея я, пожалуй бы, отпустила, да это огорчит Софью Николавну, а я так её люблю, что не хочу с ней скоро расстаться и не хочу её огорчить». Делать было нечего. Отложили мысль об отъезде, попринудили себя, и весёлая чурасовская жизнь потекла по-прежнему. Пришёл Покров. Проснувшись довольно рано поутру, я увидел, что отец мой сидит на постели и вздыхает. Я спросил его о причине, и он, встав потихоньку, чтоб не разбудить мою мать, подошёл ко мне, сел на диван, на котором я обыкновенно спал, и сказал вполголоса: «Я уж давно не сплю. Я видел дурной сон, Серёжа. Верно, матушка очень больна». Слёзы показались у него на глазах. Мне стало так жаль бедного моего отца, что я начал его обнимать и сам готов был заплакать. В самую эту минуту проснулась мать и очень удивилась, увидя, что мы с отцом обнимаемся. Она подумала, не захворал ли я; но отец рассказал ей, в чём состояло дело, рассказал также и свой сон, только так тихо, что я ни одного слова не слыхал. Мать старалась его успокоить и говорила, что он видел сон страшный, а не дурной и что «праздничный сон – до обеда». Эти слова запали в мой ум, и я принялся рассуждать: «Как же это маменька всегда говорила, что глупо верить снам и что все толкования их – совершенный вздор, а теперь сама сказала, что отец видел страшный, а не дурной сон? Стало, бывают сны дурные? Стало, праздничный сон сбывается до обеда? Сегодня большой праздник. Вот увидим, что случится до обеда». Кажется, мать успела успокоить моего отца, потому что после они разговаривали весело. Вскоре все встали, начали одеваться и потом пошли к обедне. Прасковья Ивановна была уже в церкви. Мало-помалу собрались все гости и домашние: началась служба, священник и дьякон были в новых золотых ризах. Прасковья Ивановна пела, стоя у клироса, вместе с своими певчими. По окончании обедни все поздравили её с праздником и весело возвратились в дом, кто пешком, кто в дрожках и линейках, потому что накрапывал дождь. В гостиной нас ожидал чай и кофе. Вдруг вошёл человек, подал моему отцу письмо и сказал, что его привёз нарочный из Багрова. Отец мой побледнел, руки у него затряслись; он с трудом распечатал конверт, прочёл первые строки, зарыдал, опустил письмо на колени и сказал: «Матушка отчаянно больна». Все очень встревожились; но мать и я были особенно поражены, потому что вспомнили сон. Не дочитывая письма, отец обратился к Прасковье Ивановне и твёрдым голосом сказал: «Как вам угодно, тётушка, а мы сегодня же едем; если вы не пустите Софью Николавну, то я поеду один, на перекладных, в телеге». Прасковья Ивановна, сама очень встревоженная, торопливо сказала: «Поезжайте все, я вас не держу». Отец ту же минуту вышел, чтоб распорядиться к немедленному отъезду. Письмо дочитали; тётушка Татьяна Степановна писала: «Поспешите, братец, своим приездом. Матушка отчаянно больна. Третий день в жару и без памяти. Послали за священником. Я к вам посылаю нарочного, моего Николая. Приказала ему и день и ночь ехать на переменных. Матушка как опомнится на минутку, то всё спрашивает вас». В конце была приписка, что священник приехал, исповедовал больную глухою исповедью и приобщил запасными дарами и говорит, что она очень трудна. Видно было, что Прасковью Ивановну сильно взволновало и огорчило это известие. Она не пустила моего отца к Покрову в Багрово без всякой основательной причины и, конечно, очень в том раскаивалась. Печально и строго было её лицо, брови сдвинуты. Она долго молчала; молчали и все. Потом, сказав: «Боже сохрани и помилуй, если он не застанет матери!» – встала и ушла в свою спальню. Страх и жалость боролись в моей душе. Мне жалко было бабушку и еще более жалко моего отца. Но скоро суеверный страх взял верх, овладел всеми моими чувствами. К Покрову отец обещал приехать, в Покров видел дурной сон, и в тот же день, через несколько часов, – до обеда сон исполнился. Что же это значит? Можно ли после этого не верить снам? Не бог ли посылает их? И я долго верил им, хотя, правду сказать, мои сны никогда не сбывались.
Мать пошла укладываться, и к обеду было всё уложено. Подали кушать. Прасковья Ивановна наперёд зашла к нам в кабинет. Она была уже спокойна и твёрдым голосом уговаривала моего отца не сокрушаться заранее, а положиться во всём на милость божию. «Я надеюсь, – между прочим сказала она, – что Господь не накажет так строго меня, грешную, за мою неумышленную вину. Надеюсь, что ты застанешь Арину Васильевну живою и что в день Покрова Божией Матери, то есть сегодня, она почувствует облегчение от болезни». Отец мой как будто несколько ободрился от её слов. Прасковья Ивановна взяла за руки моего отца и мать и повела их в залу, где ожидало нас множество гостей, съехавшихся к празднику. Она посадила нас всех около себя и особенно занималась нами. Покуда мы обедали, карета была подана к крыльцу. После стола, выпив кофею, без чего Прасковья Ивановна не хотела нас пустить, она первая встала и, помолясь богу, сказала: «Прощайте, друзья мои. Благодарю Алексея Степаныча за исполнение моего желанья и за послушание. А тебя, Софья Николавна, за твою родственную любовь и дружбу. Кажется, мы с тобой друг друга не разлюбим. Пришлите ко мне нарочного с известием об Арине Васильевне…»
Через несколько минут мы уже ехали небольшой рысью и по грязной дороге. Осенний, мелкий дождь с ветром так и рубил в поднятое окно, подле которого я сидел, и водяные потоки, нагоняя и перегоняя друг друга, невольно наблюдаемые мною, беспрестанно текли во всю длину стекла. Не успел я опомниться, как уже начало становиться темно, и сумерки, как мне казалось, гораздо ранее обыкновенного, обхватили нашу карету. Чуть-чуть светлела красноватая полоса там, где село солнышко. У нас была совершенная тишина; никто не говорил ни одного слова.
Осенняя дорога в Багрово
На другой день, часов в десять утра, въехали мы в Симбирск. Погода стояла самая неблагоприятная: по временам шёл мелкий, осенний дождь и постоянно дул страшный ветер. Мы остановились в том же доме, выкормили лошадей и сейчас поехали на перевоз. Спуск с Симбирской горы представлял теперь несравненно более трудностей, чем подъем на нее: гора ослизла, тормоза не держали, и карета катилась боком по косогору. Оставаться в экипаже было опасно, и мы, несмотря на грязь и дождь, должны были идти пешком. Волга… страшно вообразить, что такое была Волга! Она вся превратилась в водяные бугры, которые ходили взад и вперёд, желтые и бурые около песчаных отмелей и чёрные посредине реки; она билась, кипела, металась во все стороны и точно стонала; волны беспрестанно хлестали в берег, взбегая на него более чем на сажень. По всему водяному пространству, особенно посреди Волги, играли беляки: так называются всплески воды, когда гребни валов, достигнув крайней высоты, вдруг обрушиваются и рассыпаются в брызги и белую пену. Невыразимый ужас обнял мою душу, и одна мысль плыть по этому страшному пути – леденила мою кровь и почти лишала меня сознания. На берегу сказали нам, что теперь перевозу нет и что все перевозчики разошлись, кто в кабак, кто в харчевню. Но отец мой немедленно хотел ехать и послал отыскать перевозчиков; сейчас явились несколько человек и сказали, что надо часок погодить, что перед солнечным закатом ветер постихнет и что тогда можно будет благополучно доставить нас на ту сторону. Между тем в ожидании этого благополучного часа стали грузиться. Опять выбрали лучшую и новую завозню, поставили нашу карету, кибитку и всех лошадей. Ветер в самом деле стал как будто утихать. Заметили, что с той стороны отвалила завозня, и наша проворно отчалила от пристани и пошла на шестах вверх около берега, намереваясь взвестись как можно выше. С нами остались Параша и Евсеич. Приготовили и для нас большую косную лодку. Явился знакомый нам хозяин, или перевозчичий староста, как его иногда называли; он сам хотел править кормовым веслом и отобрал отличных шестерых гребцов, но предложил подождать ещё с полчасика. Слава богу, что он сделал нам это предложение, потому что ветер, утихнув на несколько минут, разыгрался пуще прежнего, и пуще прежнего закипела Волга, и сами перевозчики сказали, что «оно конечно, доставить можно, да будет маленько страховито; лодка станет нырять, и, пожалуй, господа напугаются». Тут я точно очнулся от какого-то оцепенения и со слезами принялся просить и молить, чтоб сегодня не ездить. В первый раз я видел, что отец сердился на меня и говорил, что я «дрянь, трусишка!». «Ну, посмотри на сестру, – продолжал он, – ведь тебе стыдно! Она девочка, а не плачет и не просит, чтоб остались». Сестрица моя точно не плакала. Но когда спросили её: «Ты не боишься? хочешь ехать?» – она отвечала, что боится и ехать не хочет. Мать, видя, что я весь дрожу от страха, стала уговаривать отца остаться до утра. Отец всё не соглашался. Перевозчики молча смотрели на нас несколько времени; наконец хозяин сказал: «Али до утра, ваше благородие? На заре беспременно ветер затихнет, и мы вас мигом доставим. Погодка точно разыгралась, и вашу завозню больно далеко снесёт. Вот она только что пошла на перебой, а уж таперь ниже пристани. Версты две снесёт. Придётся им заночевать у Гусиной Луки[18 - Г у с и н о ю Л у к о ю назывался длинный залив позади песчаной косы.] и завтра навряд им добиться до пристани прежде вас». Эти слова порешили дело. Но теперь возник вопрос, где ночевать, на чём спать и что есть? Платье, подушки, постели, съестные припасы – всё было отправлено на ту сторону, а утренней зари надо дожидаться часов двенадцать. Хозяин вывел нас из затруднения: он предложил нам свою квартиру, которую нанимал для себя и работников на самом берегу, а что-нибудь поесть обещал достать нам из харчевни. Мы с благодарностью воспользовались его предложением; дождь порядочно уже нас вымочил, и мы с радостью вошли в теплую избу, которую всю нам уступили. Чаю в харчевне нельзя было достать, но и тут помог нам хозяин: под горою, недалеко от нас, жил знакомый ему купец; он пошел к нему с Евсеичем, и через час мы уже пили чай с калачами, который был и приятен, и весьма полезен всем нам; но ужинать никто из нас не хотел, и мы очень рано улеглись кое-как по лавкам на сухом сене.
Чуть брезжилось, когда нас разбудили; даже одеваться было темно. Боже мой, как нам с сестрицей не хотелось вставать! Из тёплого гнездушка идти на сырой и холодный осенний воздух, на самом рассвете, когда особенно сладко спится, да еще прямо на лодку!.. Но отец беспрестанно торопил, и мы, одевшись, почти бегом побежали на пристань: красная заря горела сквозь серое небо и предвещала сильный ветер. Дождя не было, но нельзя сказать, чтоб было тихо: резкий ветерок уже упорно тянул и крупной рябью подёргивал водяную поверхность. Гребцы, держа в руках вёсла, сидели на своих местах. Хозяин поспешно перевёл нас по доскам на лодку и усадил в ней по лавкам на самой середине. Страх сжимал мое сердце, и я сидел, как говорится, ни жив ни мёртв. Мы недолго взводились вверх и скоро пошли на перебой. Гребцы работали с необыкновенным усилием, лодка летела; но едва мы, достигнув середины Волги, вышли из-под защиты горы, подул сильный ветер, страшные волны встретили нас, и лодка начала то подыматься носом кверху, то опускаться кормою вниз; я вскрикнул, бросился к матери, прижался к ней и зажмурил глаза. Я открыл их тогда, когда услышал, что до берегу недалеко. Точно, берег был уже близок, но в лодке происходила суматоха, которой я с закрытыми глазами до тех пор не замечал, и наш кормщик казался очень озабоченным и даже испуганным. Гребли только четверо, а двое гребцов выливали воду, один – каким-то длинным ковшом, а другой – шляпой. Вода в лодке выступила уже сквозь пол и подмочила нам ноги, а в корме было её очень много. Я не вполне понял важность происшествия и очень удивился, когда отец, высадив нас всех на берег, накинулся с бранью на хозяина гребцов. «Ах ты, разбойник, – говорил мой отец, – как мог ты подать нам худую лодку! Ведь ты нас едва не утопил! Да знаешь ли ты, что я тебя сейчас отправлю к симбирскому городничему?» Бедный наш кормщик, стоя без шляпы и почтительно кланяясь, говорил: «Помилуйте, ваше благородие, разве я этому делу рад, разве мне свой живот надоел? Ведь и я потонул бы вместе с вами. Грех такой вышел. Хотел поусердствовать вам, самую лучшую посуду дал, новую; только большим господам ее дают. Всего раз десять была в деле. С Успеньева дня её и не трогали. Воды не было ни капли, как мы поехали. Ума не приложу, отчего такая беда случилась. Я, вестимо, без вины виноват. Помилосердуйте, простите, заставьте за себя век бога молить…» – и он повалился в ноги моему отцу. Ему сейчас велели встать и сказали, что прощают его вину и жаловаться не будут.
Завозни нашей с каретой ещё у пристани не было: предсказание нашего хозяина-кормщика сбылось из слова в слово. Она медленно подвигалась на шестах снизу и находилась еще от нас не менее версты, как говорили перевозчики. Отцу моему захотелось узнать, отчего потекла наша лодка; её вытащили на берег, обернули вверх дном и нашли, что у самой кормы она проломлена чем-то острым; дыра была пальца в два шириною. Как это случилось, никто объяснить не мог. Долго толковали перевозчики и наконец порешили, что это кто-нибудь со зла проломил железным ломом. Отверстие было довольно высоко над водою, и в тихую погоду можно было плавать на лодке безопасно, но гребни высоких валов попадали в дыру. Если б недоглядели и не принялись вовремя выливать воду, лодка наполнилась бы ею, села глубже, и тогда гибель была неизбежна. Тут только я понял, какой опасности мы подвергались, и боязнь, отвращение от переправ через большие реки прочно поселилась в моей душе. Наконец приплыла наша завозня; она точно ночевала у Гусиной Луки, на мели, кое-как привязавшись к воткнутым в песок шестам. Люди наши рассказывали, что натерпелись такого страху, какого сроду не видывали, что не спали всю ночь и пробились с голодными лошадьми, которые не стояли на месте и несколько раз едва не опрокинули завозню. Нас ожидала новая остановка и потеря времени: надо было заехать в деревню Часовню, стоящую на самом берегу Волги, и выкормить лошадей, которые около суток ничего не ели.
Нельзя было узнать моего отца. Всегда тихий и спокойный, он рвался с досады, что столько времени пропадало даром, и беспрестанно сердился. Мать принуждена была его уговаривать и успокаивать, что всегда, бывало, делывал отец с нею, и я с любопытством смотрел на эту перемену. Мать говорила очень долго и так хорошо, как и в книжках не пишут. Между прочим, она сказала ему, что безрассудно сердиться на Волгу и бурю, что такие препятствия не зависят от воли человеческой и что грешно роптать на них, потому что их посылает бог, что, напротив, мы должны благодарить его за спасение нашей жизни… Но я не умею так рассказать, как она говорила. Наконец мало-помалу отец мой успокоился, хотя всё оставался очень грустен. Выкормив лошадей, мы пустились в дальнейший путь. Мы не жалели своих добрых коней и в две пряжки, то есть в два переезда, проехали почти девяносто вёрст и на другой день в обед были уже в Вишенках. Простояв часа четыре, мы опять пустились в дорогу и ночевали в деревне, называемой «Один двор». Судьба захотела испытать терпенье моего отца. Когда душа его рвалась в Багрово, к умирающей матери, препятствия вырастали на каждом шагу. Всё путешествие наше было самое неудачное, утомительное, печальное. После постоянного ненастья, от которого размокла чернозёмная почва, сначала образовалась страшная грязь, так что мы с трудом стали уезжать по пятидесяти верст в день; потом вдруг сделалось холодно и, поднявшись на заре, чтоб выбраться поранее из грязного «Одного двора», мы увидели, что грязь замерзла и что земля слегка покрыта снегом. Сначала отец не встревожился этим и говорил, что лошадям будет легче, потому что подмёрзло, мы же с сестрицей радовались, глядя на опрятную белизну полей; но снег продолжал идти час от часу сильнее и к вечеру выпал с лишком в полторы четверти; езда сделалась ужасно тяжела, и мы едва тащились шагом, потому что мокрый снег прилипал к колёсам и даже тормозил их. Так ехали мы целый следующий день и проехали только тридцать вёрст. К вечеру пошел дождь, снег почти растаял, и хотя дорога стала еще грязнее, но всё лошадям было легче. Тут явилась новая беда: мать захворала, и так сильно, что, отъехав двадцать пять вёрст, мы принуждены были остановиться и простоять более суток. Как было грустно мне и моей милой сестрице! Мы жили в грязной чувашской избе. Мать лежала под пологом, отец с Парашей беспрестанно подавали ей какие-то лекарства, а мы, сидя в другом углу, перешёптывались вполголоса между собой и молились богу, чтоб он послал маменьке облегчение.
Только на седьмой день, довольно рано утром, добрались мы до Неклюдова и подъехали к крыльцу очень странно построенного дома Кальпинских, всего в двадцати верстах от Багрова. Мы с сестрицей никогда там не бывали, да и теперь бы отец не заехал, но так пришлось, что надобно было выкормить усталых лошадей. Хозяйка встретила мою мать в сенях и ушла с нею в дом, а отец высадил меня и сестру из кареты и повёл за руку. В зале встретил нас И. Н. Кальпинский; отец, здороваясь с ним, поспешно спросил: «А что матушка?» – «Разве вы не знаете?» – возразил хозяин. «Вот другая неделя, как ничего не знаем», – отвечал отец. «Приказала долго жить, – преспокойно сказал Кальпинский, – скончалась в самый Покров». Боже мой, что сделалось с моим отцом! Он всплеснул руками, тихо промолвил: «В Покров», – побледнел, весь задрожал и конечно бы упал, если б Кальпинский не подхватил его и не посадил на стул. Между тем матери в гостиной успели уже сказать о кончине бабушки; она выбежала к нам навстречу и, увидя моего отца в таком положении, ужасно испугалась и бросилась помогать ему. Принесли холодной воды, вспрыснули ему лицо, облили голову, отец пришёл в себя, и ручьи слёз полились по его бледному лицу. Ему дали выпить стакан холодной воды, и Кальпинский увел его к себе в кабинет, где отец мой плакал навзрыд более часу, как маленькое дитя, повторяя только иногда: «Бог судья тётушке! на её душе этот грех!» Между тем вокруг него шли уже горячие рассказы и даже споры между моими двоюродными тётушками, Кальпинской и Лупеневской, которая на этот раз гостила у своей сестрицы. С мельчайшими подробностями рассказывали они, как умирала, как томилась моя бедная бабушка; как понапрасну звала к себе своего сына; как на третий день, именно в день похорон, выпал такой снег, что не было возможности провезти тело покойницы в Неклюдово, где и могилка была для неё вырыта, и как принуждены была похоронить ее в Мордовском Бугуруслане, в семи верстах от Багрова. «Вот бог-то всё по-своему делает, – говорила Флёна Ивановна Лупеневская, – покойный дядюшка Степан Михайлыч, царство ему небесное, не жаловал нашего Неклюдова и слышать не хотел, чтоб его у нас похоронили, а косточки его лежат возле нашей церкви. Тётушка же так нас любила, как родных дочерей, и всей душенькой желала и приказывала, чтоб положить ее в Неклюдове, рядом с Степаном Михайлычем, а пришлось лечь в Мордовском Бугуруслане, у отца Василья». Катерина же Ивановна Кальпинская прибавляла вполголоса, как будто про себя: «Так уже сами не захотели. Всё генеральша. И провезти было можно, и подождать было можно, снег-то всего лежал одни сутки». Но Флёна Ивановна, вслушавшись, возразила: «Полно, матушка сестрица, что ты грешишь на Елизавету Степановну и на всех. Проезду не было ни на санях, ни на колёсах. Ведь мы и сами поехали на похороны, да от Бахметевки воротились, ведь на Савруше-то мост снесло, а ждать тоже было нельзя, да и снег-то, может, и не сошёл бы. Нет, сестрица, не греши; уж так было угодно богу; а вот братец-то не застал Арины Васильевны, так это жалко». Такими-то утешительными разговорами успокоивали хозяйки огорчённого сына! Наконец сестры заспорили и подняли крик. Мать упросила всех оставить моего отца одного. Даже нас выслала и сама с ним осталась. После она сказала мне, что отец долго ещё плакал и, наконец, заснул у неё на груди. У Катерины Ивановны Кальпинской было три дочери и один сын, ещё маленький. Мы их совсем не знали. Они сначала дичились нас, но потом стали очень ласковы и показались нам предобрыми; они старались нас утешить, потому что мы с сестрицей плакали о бабушке, а я ещё более плакал о моём отце, которого мне было так жаль, что я и пересказать не могу. Нас потчевали чаем и завтраком; хотели было потчевать моего отца и мать, но я заглянул к ним в дверь, мать махнула мне рукой, и я упросил, чтоб к ним не входили. Часа через два вышла к нам мать и сказала: «Слава богу, теперь Алексей Степаныч спокойнее, только хочет поскорее ехать». Но лошадям надо было хорошенько отдохнуть и выкормиться, а потому мы пробыли ещё часа два и даже пообедали; отец не выходил за стол и ничего не ел. После обеда мы распростились с хозяевами и тотчас поехали. Всю остальную дорогу я смотрел на лицо моего отца. На нём выражалась глубокая, неутешная скорбь, и я тут же подумал, что он более любил свою мать, чем отца; хотя он очень плакал при смерти дедушки, но такой печали у него на лице я не замечал. Мать старалась заговаривать с ним и принуждала отвечать на её вопросы. Она с большим чувством и нежностью вспоминала о покойной бабушке и говорила моему отцу: «Ты можешь утешаться тем, что был всегда к матери самым почтительным сыном, никогда не огорчал её и всегда свято исполнял все её желания. Она прожила для женщины долгий век (ей было семьдесят четыре года); она после смерти Степана Михайлыча ни в чём не находила утешения и сама желала скорее умереть». Отец мой отвечал, проливая уже тихие слёзы, что это все правда и что он бы не сокрушался так, если б только получил от неё последнее благословение, если б она при нём закрыла свои глаза. «Тётушка всему причиной, – с горячностью сказал мой отец. – Зачем она меня не пустила? Из каприза…» Мать прервала его и начала просить, чтоб он не сердился и не винил Прасковью Ивановну, которая и сама ужасно огорчена, хотя и скрывала свои чувства, которая не могла предвидеть такого несчастия. «Правда, правда, – сказал мой отец со вздохом, – видно, уж так угодно богу», – снова залился слезами и обнял мою мать. Мы с сестрицей во всё время плакали потихоньку, и даже Параша утирала свои глаза. В разговорах такого рода прошла вся дорога от Неклюдова до Багрова, и я удивился, как мы скоро доехали. Карета с громом взъехалана мост через Бугуруслан, и тут только я догадался, что мы так близко от нашего милого Багрова. Эта мысль на ту минуту рассеяла мое печальное расположение духа, и я бросился к окошку, чтоб посмотреть на наш широкий пруд. Боже мой! Как показался он мне печален! Дул жестокий ветер, мутные валы ходили по всему пруду, так что напомнили мне Волгу; мутное небо отражалось в них; камыши высохли, пожелтели, волны и ветер трепали их во все стороны, и они глухо и грустно шумели. Зелёные берега, зелёные деревья – все пропало. Деревья, берега, мельница и крестьянские избы – всё было мокро, черно и грязно. На дворе радостным лаем встретили нас Сурка и Трезор (легавая собака, которую я тоже очень любил); я не успел им обрадоваться, как увидел, что на крыльце уже стояли двое дядей, Ерлыкин и Каратаев, и все четыре тётушки: они приветствовали нас громким вытьем, какое уже слышал я на дедушкиных похоронах. Нашу карету увидели издали, когда она начала спускаться с горы, а потому не только тётушки и дяди, но вся дворня и множество крестьян и крестьянок толпою собрались у крыльца.
Жизнь в Багрове после кончины бабушки
Можно себе вообразить, сколько тут было слёз, рыданий, причитаний, обниманья и целованья! Мать со мной и сестрицей скоро вошла в дом, а отец долго не приходил; он со всеми поздоровался и со всеми поплакал. Наконец собрались в гостиную, куда привели и милого моего братца, который очень обрадовался нам с сестрицей. В короткое время нашей разлуки он вырос, очень похорошел и стал лучше говорить. Двоюродные сестры наши, Ерлыкины, также были там. Мы увиделись с ними с удовольствием, но они обошлись с нами холодно. Целый вечер провели в печальных рассказах о болезни и смерти бабушки. У ней было предчувствие, что она более не увидит своего сына, и она, даже ещё здоровая, постоянно об этом говорила; когда же сделалась больна, то уже не сомневалась в близкой смерти и сказала: «Не видать мне Алёши!» Впрочем, причина болезни была случайная и, кажется, от жирной и несвежей пищи, которую бабушка любила. Перед кончиной она не отдала никаких особенных приказаний, но поручила тётушке Аксинье Степановне, как старшей, просить моего отца и мать, чтоб они не оставили Танюшу, и, сверх того, приказала сказать моей матери, что она перед ней виновата и просит у ней прощенья. Всё это Аксинья Степановна высказала при всех, к изумлению и неудовольствию своих сестёр. После я узнал, что они употребляли все средства и просьбы и даже угрозы, чтоб заставить Аксинью Степановну не говорить таких, по мнению их, для покойницы унизительных слов, но та не послушалась и даже сказала при них самих. Мать отвечала: «Я от всей души прощаю, если матушка (царство ей небесное!) была против меня в чём-нибудь несправедлива. Я и сама была виновата перед ней и очень сокрушаюсь, что не могла испросить у ней прощенья. Но надеюсь, что она, по доброте своей, простила меня». После этого долго шли разговоры о том, что бабушка к Покрову просила нас приехать и в Покров скончалась, что отец мой именно в Покров видел страшный и дурной сон и в Покров же получил известие о болезни своей матери. Все эти разговоры я слушал с необыкновенным вниманием. Припоминая наше первое пребывание в Багрове и некоторые слова, вырывавшиеся у моей матери, тогда же мною замеченные, я старался составить себе сколько-нибудь ясное и определённое понятие: в чём могла быть виновата бабушка перед моею матерью и в чём была виновата мать перед нею? Верование же моё в предчувствие и в пророческие сны получило от этих разговоров сильное подкрепление.
На другой день, рано поутру, отец мой вместе с тётушкой Татьяной Степановной уехали в Мордовский Бугуруслан. Хотя на следующий день, девятый после кончины бабушки, все собирались ехать туда, чтоб слушать заупокойную обедню и отслужить панихиду, но отец мой так нетерпеливо желал взглянуть на могилу матери и поплакать над ней, что не захотел дожидаться целые сутки. Он воротился ещё задолго до обеда, бледный и расстроенный, и тётушка Татьяна Степановна рассказывала, что мой отец как скоро завидел могилу своей матери, то бросился к ней, как исступлённый, обнял руками сырую землю, «да так и замер». «Напугал меня братец, – продолжала она, – я подумала, что он умер, и начала кричать; прибежал отец Василий с попадьей, и мы все трое насилу стащили его и почти бесчувственного привели в избу к попу; насилу-то он пришёл в себя и начал плакать; потом, слава богу, успокоился, и мы отслужили панихиду. Обедню я заказала, и как мы завтра приедем, так и ударят в колокол». Я опять подумал, что отец гораздо горячее любил свою мать, чем своего отца.
В тот же день послали нарочного к Прасковье Ивановне. Мать написала большое письмо к ней, которое прочла вслух моему отцу: он только приписал несколько строк. И тогда показалось мне, что письмо написано удивительно хорошо; но тогда я не мог понять и оценить его достоинств. После я имел это письмо в своих руках – и был поражён изумительным тактом и даже искусством, с каким оно было написано: в нём заключалось совершенно верное описание кончины бабушки и сокрушения моего отца, но в то же время всё было рассказано с такою нежною пощадой и мягкостью, что оно могло скорее успокоить, чем растравить горесть Прасковьи Ивановны, которую известие о смерти бабушки до нашего приезда должно было сильно поразить.
В девятый день, в день обычного поминовения по усопшим, рано утром, все, кроме нас, троих детей и двоюродных сестёр, отправились в Мордовский Бугуруслан. Отправились также и Кальпинская с Лупеневской, приехавшие накануне. Мать хотела взять и меня, но я был нездоров, да и погода стояла сырая и холодная; я чувствовал небольшой жар и головную боль. Вероятно, я простудился, потому что бегал несколько раз смотреть моих голубей и ястребов, пущенных в зиму. На просторе я заглянул в бабушкину горницу и нашёл её точно такою же, пустою и печальною, какою я видел её после кончины дедушки. Тот же Мысеич и тот же Васька Рыжий читали псалтырь по усопшей. Я хотел было также почитать псалтырь, но не прочёл и страницы, – каждое слово болезненно отдавалось мне в голову. К обеду все воротились и привезли с собой попа с попадьей, накрыли большой стол в зале, уставили его множеством кушаний; потом подали разных блинов и так же аппетитно все кушали (разумеется, кроме отца и матери), крестясь и поминая бабушку, как это делали после смерти дедушки. Я почти ничего не ел, потому что разнемогался, даже дремал; помню только, что мать не захотела сесть на первое место хозяйки и сказала, что «покуда сестрица Татьяна Степановна не выйдет замуж, – она будет всегда хозяйкой у меня в доме». Помню также, что оба мои дяди, и даже Кальпинская с Лупеневской, много пили пива и наливок и к концу обеда были очень навеселе. Встав из-за стола, я прилёг на канапе, заснул – и уже ничего не помню, как меня перенесли на постель. Я пролежал в жару и в забытьи трое суток. Опомнившись, я сначала подумал, что проснулся после долгого сна. Мать сидела подле меня бледная, жёлтая и худая, но какое счастие выразилось на её лице, когда она удостоверилась, что я не брежу, что жар совершенно из меня вышел! Какие радостные слёзы потекли по её щекам! Как она на меня смотрела, как целовала мои руки!.. Но я с удивлением принимал её ласки; я ещё более удивился, заметив, что голова и руки мои были чем-то обвязаны, что у меня болит грудь, затылок и икры на ногах. Я хотел было встать с постели, но не имел сил приподняться… Тут только мать рассказала мне, что я был болен, что я лежал в горячке, что к голове и рукам моим привязан черный хлеб с уксусом и толчёными можжевеловыми ягодами, что на затылке и на груди у меня поставлены шпанские мушки, а к икрам горчичники… Может быть, всё это было ненужно, а может быть, именно дружное действие всех этих лекарств перервало горячку так скоро. Ничего нет приятнее выздоравливанья после трудной болезни, особенно когда видишь, какую радость производит оно во всех окружающих. Пришёл отец, сестрица с братцем, все улыбались, все обнимали и целовали меня, а мать бросилась на колени перед кивотом с образами, молилась и плакала. Я сейчас вспомнил, что маменька никогда при других не молится, и подумал, что же это значит? Сердце сказало мне причину… Но мать уже перестала молиться и обратила всё свое внимание, всю себя на попечение и заботы обо мне. Опасаясь, чтоб разговоры и присутствие других меня не взволновали, она не позволила никому долго у меня оставаться. Я в самом деле был так слаб, что утомился и скоро заснул. Это уже был сон настоящий, восстановитель сил, и через несколько часов я проснулся гораздо бодрее и крепче. Тут уже пришли ко мне и тётушки Аксинья и Татьяна Степановны, очень обрадованные, что мне лучше, а потом пришёл Евсеич, который даже плакал от радости. От него я узнал, что все гости и родные на другой же день моей болезни разъехались; одна только добрейшая моя крёстная мать, Аксинья Степановна, видя в мучительной тревоге и страхе моих родителей, осталась в Багрове, чтоб при случае в чём-нибудь помочь им, тогда как её собственные дети, оставшиеся дома, были не очень здоровы. Мать горячо ценила её добрую и любящую душу и благодарила её как умела. Видя, что мне гораздо лучше, что я выздоравливаю, она упросила Аксинью Степановну уехать немедленно домой.
Выздоровление моё тянулось с неделю; но мне довольно было этих дней, чтоб понять и почувствовать материнскую любовь во всей её силе. Я, конечно, и прежде знал, видел на каждом шагу, как любит меня мать; я наслышался и даже помнил, будто сквозь сон, как она ходила за мной, когда я был маленький и такой больной, что каждую минуту ждали моей смерти; я знал, что неусыпные заботы матери спасли мне жизнь, но воспоминание и рассказы не то, что настоящее, действительно сейчас происходящее дело. Обыкновенная жизнь, когда я был здоров, когда никакая опасность мне не угрожала, не вызывала так ярко наружу лежащего в глубине души, беспредельного чувства материнской любви. Я несколько лет сряду не был болен, и вдруг в глуши, в деревне, без всякой докторской помощи, в жару и бреду увидела мать своего первенца, любимца души своей… Понятен испытанный ею мучительный страх – понятен и восторг, когда опасность миновалась. Я уже стал постарше и был способен понять этот восторг, понять любовь матери. Эта неделя много вразумила меня, много развила, и моя привязанность к матери, более сознательная, выросла гораздо выше моих лет. С этих пор, во всё остальное время пребывания нашего в Багрове, я беспрестанно был с нею, чему способствовала и осенняя ненастная погода. Разумеется, половина времени проходила в чтении вслух; иногда мать читала мне сама, и читала так хорошо, что я слушал за новое – известное мне давно, слушал с особенным наслаждением и находил такие достоинства в прочитанных матерью страницах, каких прежде не замечал.
Между тем еще прежде моего совершенного выздоровления воротился нарочный, посланный с письмом к бабушке Прасковье Ивановне. Он привёз от неё хотя не собственноручную грамотку, потому что Прасковья Ивановна писала с большим трудом, но продиктованное ею длинное письмо. Я говорю длинное относительно тех писем, которые диктовались ею или были писаны от её имени и состояли обыкновенно из нескольких строчек. Прасковья Ивановна вполне оценила, или, лучше сказать, почувствовала письмо моей матери. Она благодарила за него в сильных и горячих выражениях, часто называя мою мать своим другом. Она очень огорчилась, что бабушка Арина Васильевна скончалась без нас, и обвиняла себя за то, что удержала моего отца, просила у него прощенья и просила его не сокрушаться, а покориться воле божией. «Если б не боялась наделать вам много хлопот, – писала она, – сама бы приехала к вам по первому снегу, чтоб разделить с вами это грустное время. У вас ведь, я думаю, тоска смертная; посторонних ни души, не с кем слова промолвить, а сами вы только скуку да хандру друг на друга наводите. Вот бы было хорошо всем вам, с детьми и с Танюшей, приехать на всю зиму в Чурасово. Подумайте-ка об этом. И я бы об вас не стала беспокоиться и скучать бы не стала без Софьи Николавны», – и проч. и проч. Приглашение Прасковьи Ивановны приехать к ней, сказанное между слов, было сочтено так, за мимолетную мысль, мелькнувшую у ней в голове, но не имеющую прочного основания. Отец мой сказал: «Вот еще что придумала тётушка! Целый век жить в дороге да в гостях; да эдак и от дому отстанешь». Тётушка Татьяна Степановна прибавила, что куда ей, деревенщине, соваться в такой богатый и модный дом, с утра до вечера набитый гостями, и что у ней теперь не веселье на уме. Даже мать сказала: «Как же можно зимою тащиться нам с тремя маленькими детьми». Согласно таким отзывам было написано письмо к Прасковье Ивановне и отправлено на первой почте. Предложение её было предано забвению.
И опять летят с полей;
Шумом их слова твердятся:
Heт, здесь нет твоих друзей.
Травка, былиё, цветочек,
Жёлты класы, вид полей,
Всякий мне твердит листочек:
Нет, здесь нет твоих друзей.
Так, их нет со мной, конечно,
Нет друзей души моей:
Я мучение сердечно
Без моих терплю друзей.
И эти бедные вирши (напечатанные, кажется, в «Аонидах») не только в пении, где мелодия и голос певца или певицы придают достоинство и плохим словам, но даже в чтении производили на меня живое и грустное впечатление. Я выучил их наизусть и читал с большим увлечением; окружающие хвалили меня. Мать сказала об этом Прасковье Ивановне, и она очень была довольна, что мне так нравится любимая её песня. Она заставила меня прочесть её вслух при гостях в диванной и очень меня хвалила. С этих пор я стал пользоваться её особенной благосклонностью.
Чурасовская лакейская и девичья по-прежнему, или даже более, возбуждали опасения моей матери, и она заранее взяла все меры, чтоб предохранить меня от вредных впечатлений. Она строго приказала мне ни с кем не разговаривать, не вслушиваться в речи лакеев и горничных и даже не смотреть на их неприличное между собой обращение. Евсеичу и Параше было приказано отдалять нас от чурасовской прислуги. Но исполнение таких приказаний трудно, и никогда нельзя на него полагаться. Ушей не заткнёшь и глаз не зажмуришь, и услыхав или увидав кое-что новое и любопытное – захочешь услышать или увидеть продолжение. Самая строгость запрещения подстрекала любопытство, и я невольно обращал внимание на многое, чего мне не надо было ни слышать, ни видеть. Опасаясь, чтоб не вышло каких-нибудь неприятных историй, сходных с историей Параши, а главное, опасаясь, что мать будет бранить меня, я не всё рассказывал ей, оправдывая себя тем, что она сама позволила мне не сказывать тётушке Татьяне Степановне о моём посещении её заповедного амбара. Дети необыкновенно памятливы, и часто неосторожно сказанное при них слово служит им поощрением к такого рода поступкам, которых они не сделали бы, не услыхав этого ободрительного слова.
Я всегда предпочитал детскому обществу общество людей взрослых, но в Чурасове оно как-то меня не удовлетворяло. Сидя в диванной и внимательно слушая, о чём говорили, чему так громко смеялись, я не мог понять, как не скучно было говорить о таких пустяках? Ничто не возбуждало моего сочувствия, и все рассказы разных анекдотов о соседях, видно очень смешные, потому что все смеялись, казались мне незанимательными и незабавными. Я пробовал даже сидеть в гостиной подле играющих в карты, но и там мне было скучно, потому что я не понимал игры, не понимал слов и не понимал споров играющих, которые иногда довольно горячились. Любимыми гостями Прасковьи Ивановны были: Александр Михайлыч Карамзин и Никита Никитич Философов, женатый на его сестре. Карамзина все называли богатырём; и в самом деле редко можно было встретить человека такого крепкого, могучего сложения. Он был высок ростом, необыкновенно широк в плечах, довольно толст и в то же время очень строен; грудь выдавалась у него вперёд колесом, как говорится; нрав имел он горячий и весёлый; нередко показывал он свою богатырскую силу, играя двухпудовыми гирями, как лёгкими шариками. Один раз, в припадке весёлости, схватил он толстую и высокую Дарью Васильевну и начал метать ею, как ружьём, солдатский артикул. Отчаянный крик испуганной старухи, у которой свалился платок и волосник с головы и седые косы растрепались по плечам, поднял из-за карт всех гостей, и долго общий хохот раздавался по всему дому; но мне жалко было бедной Дарьи Васильевны, хотя я думал в то же время о том, какой бы чудесный рыцарь вышел из Карамзина, если б надеть на него латы и шлем и дать ему в руки щит и копье. Н. Н. Философов был небольшого роста, но очень жив и ловок. Язык его называли бритвой: он шутил беспрестанно, и я часто слыхал выражение, что он «мёртвого рассмешит». Но повторяю, что всё это как-то мало меня занимало, и я обратился к детскому обществу милой моей сестрицы, от которого сначала удалялся. Ей было не скучно в это время, потому что в Чурасове постоянно гостили две дочери Миницких, с которыми она очень подружилась. Старшая из них, А. П., была мне ровесница и так же, как я, очень любила читать книжки. Она привезла с собой тетрадку стихотворений князя Ив. М. Долгорукова. Она очень любила его стихи и предпочитала всем другим стихам, которые слышала от меня. Я горячо вступался за своих, известных мне стихотворцев, выученных мною почти наизусть, и у нас выходили прежаркие споры. Противница моя не соглашалась со мной, и я, чтоб отомстить ей за оскорбленную честь любимых мною сочинителей, бранил кн. Долгорукова, хотя, сказать по правде, он мне очень нравился[17 - Надобно признаться, что и теперь, не между детьми, а между взрослыми, заслуженными литераторами и дилетантами литературы, очень часто происходит точно то же.], особенно стихи «Бедняку», начинающиеся так:
Парфен! Напрасно ты вздыхаешь
О том, что должен жить в степи,
Где с горя, скуки изнываешь
Ты беден – следственно, терпи.
Блаженство даром достаётся
Таким, как ты, – на небеси;
А здесь с поклона все дается,
Ты беден – следственно, терпи! и пр.
Потихоньку я выучил лучшие его стихотворения наизусть. Дело доходило иногда до ссоры, но ненадолго: на мировой мы обыкновенно читали наизусть стихи того же князя Долгорукова, под названием «Спор». Речь шла о достоинстве солнца и луны. Я восторженно декламировал похвалы солнцу, а Миницкая повторяла один и тот же стих, которым заканчивался почти каждый куплет: «Всё так, да мне луна милей». Вот как мы это делали:
Я
Луч солнца греет и питает;
Что может быть его светлей?
Он с неба в руды проникает…
Миницкая
Всё так, да мне луна милей.
Я
Когда весной оно проглянет
И верх озолотит полей,
Всё вдруг цвести, рождаться станет…
Миницкая
Всё так, да мне луна милей… и пр. и пр.
Потом Миницкая читала последующие куплеты в похвалу луне, а я – окончательные четыре стиха, в которых вполне выражается любезность князя Долгорукова:
Вперёд не спорь, да будь умнее
И знай, пустая голова,
Что всякой логики сильнее
Любезной женщины слова.
Из такого чтения выходило что-то драматическое. Я много и усердно хлопотал, передавая мои литературные убеждения, наконец довёл свою противницу до некоторой уступки; она защищала кн. Долгорукова его же стихом и говорила нараспев звучным голоском своим, не заботясь о мере:
Всё так, да Долгорукой мне милей!
Долгое отсутствие моего отца, сильно огорчавшее мою мать, заставило Прасковью Ивановну послать к нему на помощь своего главного управляющего Михайлушку, который в то же время считался в Симбирской губернии первым поверенным, ходоком по тяжебным делам: он был лучший ученик нашего слепого Пантелея. Не говоря ни слова моей матери, Прасковья Ивановна написала письмецо к моему отцу и приказала ему сейчас приехать. Отец мой немедленно исполнил приказание и, оставя вместо себя Михайлушку, приехал в Чурасово. Мать обрадовалась, но радость её очень уменьшилась, когда она узнала, что отец приехал по приказанию тётушки. Я слышал кое-какие об этом неприятные разговоры. Через несколько дней, при мне, мой отец сказал Прасковье Ивановне: «Я исполнил, тётушка, вашу волю; но если я оставлю дело без моего надзора, то я его проиграю». Прасковья Ивановна отвечала, что это всё вздор и что Михайлушка побольше смыслит в делах. Отец мой остался, но весьма неохотно. Предсказание его сбылось: недели через две Михайлушка воротился и объявил, что дело решено в пользу Богдановых. Отец мой пришёл в отчаяние, и все уверения Михайлушки, что это ничего не значит, что дело окончательно должно решиться в сенате (это говорил и наш Пантелей), что тратиться в низших судебных местах – напрасный убыток, потому что, в случае выгодного для нас решения, противная сторона взяла бы дело на апелляцию и перенесла его в сенат и что теперь это самое следует сделать нам, – нисколько не успокаивали моего отца. Прасковья Ивановна и мать соглашались с Михайлушкой, и мой отец должен был замолчать. Михайлушке поручено было немедленно выхлопотать копию с решения дела, потому что прошение в сенат должен был сочинить поверенный Пантелей Григорьич в Багрове.
Между тем наступал конец сентября, и отец доложил Прасковье Ивановне, что нам пора ехать, что к Покрову он обещал воротиться домой, что матушка все нездорова и становится слаба, но хозяйка наша не хотела и слышать о нашем отъезде. «Все пустое, – говорила она, – матушка твоя совсем не слаба, и ей с дочками не скучно, да и внучек ей оставлен на утешение. Я отпущу вас к вашему празднику, к Знаменью». Отец мой докладывал, что до Знаменья, то есть до 27 ноября, ещё с лишком два месяца и что в половине ноября всегда становится зимний путь, а мы приехали в карете. Прасковья Ивановна признала такое возражение справедливым и сказала: «Ну, так и быть, отпускаю вас к Михайлину дню».
Как ни хотелось моему отцу исполнить обещание, данное матери, горячо им любимой, как ни хотелось ему в Багрово, в свой дом, в своё хозяйство, в свой деревенский образ жизни, к деревенским своим занятиям и удовольствиям, но мысль ослушаться Прасковьи Ивановны не входила ему в голову. Он повиновался, как и всегда. Я был огорчён не меньше отца. С каждым днём более и более надоедала мне эта городская жизнь в деревне; даже мать скорее желала воротиться в противное ей Багрово, потому что там оставался маленький братец мой, которому пошёл уже третий год. Отец очень грустил и даже плакал. П. И. Миницкий и А. И. Ковригина, как самые близкие люди к Прасковье Ивановне, решились попробовать упросить её, чтоб она нас отпустила или, по крайней мере, хоть одного моего отца. Но Прасковья Ивановна приняла такое ходатайство с большим неудовольствием и сказала: «Алексея я, пожалуй бы, отпустила, да это огорчит Софью Николавну, а я так её люблю, что не хочу с ней скоро расстаться и не хочу её огорчить». Делать было нечего. Отложили мысль об отъезде, попринудили себя, и весёлая чурасовская жизнь потекла по-прежнему. Пришёл Покров. Проснувшись довольно рано поутру, я увидел, что отец мой сидит на постели и вздыхает. Я спросил его о причине, и он, встав потихоньку, чтоб не разбудить мою мать, подошёл ко мне, сел на диван, на котором я обыкновенно спал, и сказал вполголоса: «Я уж давно не сплю. Я видел дурной сон, Серёжа. Верно, матушка очень больна». Слёзы показались у него на глазах. Мне стало так жаль бедного моего отца, что я начал его обнимать и сам готов был заплакать. В самую эту минуту проснулась мать и очень удивилась, увидя, что мы с отцом обнимаемся. Она подумала, не захворал ли я; но отец рассказал ей, в чём состояло дело, рассказал также и свой сон, только так тихо, что я ни одного слова не слыхал. Мать старалась его успокоить и говорила, что он видел сон страшный, а не дурной и что «праздничный сон – до обеда». Эти слова запали в мой ум, и я принялся рассуждать: «Как же это маменька всегда говорила, что глупо верить снам и что все толкования их – совершенный вздор, а теперь сама сказала, что отец видел страшный, а не дурной сон? Стало, бывают сны дурные? Стало, праздничный сон сбывается до обеда? Сегодня большой праздник. Вот увидим, что случится до обеда». Кажется, мать успела успокоить моего отца, потому что после они разговаривали весело. Вскоре все встали, начали одеваться и потом пошли к обедне. Прасковья Ивановна была уже в церкви. Мало-помалу собрались все гости и домашние: началась служба, священник и дьякон были в новых золотых ризах. Прасковья Ивановна пела, стоя у клироса, вместе с своими певчими. По окончании обедни все поздравили её с праздником и весело возвратились в дом, кто пешком, кто в дрожках и линейках, потому что накрапывал дождь. В гостиной нас ожидал чай и кофе. Вдруг вошёл человек, подал моему отцу письмо и сказал, что его привёз нарочный из Багрова. Отец мой побледнел, руки у него затряслись; он с трудом распечатал конверт, прочёл первые строки, зарыдал, опустил письмо на колени и сказал: «Матушка отчаянно больна». Все очень встревожились; но мать и я были особенно поражены, потому что вспомнили сон. Не дочитывая письма, отец обратился к Прасковье Ивановне и твёрдым голосом сказал: «Как вам угодно, тётушка, а мы сегодня же едем; если вы не пустите Софью Николавну, то я поеду один, на перекладных, в телеге». Прасковья Ивановна, сама очень встревоженная, торопливо сказала: «Поезжайте все, я вас не держу». Отец ту же минуту вышел, чтоб распорядиться к немедленному отъезду. Письмо дочитали; тётушка Татьяна Степановна писала: «Поспешите, братец, своим приездом. Матушка отчаянно больна. Третий день в жару и без памяти. Послали за священником. Я к вам посылаю нарочного, моего Николая. Приказала ему и день и ночь ехать на переменных. Матушка как опомнится на минутку, то всё спрашивает вас». В конце была приписка, что священник приехал, исповедовал больную глухою исповедью и приобщил запасными дарами и говорит, что она очень трудна. Видно было, что Прасковью Ивановну сильно взволновало и огорчило это известие. Она не пустила моего отца к Покрову в Багрово без всякой основательной причины и, конечно, очень в том раскаивалась. Печально и строго было её лицо, брови сдвинуты. Она долго молчала; молчали и все. Потом, сказав: «Боже сохрани и помилуй, если он не застанет матери!» – встала и ушла в свою спальню. Страх и жалость боролись в моей душе. Мне жалко было бабушку и еще более жалко моего отца. Но скоро суеверный страх взял верх, овладел всеми моими чувствами. К Покрову отец обещал приехать, в Покров видел дурной сон, и в тот же день, через несколько часов, – до обеда сон исполнился. Что же это значит? Можно ли после этого не верить снам? Не бог ли посылает их? И я долго верил им, хотя, правду сказать, мои сны никогда не сбывались.
Мать пошла укладываться, и к обеду было всё уложено. Подали кушать. Прасковья Ивановна наперёд зашла к нам в кабинет. Она была уже спокойна и твёрдым голосом уговаривала моего отца не сокрушаться заранее, а положиться во всём на милость божию. «Я надеюсь, – между прочим сказала она, – что Господь не накажет так строго меня, грешную, за мою неумышленную вину. Надеюсь, что ты застанешь Арину Васильевну живою и что в день Покрова Божией Матери, то есть сегодня, она почувствует облегчение от болезни». Отец мой как будто несколько ободрился от её слов. Прасковья Ивановна взяла за руки моего отца и мать и повела их в залу, где ожидало нас множество гостей, съехавшихся к празднику. Она посадила нас всех около себя и особенно занималась нами. Покуда мы обедали, карета была подана к крыльцу. После стола, выпив кофею, без чего Прасковья Ивановна не хотела нас пустить, она первая встала и, помолясь богу, сказала: «Прощайте, друзья мои. Благодарю Алексея Степаныча за исполнение моего желанья и за послушание. А тебя, Софья Николавна, за твою родственную любовь и дружбу. Кажется, мы с тобой друг друга не разлюбим. Пришлите ко мне нарочного с известием об Арине Васильевне…»
Через несколько минут мы уже ехали небольшой рысью и по грязной дороге. Осенний, мелкий дождь с ветром так и рубил в поднятое окно, подле которого я сидел, и водяные потоки, нагоняя и перегоняя друг друга, невольно наблюдаемые мною, беспрестанно текли во всю длину стекла. Не успел я опомниться, как уже начало становиться темно, и сумерки, как мне казалось, гораздо ранее обыкновенного, обхватили нашу карету. Чуть-чуть светлела красноватая полоса там, где село солнышко. У нас была совершенная тишина; никто не говорил ни одного слова.
Осенняя дорога в Багрово
На другой день, часов в десять утра, въехали мы в Симбирск. Погода стояла самая неблагоприятная: по временам шёл мелкий, осенний дождь и постоянно дул страшный ветер. Мы остановились в том же доме, выкормили лошадей и сейчас поехали на перевоз. Спуск с Симбирской горы представлял теперь несравненно более трудностей, чем подъем на нее: гора ослизла, тормоза не держали, и карета катилась боком по косогору. Оставаться в экипаже было опасно, и мы, несмотря на грязь и дождь, должны были идти пешком. Волга… страшно вообразить, что такое была Волга! Она вся превратилась в водяные бугры, которые ходили взад и вперёд, желтые и бурые около песчаных отмелей и чёрные посредине реки; она билась, кипела, металась во все стороны и точно стонала; волны беспрестанно хлестали в берег, взбегая на него более чем на сажень. По всему водяному пространству, особенно посреди Волги, играли беляки: так называются всплески воды, когда гребни валов, достигнув крайней высоты, вдруг обрушиваются и рассыпаются в брызги и белую пену. Невыразимый ужас обнял мою душу, и одна мысль плыть по этому страшному пути – леденила мою кровь и почти лишала меня сознания. На берегу сказали нам, что теперь перевозу нет и что все перевозчики разошлись, кто в кабак, кто в харчевню. Но отец мой немедленно хотел ехать и послал отыскать перевозчиков; сейчас явились несколько человек и сказали, что надо часок погодить, что перед солнечным закатом ветер постихнет и что тогда можно будет благополучно доставить нас на ту сторону. Между тем в ожидании этого благополучного часа стали грузиться. Опять выбрали лучшую и новую завозню, поставили нашу карету, кибитку и всех лошадей. Ветер в самом деле стал как будто утихать. Заметили, что с той стороны отвалила завозня, и наша проворно отчалила от пристани и пошла на шестах вверх около берега, намереваясь взвестись как можно выше. С нами остались Параша и Евсеич. Приготовили и для нас большую косную лодку. Явился знакомый нам хозяин, или перевозчичий староста, как его иногда называли; он сам хотел править кормовым веслом и отобрал отличных шестерых гребцов, но предложил подождать ещё с полчасика. Слава богу, что он сделал нам это предложение, потому что ветер, утихнув на несколько минут, разыгрался пуще прежнего, и пуще прежнего закипела Волга, и сами перевозчики сказали, что «оно конечно, доставить можно, да будет маленько страховито; лодка станет нырять, и, пожалуй, господа напугаются». Тут я точно очнулся от какого-то оцепенения и со слезами принялся просить и молить, чтоб сегодня не ездить. В первый раз я видел, что отец сердился на меня и говорил, что я «дрянь, трусишка!». «Ну, посмотри на сестру, – продолжал он, – ведь тебе стыдно! Она девочка, а не плачет и не просит, чтоб остались». Сестрица моя точно не плакала. Но когда спросили её: «Ты не боишься? хочешь ехать?» – она отвечала, что боится и ехать не хочет. Мать, видя, что я весь дрожу от страха, стала уговаривать отца остаться до утра. Отец всё не соглашался. Перевозчики молча смотрели на нас несколько времени; наконец хозяин сказал: «Али до утра, ваше благородие? На заре беспременно ветер затихнет, и мы вас мигом доставим. Погодка точно разыгралась, и вашу завозню больно далеко снесёт. Вот она только что пошла на перебой, а уж таперь ниже пристани. Версты две снесёт. Придётся им заночевать у Гусиной Луки[18 - Г у с и н о ю Л у к о ю назывался длинный залив позади песчаной косы.] и завтра навряд им добиться до пристани прежде вас». Эти слова порешили дело. Но теперь возник вопрос, где ночевать, на чём спать и что есть? Платье, подушки, постели, съестные припасы – всё было отправлено на ту сторону, а утренней зари надо дожидаться часов двенадцать. Хозяин вывел нас из затруднения: он предложил нам свою квартиру, которую нанимал для себя и работников на самом берегу, а что-нибудь поесть обещал достать нам из харчевни. Мы с благодарностью воспользовались его предложением; дождь порядочно уже нас вымочил, и мы с радостью вошли в теплую избу, которую всю нам уступили. Чаю в харчевне нельзя было достать, но и тут помог нам хозяин: под горою, недалеко от нас, жил знакомый ему купец; он пошел к нему с Евсеичем, и через час мы уже пили чай с калачами, который был и приятен, и весьма полезен всем нам; но ужинать никто из нас не хотел, и мы очень рано улеглись кое-как по лавкам на сухом сене.
Чуть брезжилось, когда нас разбудили; даже одеваться было темно. Боже мой, как нам с сестрицей не хотелось вставать! Из тёплого гнездушка идти на сырой и холодный осенний воздух, на самом рассвете, когда особенно сладко спится, да еще прямо на лодку!.. Но отец беспрестанно торопил, и мы, одевшись, почти бегом побежали на пристань: красная заря горела сквозь серое небо и предвещала сильный ветер. Дождя не было, но нельзя сказать, чтоб было тихо: резкий ветерок уже упорно тянул и крупной рябью подёргивал водяную поверхность. Гребцы, держа в руках вёсла, сидели на своих местах. Хозяин поспешно перевёл нас по доскам на лодку и усадил в ней по лавкам на самой середине. Страх сжимал мое сердце, и я сидел, как говорится, ни жив ни мёртв. Мы недолго взводились вверх и скоро пошли на перебой. Гребцы работали с необыкновенным усилием, лодка летела; но едва мы, достигнув середины Волги, вышли из-под защиты горы, подул сильный ветер, страшные волны встретили нас, и лодка начала то подыматься носом кверху, то опускаться кормою вниз; я вскрикнул, бросился к матери, прижался к ней и зажмурил глаза. Я открыл их тогда, когда услышал, что до берегу недалеко. Точно, берег был уже близок, но в лодке происходила суматоха, которой я с закрытыми глазами до тех пор не замечал, и наш кормщик казался очень озабоченным и даже испуганным. Гребли только четверо, а двое гребцов выливали воду, один – каким-то длинным ковшом, а другой – шляпой. Вода в лодке выступила уже сквозь пол и подмочила нам ноги, а в корме было её очень много. Я не вполне понял важность происшествия и очень удивился, когда отец, высадив нас всех на берег, накинулся с бранью на хозяина гребцов. «Ах ты, разбойник, – говорил мой отец, – как мог ты подать нам худую лодку! Ведь ты нас едва не утопил! Да знаешь ли ты, что я тебя сейчас отправлю к симбирскому городничему?» Бедный наш кормщик, стоя без шляпы и почтительно кланяясь, говорил: «Помилуйте, ваше благородие, разве я этому делу рад, разве мне свой живот надоел? Ведь и я потонул бы вместе с вами. Грех такой вышел. Хотел поусердствовать вам, самую лучшую посуду дал, новую; только большим господам ее дают. Всего раз десять была в деле. С Успеньева дня её и не трогали. Воды не было ни капли, как мы поехали. Ума не приложу, отчего такая беда случилась. Я, вестимо, без вины виноват. Помилосердуйте, простите, заставьте за себя век бога молить…» – и он повалился в ноги моему отцу. Ему сейчас велели встать и сказали, что прощают его вину и жаловаться не будут.
Завозни нашей с каретой ещё у пристани не было: предсказание нашего хозяина-кормщика сбылось из слова в слово. Она медленно подвигалась на шестах снизу и находилась еще от нас не менее версты, как говорили перевозчики. Отцу моему захотелось узнать, отчего потекла наша лодка; её вытащили на берег, обернули вверх дном и нашли, что у самой кормы она проломлена чем-то острым; дыра была пальца в два шириною. Как это случилось, никто объяснить не мог. Долго толковали перевозчики и наконец порешили, что это кто-нибудь со зла проломил железным ломом. Отверстие было довольно высоко над водою, и в тихую погоду можно было плавать на лодке безопасно, но гребни высоких валов попадали в дыру. Если б недоглядели и не принялись вовремя выливать воду, лодка наполнилась бы ею, села глубже, и тогда гибель была неизбежна. Тут только я понял, какой опасности мы подвергались, и боязнь, отвращение от переправ через большие реки прочно поселилась в моей душе. Наконец приплыла наша завозня; она точно ночевала у Гусиной Луки, на мели, кое-как привязавшись к воткнутым в песок шестам. Люди наши рассказывали, что натерпелись такого страху, какого сроду не видывали, что не спали всю ночь и пробились с голодными лошадьми, которые не стояли на месте и несколько раз едва не опрокинули завозню. Нас ожидала новая остановка и потеря времени: надо было заехать в деревню Часовню, стоящую на самом берегу Волги, и выкормить лошадей, которые около суток ничего не ели.
Нельзя было узнать моего отца. Всегда тихий и спокойный, он рвался с досады, что столько времени пропадало даром, и беспрестанно сердился. Мать принуждена была его уговаривать и успокаивать, что всегда, бывало, делывал отец с нею, и я с любопытством смотрел на эту перемену. Мать говорила очень долго и так хорошо, как и в книжках не пишут. Между прочим, она сказала ему, что безрассудно сердиться на Волгу и бурю, что такие препятствия не зависят от воли человеческой и что грешно роптать на них, потому что их посылает бог, что, напротив, мы должны благодарить его за спасение нашей жизни… Но я не умею так рассказать, как она говорила. Наконец мало-помалу отец мой успокоился, хотя всё оставался очень грустен. Выкормив лошадей, мы пустились в дальнейший путь. Мы не жалели своих добрых коней и в две пряжки, то есть в два переезда, проехали почти девяносто вёрст и на другой день в обед были уже в Вишенках. Простояв часа четыре, мы опять пустились в дорогу и ночевали в деревне, называемой «Один двор». Судьба захотела испытать терпенье моего отца. Когда душа его рвалась в Багрово, к умирающей матери, препятствия вырастали на каждом шагу. Всё путешествие наше было самое неудачное, утомительное, печальное. После постоянного ненастья, от которого размокла чернозёмная почва, сначала образовалась страшная грязь, так что мы с трудом стали уезжать по пятидесяти верст в день; потом вдруг сделалось холодно и, поднявшись на заре, чтоб выбраться поранее из грязного «Одного двора», мы увидели, что грязь замерзла и что земля слегка покрыта снегом. Сначала отец не встревожился этим и говорил, что лошадям будет легче, потому что подмёрзло, мы же с сестрицей радовались, глядя на опрятную белизну полей; но снег продолжал идти час от часу сильнее и к вечеру выпал с лишком в полторы четверти; езда сделалась ужасно тяжела, и мы едва тащились шагом, потому что мокрый снег прилипал к колёсам и даже тормозил их. Так ехали мы целый следующий день и проехали только тридцать вёрст. К вечеру пошел дождь, снег почти растаял, и хотя дорога стала еще грязнее, но всё лошадям было легче. Тут явилась новая беда: мать захворала, и так сильно, что, отъехав двадцать пять вёрст, мы принуждены были остановиться и простоять более суток. Как было грустно мне и моей милой сестрице! Мы жили в грязной чувашской избе. Мать лежала под пологом, отец с Парашей беспрестанно подавали ей какие-то лекарства, а мы, сидя в другом углу, перешёптывались вполголоса между собой и молились богу, чтоб он послал маменьке облегчение.
Только на седьмой день, довольно рано утром, добрались мы до Неклюдова и подъехали к крыльцу очень странно построенного дома Кальпинских, всего в двадцати верстах от Багрова. Мы с сестрицей никогда там не бывали, да и теперь бы отец не заехал, но так пришлось, что надобно было выкормить усталых лошадей. Хозяйка встретила мою мать в сенях и ушла с нею в дом, а отец высадил меня и сестру из кареты и повёл за руку. В зале встретил нас И. Н. Кальпинский; отец, здороваясь с ним, поспешно спросил: «А что матушка?» – «Разве вы не знаете?» – возразил хозяин. «Вот другая неделя, как ничего не знаем», – отвечал отец. «Приказала долго жить, – преспокойно сказал Кальпинский, – скончалась в самый Покров». Боже мой, что сделалось с моим отцом! Он всплеснул руками, тихо промолвил: «В Покров», – побледнел, весь задрожал и конечно бы упал, если б Кальпинский не подхватил его и не посадил на стул. Между тем матери в гостиной успели уже сказать о кончине бабушки; она выбежала к нам навстречу и, увидя моего отца в таком положении, ужасно испугалась и бросилась помогать ему. Принесли холодной воды, вспрыснули ему лицо, облили голову, отец пришёл в себя, и ручьи слёз полились по его бледному лицу. Ему дали выпить стакан холодной воды, и Кальпинский увел его к себе в кабинет, где отец мой плакал навзрыд более часу, как маленькое дитя, повторяя только иногда: «Бог судья тётушке! на её душе этот грех!» Между тем вокруг него шли уже горячие рассказы и даже споры между моими двоюродными тётушками, Кальпинской и Лупеневской, которая на этот раз гостила у своей сестрицы. С мельчайшими подробностями рассказывали они, как умирала, как томилась моя бедная бабушка; как понапрасну звала к себе своего сына; как на третий день, именно в день похорон, выпал такой снег, что не было возможности провезти тело покойницы в Неклюдово, где и могилка была для неё вырыта, и как принуждены была похоронить ее в Мордовском Бугуруслане, в семи верстах от Багрова. «Вот бог-то всё по-своему делает, – говорила Флёна Ивановна Лупеневская, – покойный дядюшка Степан Михайлыч, царство ему небесное, не жаловал нашего Неклюдова и слышать не хотел, чтоб его у нас похоронили, а косточки его лежат возле нашей церкви. Тётушка же так нас любила, как родных дочерей, и всей душенькой желала и приказывала, чтоб положить ее в Неклюдове, рядом с Степаном Михайлычем, а пришлось лечь в Мордовском Бугуруслане, у отца Василья». Катерина же Ивановна Кальпинская прибавляла вполголоса, как будто про себя: «Так уже сами не захотели. Всё генеральша. И провезти было можно, и подождать было можно, снег-то всего лежал одни сутки». Но Флёна Ивановна, вслушавшись, возразила: «Полно, матушка сестрица, что ты грешишь на Елизавету Степановну и на всех. Проезду не было ни на санях, ни на колёсах. Ведь мы и сами поехали на похороны, да от Бахметевки воротились, ведь на Савруше-то мост снесло, а ждать тоже было нельзя, да и снег-то, может, и не сошёл бы. Нет, сестрица, не греши; уж так было угодно богу; а вот братец-то не застал Арины Васильевны, так это жалко». Такими-то утешительными разговорами успокоивали хозяйки огорчённого сына! Наконец сестры заспорили и подняли крик. Мать упросила всех оставить моего отца одного. Даже нас выслала и сама с ним осталась. После она сказала мне, что отец долго ещё плакал и, наконец, заснул у неё на груди. У Катерины Ивановны Кальпинской было три дочери и один сын, ещё маленький. Мы их совсем не знали. Они сначала дичились нас, но потом стали очень ласковы и показались нам предобрыми; они старались нас утешить, потому что мы с сестрицей плакали о бабушке, а я ещё более плакал о моём отце, которого мне было так жаль, что я и пересказать не могу. Нас потчевали чаем и завтраком; хотели было потчевать моего отца и мать, но я заглянул к ним в дверь, мать махнула мне рукой, и я упросил, чтоб к ним не входили. Часа через два вышла к нам мать и сказала: «Слава богу, теперь Алексей Степаныч спокойнее, только хочет поскорее ехать». Но лошадям надо было хорошенько отдохнуть и выкормиться, а потому мы пробыли ещё часа два и даже пообедали; отец не выходил за стол и ничего не ел. После обеда мы распростились с хозяевами и тотчас поехали. Всю остальную дорогу я смотрел на лицо моего отца. На нём выражалась глубокая, неутешная скорбь, и я тут же подумал, что он более любил свою мать, чем отца; хотя он очень плакал при смерти дедушки, но такой печали у него на лице я не замечал. Мать старалась заговаривать с ним и принуждала отвечать на её вопросы. Она с большим чувством и нежностью вспоминала о покойной бабушке и говорила моему отцу: «Ты можешь утешаться тем, что был всегда к матери самым почтительным сыном, никогда не огорчал её и всегда свято исполнял все её желания. Она прожила для женщины долгий век (ей было семьдесят четыре года); она после смерти Степана Михайлыча ни в чём не находила утешения и сама желала скорее умереть». Отец мой отвечал, проливая уже тихие слёзы, что это все правда и что он бы не сокрушался так, если б только получил от неё последнее благословение, если б она при нём закрыла свои глаза. «Тётушка всему причиной, – с горячностью сказал мой отец. – Зачем она меня не пустила? Из каприза…» Мать прервала его и начала просить, чтоб он не сердился и не винил Прасковью Ивановну, которая и сама ужасно огорчена, хотя и скрывала свои чувства, которая не могла предвидеть такого несчастия. «Правда, правда, – сказал мой отец со вздохом, – видно, уж так угодно богу», – снова залился слезами и обнял мою мать. Мы с сестрицей во всё время плакали потихоньку, и даже Параша утирала свои глаза. В разговорах такого рода прошла вся дорога от Неклюдова до Багрова, и я удивился, как мы скоро доехали. Карета с громом взъехалана мост через Бугуруслан, и тут только я догадался, что мы так близко от нашего милого Багрова. Эта мысль на ту минуту рассеяла мое печальное расположение духа, и я бросился к окошку, чтоб посмотреть на наш широкий пруд. Боже мой! Как показался он мне печален! Дул жестокий ветер, мутные валы ходили по всему пруду, так что напомнили мне Волгу; мутное небо отражалось в них; камыши высохли, пожелтели, волны и ветер трепали их во все стороны, и они глухо и грустно шумели. Зелёные берега, зелёные деревья – все пропало. Деревья, берега, мельница и крестьянские избы – всё было мокро, черно и грязно. На дворе радостным лаем встретили нас Сурка и Трезор (легавая собака, которую я тоже очень любил); я не успел им обрадоваться, как увидел, что на крыльце уже стояли двое дядей, Ерлыкин и Каратаев, и все четыре тётушки: они приветствовали нас громким вытьем, какое уже слышал я на дедушкиных похоронах. Нашу карету увидели издали, когда она начала спускаться с горы, а потому не только тётушки и дяди, но вся дворня и множество крестьян и крестьянок толпою собрались у крыльца.
Жизнь в Багрове после кончины бабушки
Можно себе вообразить, сколько тут было слёз, рыданий, причитаний, обниманья и целованья! Мать со мной и сестрицей скоро вошла в дом, а отец долго не приходил; он со всеми поздоровался и со всеми поплакал. Наконец собрались в гостиную, куда привели и милого моего братца, который очень обрадовался нам с сестрицей. В короткое время нашей разлуки он вырос, очень похорошел и стал лучше говорить. Двоюродные сестры наши, Ерлыкины, также были там. Мы увиделись с ними с удовольствием, но они обошлись с нами холодно. Целый вечер провели в печальных рассказах о болезни и смерти бабушки. У ней было предчувствие, что она более не увидит своего сына, и она, даже ещё здоровая, постоянно об этом говорила; когда же сделалась больна, то уже не сомневалась в близкой смерти и сказала: «Не видать мне Алёши!» Впрочем, причина болезни была случайная и, кажется, от жирной и несвежей пищи, которую бабушка любила. Перед кончиной она не отдала никаких особенных приказаний, но поручила тётушке Аксинье Степановне, как старшей, просить моего отца и мать, чтоб они не оставили Танюшу, и, сверх того, приказала сказать моей матери, что она перед ней виновата и просит у ней прощенья. Всё это Аксинья Степановна высказала при всех, к изумлению и неудовольствию своих сестёр. После я узнал, что они употребляли все средства и просьбы и даже угрозы, чтоб заставить Аксинью Степановну не говорить таких, по мнению их, для покойницы унизительных слов, но та не послушалась и даже сказала при них самих. Мать отвечала: «Я от всей души прощаю, если матушка (царство ей небесное!) была против меня в чём-нибудь несправедлива. Я и сама была виновата перед ней и очень сокрушаюсь, что не могла испросить у ней прощенья. Но надеюсь, что она, по доброте своей, простила меня». После этого долго шли разговоры о том, что бабушка к Покрову просила нас приехать и в Покров скончалась, что отец мой именно в Покров видел страшный и дурной сон и в Покров же получил известие о болезни своей матери. Все эти разговоры я слушал с необыкновенным вниманием. Припоминая наше первое пребывание в Багрове и некоторые слова, вырывавшиеся у моей матери, тогда же мною замеченные, я старался составить себе сколько-нибудь ясное и определённое понятие: в чём могла быть виновата бабушка перед моею матерью и в чём была виновата мать перед нею? Верование же моё в предчувствие и в пророческие сны получило от этих разговоров сильное подкрепление.
На другой день, рано поутру, отец мой вместе с тётушкой Татьяной Степановной уехали в Мордовский Бугуруслан. Хотя на следующий день, девятый после кончины бабушки, все собирались ехать туда, чтоб слушать заупокойную обедню и отслужить панихиду, но отец мой так нетерпеливо желал взглянуть на могилу матери и поплакать над ней, что не захотел дожидаться целые сутки. Он воротился ещё задолго до обеда, бледный и расстроенный, и тётушка Татьяна Степановна рассказывала, что мой отец как скоро завидел могилу своей матери, то бросился к ней, как исступлённый, обнял руками сырую землю, «да так и замер». «Напугал меня братец, – продолжала она, – я подумала, что он умер, и начала кричать; прибежал отец Василий с попадьей, и мы все трое насилу стащили его и почти бесчувственного привели в избу к попу; насилу-то он пришёл в себя и начал плакать; потом, слава богу, успокоился, и мы отслужили панихиду. Обедню я заказала, и как мы завтра приедем, так и ударят в колокол». Я опять подумал, что отец гораздо горячее любил свою мать, чем своего отца.
В тот же день послали нарочного к Прасковье Ивановне. Мать написала большое письмо к ней, которое прочла вслух моему отцу: он только приписал несколько строк. И тогда показалось мне, что письмо написано удивительно хорошо; но тогда я не мог понять и оценить его достоинств. После я имел это письмо в своих руках – и был поражён изумительным тактом и даже искусством, с каким оно было написано: в нём заключалось совершенно верное описание кончины бабушки и сокрушения моего отца, но в то же время всё было рассказано с такою нежною пощадой и мягкостью, что оно могло скорее успокоить, чем растравить горесть Прасковьи Ивановны, которую известие о смерти бабушки до нашего приезда должно было сильно поразить.
В девятый день, в день обычного поминовения по усопшим, рано утром, все, кроме нас, троих детей и двоюродных сестёр, отправились в Мордовский Бугуруслан. Отправились также и Кальпинская с Лупеневской, приехавшие накануне. Мать хотела взять и меня, но я был нездоров, да и погода стояла сырая и холодная; я чувствовал небольшой жар и головную боль. Вероятно, я простудился, потому что бегал несколько раз смотреть моих голубей и ястребов, пущенных в зиму. На просторе я заглянул в бабушкину горницу и нашёл её точно такою же, пустою и печальною, какою я видел её после кончины дедушки. Тот же Мысеич и тот же Васька Рыжий читали псалтырь по усопшей. Я хотел было также почитать псалтырь, но не прочёл и страницы, – каждое слово болезненно отдавалось мне в голову. К обеду все воротились и привезли с собой попа с попадьей, накрыли большой стол в зале, уставили его множеством кушаний; потом подали разных блинов и так же аппетитно все кушали (разумеется, кроме отца и матери), крестясь и поминая бабушку, как это делали после смерти дедушки. Я почти ничего не ел, потому что разнемогался, даже дремал; помню только, что мать не захотела сесть на первое место хозяйки и сказала, что «покуда сестрица Татьяна Степановна не выйдет замуж, – она будет всегда хозяйкой у меня в доме». Помню также, что оба мои дяди, и даже Кальпинская с Лупеневской, много пили пива и наливок и к концу обеда были очень навеселе. Встав из-за стола, я прилёг на канапе, заснул – и уже ничего не помню, как меня перенесли на постель. Я пролежал в жару и в забытьи трое суток. Опомнившись, я сначала подумал, что проснулся после долгого сна. Мать сидела подле меня бледная, жёлтая и худая, но какое счастие выразилось на её лице, когда она удостоверилась, что я не брежу, что жар совершенно из меня вышел! Какие радостные слёзы потекли по её щекам! Как она на меня смотрела, как целовала мои руки!.. Но я с удивлением принимал её ласки; я ещё более удивился, заметив, что голова и руки мои были чем-то обвязаны, что у меня болит грудь, затылок и икры на ногах. Я хотел было встать с постели, но не имел сил приподняться… Тут только мать рассказала мне, что я был болен, что я лежал в горячке, что к голове и рукам моим привязан черный хлеб с уксусом и толчёными можжевеловыми ягодами, что на затылке и на груди у меня поставлены шпанские мушки, а к икрам горчичники… Может быть, всё это было ненужно, а может быть, именно дружное действие всех этих лекарств перервало горячку так скоро. Ничего нет приятнее выздоравливанья после трудной болезни, особенно когда видишь, какую радость производит оно во всех окружающих. Пришёл отец, сестрица с братцем, все улыбались, все обнимали и целовали меня, а мать бросилась на колени перед кивотом с образами, молилась и плакала. Я сейчас вспомнил, что маменька никогда при других не молится, и подумал, что же это значит? Сердце сказало мне причину… Но мать уже перестала молиться и обратила всё свое внимание, всю себя на попечение и заботы обо мне. Опасаясь, чтоб разговоры и присутствие других меня не взволновали, она не позволила никому долго у меня оставаться. Я в самом деле был так слаб, что утомился и скоро заснул. Это уже был сон настоящий, восстановитель сил, и через несколько часов я проснулся гораздо бодрее и крепче. Тут уже пришли ко мне и тётушки Аксинья и Татьяна Степановны, очень обрадованные, что мне лучше, а потом пришёл Евсеич, который даже плакал от радости. От него я узнал, что все гости и родные на другой же день моей болезни разъехались; одна только добрейшая моя крёстная мать, Аксинья Степановна, видя в мучительной тревоге и страхе моих родителей, осталась в Багрове, чтоб при случае в чём-нибудь помочь им, тогда как её собственные дети, оставшиеся дома, были не очень здоровы. Мать горячо ценила её добрую и любящую душу и благодарила её как умела. Видя, что мне гораздо лучше, что я выздоравливаю, она упросила Аксинью Степановну уехать немедленно домой.
Выздоровление моё тянулось с неделю; но мне довольно было этих дней, чтоб понять и почувствовать материнскую любовь во всей её силе. Я, конечно, и прежде знал, видел на каждом шагу, как любит меня мать; я наслышался и даже помнил, будто сквозь сон, как она ходила за мной, когда я был маленький и такой больной, что каждую минуту ждали моей смерти; я знал, что неусыпные заботы матери спасли мне жизнь, но воспоминание и рассказы не то, что настоящее, действительно сейчас происходящее дело. Обыкновенная жизнь, когда я был здоров, когда никакая опасность мне не угрожала, не вызывала так ярко наружу лежащего в глубине души, беспредельного чувства материнской любви. Я несколько лет сряду не был болен, и вдруг в глуши, в деревне, без всякой докторской помощи, в жару и бреду увидела мать своего первенца, любимца души своей… Понятен испытанный ею мучительный страх – понятен и восторг, когда опасность миновалась. Я уже стал постарше и был способен понять этот восторг, понять любовь матери. Эта неделя много вразумила меня, много развила, и моя привязанность к матери, более сознательная, выросла гораздо выше моих лет. С этих пор, во всё остальное время пребывания нашего в Багрове, я беспрестанно был с нею, чему способствовала и осенняя ненастная погода. Разумеется, половина времени проходила в чтении вслух; иногда мать читала мне сама, и читала так хорошо, что я слушал за новое – известное мне давно, слушал с особенным наслаждением и находил такие достоинства в прочитанных матерью страницах, каких прежде не замечал.
Между тем еще прежде моего совершенного выздоровления воротился нарочный, посланный с письмом к бабушке Прасковье Ивановне. Он привёз от неё хотя не собственноручную грамотку, потому что Прасковья Ивановна писала с большим трудом, но продиктованное ею длинное письмо. Я говорю длинное относительно тех писем, которые диктовались ею или были писаны от её имени и состояли обыкновенно из нескольких строчек. Прасковья Ивановна вполне оценила, или, лучше сказать, почувствовала письмо моей матери. Она благодарила за него в сильных и горячих выражениях, часто называя мою мать своим другом. Она очень огорчилась, что бабушка Арина Васильевна скончалась без нас, и обвиняла себя за то, что удержала моего отца, просила у него прощенья и просила его не сокрушаться, а покориться воле божией. «Если б не боялась наделать вам много хлопот, – писала она, – сама бы приехала к вам по первому снегу, чтоб разделить с вами это грустное время. У вас ведь, я думаю, тоска смертная; посторонних ни души, не с кем слова промолвить, а сами вы только скуку да хандру друг на друга наводите. Вот бы было хорошо всем вам, с детьми и с Танюшей, приехать на всю зиму в Чурасово. Подумайте-ка об этом. И я бы об вас не стала беспокоиться и скучать бы не стала без Софьи Николавны», – и проч. и проч. Приглашение Прасковьи Ивановны приехать к ней, сказанное между слов, было сочтено так, за мимолетную мысль, мелькнувшую у ней в голове, но не имеющую прочного основания. Отец мой сказал: «Вот еще что придумала тётушка! Целый век жить в дороге да в гостях; да эдак и от дому отстанешь». Тётушка Татьяна Степановна прибавила, что куда ей, деревенщине, соваться в такой богатый и модный дом, с утра до вечера набитый гостями, и что у ней теперь не веселье на уме. Даже мать сказала: «Как же можно зимою тащиться нам с тремя маленькими детьми». Согласно таким отзывам было написано письмо к Прасковье Ивановне и отправлено на первой почте. Предложение её было предано забвению.