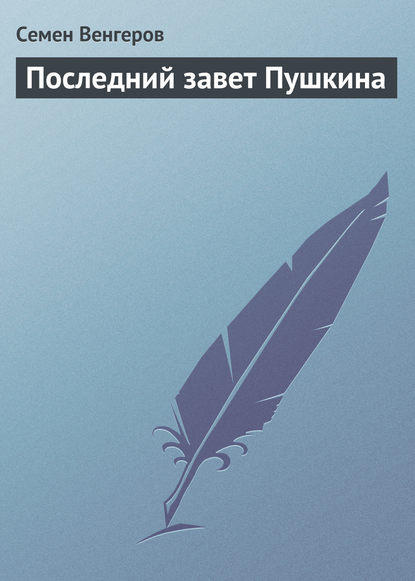По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Последний завет Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Семен Афанасьевич Венгеров
«Давно уже идет в русской литературе спор о назначении искусства. В чем истинная задача искусства вообще и поэзии в частности? Самодовлеющая ли это величина, процветающая, достигающая полного развития только тогда, когда она отдается всецело своим внутренним потребностям?..»
Семен Венгеров
Последний завет Пушкина
Давно уже идет в русской литературе спор о назначении искусства.
В чем истинная задача искусства вообще и поэзии в частности?
Самодовлеющая ли это величина, процветающая, достигающая полного развития только тогда, когда она отдается всецело своим внутренним потребностям?
Или же, напротив того, великая способность волновать сердца людей, великое очарование искусства только тогда и проявляется во всей своей силе, когда оно соединено с желанием научить чему-нибудь. Рядом с исканием художественной красоты, художественного совершенства, не должно ли художественное произведение быть проникнуто определенным стремлением осветить ту или другую проблему общественной жизни и морали?
Автор настоящей заметки, в другом месте, бросив взгляд на весь ход нашей литературы за два века европейского периода её существования, приходит к тому выводу, что русская литература никогда не замыкалась в сфере чисто-художественных интересов. Она всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово. Все крупные деятели нашей литературы, в той или другой форме, отзывались на потребности времени и были художниками-проповедниками.
Не составляет исключения и Пушкин, хотя взгляды его на задачи искусства всего менее отличаются устойчивостью. Сердито говорит он в одном из своих писем: «цель поэзии – поэзия». Но не говорит ли нам последний завет великого поэта – его величественное стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» о чем-то совсем ином? Какой другой можно сделать из него вывод, как не тот, что основная задача поэзии – возбуждение «чувств добрых».
Зигзагами шли общественные и литературные настроения Пушкина.
В Александровскую эпоху Пушкин был живым отражением беспокойного настроения времени и сам себя характеризовал, как поэта, который «свободу лишь умеет славить».
В первых романтических поэмах своих и отдельных стихотворениях, он бросал страстный вызов тирании и всем старым традициям, провозглашал свободу чувств и проповедовал презрение к условным формам.
Со второй половины 20-х годов улеглось брожение и самого Пушкина, и общества, и поэт вступает в так называемый «объективный» период своего творчества.
Но помимо того, что и это стремление к объективному творчеству было отражением настроения времени, утомленного возбуждением последних лет царствования Александра и жаждавшего спокойствия, помимо этого косвенного служения нуждам времени, Пушкин никогда не был в состоянии совладать с живой натурой своей и оставаться на олимпийских высотах безразличного творчества.
Всеобъемлющий гений Пушкина никогда не успокаивался на чем-нибудь одном, и никто точнее его самого не исполнял завета, который он дал поэту:
…Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум.
И так как отзывчивая натура влекла его то в одну, то в другую сторону, то каждая из главных литературных теорий наших – и сторонники «чистого искусства» и апологеты искусства общественного – может подтвердить свои положения ссылками на Пушкина. Недаром ведь сравнивал Пушкин поэта с «эхом», которое на все отзывается, будь то «глас бури и валов», или мирный «крик сельских пастухов».
Да, в минуту полемического раздражения и притом совсем особого рода (вовсе не антидемократического, как принято думать), он, действительно, воскликнул в «Черни»:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Но разве это же самое стихотворение не есть полное нарушение провозглашенных в нем принципов? Ведь в нем нет ни звуков сладких, ни молитв, и в общем оно представляет собою яркий образчик тенденциозно-дидактического запрещения идти дорогою свободною, куда влечет поэта его свободный от каких бы то ни было запрещений ум:
Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв
будто бы создан поэт. И вслед затем пишется страстный памфлет «Клеветникам России» – отклик на злобу дня в буквальном смысле слова – на дебаты в одном из заседаний французского парламента.
В оградах ваших с улиц шумных
Сметают сор – полезный труд.
Но позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут.
Так иронизирует поэт, когда ему предлагают быть «полезным». А через несколько лет этот же жрец, единственно из желания быть полезным, берется за метлу журналиста, и великое дарование тратится на сметание сора, внесенного в литературу Булгариными и Ко.
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя, –
просит поэта «чернь», т. е. публика, всем ходом русской литературы приученная получать от неё поучения. Но поэт презрительно отказывается:
Идите прочь, какое дело
Поэту мирному до вас?
А в это самое время он заканчивал «Евгения Онегина», в котором жизнь «Черни» отразилась с небывалою до того полнотой и в котором в пленительном образе Татьяны был преподан один из самых знаменитых и волнующих уроков жизни, когда-либо преподанных русской литературой. Прошли почти 80 лет, как Татьяна ответила Онегину:
Я вас люблю, к чему лукавить.
Но я другому отдана,
Я буду век ему верна, –
и этот ответ не перестает до сих пор волновать русского читателя и поднимать в нем вопросы нравственного порядка. Многое, очень многое в гениальном романе перестало интересовать позднейшего читателя, на многое он стал смотреть исключительно с исторической точки зрения. Но образ Татьяны, олицетворивший в себе полную свободу от условности с неумолимым сознанием долга, навсегда врезался в сердце русского читателя. Каждое поколение имеет свое отношение к ответу Татьяны, – то восторженно-положительное, то насмешливо-отрицательное, но во всяком случае не безразличное. «Смелый урок» на практике был дан поэтом, теоретически от него отказавшимся. На практике, следовательно, поэт и в эпоху своего пренебрежения ко всему тому, что не есть интерес чисто-художественный, никак не мог удержаться в ограниченной сфере чисто-эстетических настроений и тоже стал учителем жизни. Да и как тому иначе быть? Разве есть что-нибудь безразличное в жизни и даже в «мертвой» для других, но живой для поэта природе.
И не только стал Пушкин учителем жизни, но в учительном характере литературы усмотрел её высшее назначение. В 1830 году Пушкина усиленно занимает мысль о смерти, он заказывает себе даже могилу в Святогорском монастыре, где вскоре и пришлось ему опочить вечным сном. Правильно или неправильно – это другой вопрос, он чувствует потребности подвести итоги всей деятельности, определить сущность своего значения в истории русского слова. Он пишет – «Я памятник воздвиг себе нерукотворный», где с тою величавою простотой, которая характеризует истинно-великих людей, говорит без всякого жеманства, без всякой ложной скромности о своем бессмертии. Создатель русской поэзии не сомневается в том, что будет «славен, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит», что слух о нем «пройдет по всей Руси великой» и назовет его «всяк сущий в ней язык».
Но за что же, однако, ему столь великий почет?
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые и лирой пробуждал.
Сам по себе этот ответ столь знаменателен, что не нуждается ни в каких дальнейших пояснениях. Более яркого подкрепления нашего утверждения не придумаешь. Пушкин, этот идол всякого приверженца теории «чистого» искусства, в одну из торжественнейших минут своей духовной жизни превыше всего ценит в литературе учительность.
Но интерес Пушкинской формулировки назначения литературы еще безмерно возрастает, когда мы обратимся к воспроизведенному на предыдущей странице черновику знаменитого стихотворения.
Оказывается, что первоначально Пушкин, совершенно в духе «чистого» искусства, так определил свое значение:
И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел.
Твердо и без столь обычных у него помарок, т. е. без колебания написал Пушкин подчеркнутый стих, в котором выразил свое теоретическое литературное credo.
Но вот он перечитывает плод непосредственного вдохновения, снова вдумывается в тему и пред лицом вечности открываются новые горизонты. Нет, мало для поэта истинно-великого одних эстетических достоинств, только к памятнику того не зарастет «народная тропа», кто пробуждает «добрые чувства», кто был учителем жизни.
И зачеркивается формула эстетическая, а взамен её дается учительно гражданская.