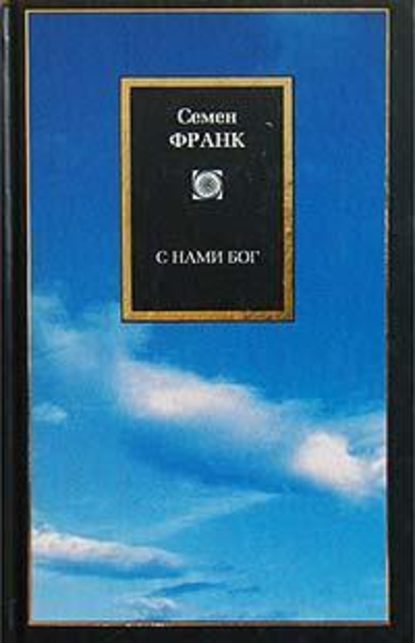По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
С нами Бог
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Итак, в промежутке между представлением об абсолютной, радикальной противоположности между Богом – всемогущим творцом и человеком – ничтожной и бессильной тварью и представлением, что сам человек есть абсолютно автономное, в себе утвержденное и потенциально всемогущее существо, стоит воззрение о богоподобии и богосродстве человека. Идея богоподобия человека содержится уже в Ветхом Завете, и есть в нем корректив к идее тварности человека; в отличие от всех остальных творений, Бог создал человека «по образу и подобию Своему» и именно в связи с этим предопределил человека на господство над всеми остальными творениями и над всей землей (Быт 1:26–28). Само это богоподобие немыслимо иначе, как частичное богосродство. Общее указание на богоподобие человека дополняется учением, что Бог, сотворив человека из кома земли, «вдохнул в него Свое живое дыхание» и тем сделал человека «живой душой». Уже здесь предполагается, таким образом, что источник человеческой жизни есть дух Божий, т. е. что человек есть создание особого, высшего порядка, отличное от всех остальных творений именно своим богоподобием и богосродством. В ветхозаветном религиозном сознании этот мотив звучит, в общем, относительно слабо, доминирующим остается все же мотив ничтожества и рабской подчиненности человека. Иначе обстоит дело в античном религиозном сознании. Хотя и в нем господствует, как указано, горькое сознание слабости человека, его обреченности произволу могущественных богов или слепому всемогущему року, но благодаря тому, что сама идея божества здесь иная, чем в Ветхом Завете, именно что божества сами мыслятся существами ограниченными и не всемогущими, идея сродства между людьми и богами здесь выражена гораздо отчетливее и имеет большую влиятельность. В античных религиозных сказаниях и античной поэзии боги и люди так похожи друг на друга, что их часто только с трудом можно отличить; и герои и вожди по большей части суть прямые потомки богов, полубоги. По античному представлению боги и люди вообще имеют общее происхождение и общую или весьма сходную природу; основное различие между ними есть различие по признаку смертности и бессмертия: боги – бессмертные люди, люди – смертные боги; и к этому присоединяется различие между блаженным бытием богов и скорбным человеческим существованием. Но даже и эти различия легко стираются в народном религиозном сознании; герои легко обожествляются и тогда почитаются бессмертными, а боги, если и не умирают, то все же могут как-то сходить с мировой сцены, вытесняемые новым поколением богов; и боги, Подобно людям, подвержены страстям и раздорам и в этом смысле – страданиям. Богоподобие человека основано здесь, коротко говоря, на человекоподобии богов. Во всяком случае, хотя и в несколько смутной форме и в сочетании с чувством бессилия человека, мы встречаем в античном мире господство указанного третьего представления, по которому человек не есть ни внутренне ничтожная тварь, ни самодержавный хозяин жизни, а есть, при всей ограниченности его сил, существо некого высшего онтологического порядка и высшей ценности, как бы младший брат богов. И мир, по известному стоическому определению, есть «государство богов и людей». В этом смысле античный мир есть истинная родина «гуманизма» – место, в котором впервые были осознаны и постепенно во все более благородных формах раскрыты достоинство человека, красота и значительность человеческого образа. Этот античный гуманизм, основанный на идее богосродства человека, имел в виду апостол Павел, когда в своей речи к афинянам ссылался на слова эллинского поэта: «Его же рода есмы».
Этому античному гуманизму недоставало, однако, одного решающего элемента. Богосродство человека не сопровождается солидарностью, внутренней связью между божеством и людьми. Если боги или, по крайней мере, некоторые из богов и мыслились наставниками, покровителями и защитниками человека, как и блюстителями правды, в общем – именно в виду принципиального равенства между богами и людьми – они были скорее соперниками людей, иногда даже их врагами, и во всяком случае существами, имеющими свои собственные интересы и цели жизни и потому в принципе равнодушными к человеку. «Государство богов и людей» походило на феодальное государство, в котором люди были низшим благородным сословием, а боги – олигархией высоких и могущественных вельмож; к чувству уважения к этой правящей группе – одновременно и благоговения перед ней и сознания своего сродства с ней – присоединялось чувство недоверия и отчужденности; недоставало той внутренней спаянности, которая возможна только на почве безусловного доверия и солидарности, нераздельного соучастия в общей жизни. Античный мир был глубоко религиозен; никому не приходило и в голову сомневаться в существовании богов. Но античный мир был проникнут постоянным сомнением в том, интересуются ли боги судьбой человека и можно ли рассчитывать на их помощь в утверждении правды, на их милосердие. Люди молились богам как бы наугад; они ждали от богов скорее зла, чем добра. И религия означала скорее веру, что и трагизм, бедствия, неправда человеческой жизни проистекают также от богов.
Поэтому актуальное, решающее значение религиозная идея богоподобия и богосродства человека обрела только в христианском сознании, где она была дополнена идеей органической связи между Богом и человеком. Первоисточник этого нового сознания есть, конечно, далее необъяснимое откровение Христа – откровение о Боге как любящем отце и о царстве Божием как родном доме человеческой души. Беря эту основную идею христианства как явление историческое, мы должны – не вдаваясь ни в какие шаткие и более или менее произвольные догадки об историко-генетических связях – просто констатировать, что в ней дан органический синтез между ветхозаветным представлением о зависимости человеческого бытия от Бога, его укорененности в Боге, и античном представлении о богосродстве и высшем достоинстве человека. Сила, связавшая воедино эти два представления или, вернее, из себя самой породившая их неразрывную сопринадлежность, есть откровение, что связь между Богом и человеком есть связь любви – что сам Бог есть любовь и что это божественное начало есть сама основа человеческого бытия. Этим основано совершенно новое, единственно достойное и духовно здоровое отношение между человеком и Богом, одинаково далекое и от рабской подчиненности, и от бунтарского самоутверждения человека. Это есть отношение свободного служения, в котором осуществляется подлинное назначение человека. С этой точки зрения само бунтарское самоутверждение обнаруживается как форма рабского самосознания. Если Ницше определил полемически христианство как «восстание рабов в морали», то это было глубочайшим недоразумением (которое, впрочем, имело свои исторические основания). Именно антирелигиозный гуманизм есть восстание рабов; только рабу нужно бороться за свою свободу, низвергать тираническую власть, сбрасывать с себя оковы и цепи. Свободный гражданин, а тем более аристократ, не устраивает революции; царский сын, наследник престола, не испытывает унижения и стеснения своей свободы в своем вольном служении отцу, потому что сам есть соучастник и его интересов и его достоинства. Здесь нет противоположности и противоборства между чужой и собственной волей, между подчинением высшей инстанции и самоопределением, автономией. Для аристократа верховная власть, которой он служит, есть не чуждая, порабощающая и умаляющая его власть, а, напротив, власть, его освобождающая и укрепляющая его положение; она есть как бы только средоточие и вершина его собственной власти. Не бунт, а служение облагораживает человека; достоинство свободного человека требует, чтобы он вел себя не как строптивый раб, а как человек, почтенный высоким саном. Его духовная установка определена принципом noblesse oblige, свободным и радостным сознанием своей внутренней солидарности с верховной инстанцией и ценностью, которой он служит. Именно это аристократическое сознание внушает апостол христианам в словах: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет» (1 Петр 2:9); в этом же смысле евангелист говорит, что истинный свет, пришедший в мир, дал принявшим его «власть быть чадами Божиими» (Ин 1:12), и сам Христос называет своих учеников «не рабами, а друзьями».
Можно сказать, что христианство впервые полностью раскрыло смысл богоподобия и богосродства человека, постигло всю значительность этой идеи и вытекающие из нее следствия. Идея, только намеком выраженная в книге Бытия, что Бог вдохнул в человека свой дух, раскрыта в христианстве в отчетливом сознании, что «Он дал нам от Духа своего» (1 Ин 4:13). Представление о человеке как творении дополняется сознанием, что человек в качестве духа «рожден от Бога», «от Духа», «свыше». Это парадоксальное, так поразившее Никодима («учителя Израилева») учение, что человек, кроме рождения «от плоти», из утробы матери, имеет еще иное рождение «свыше», «от Духа», совсем не исчерпывается, как это часто думают, указанием, что человек способен пережить духовный переворот, «обращение» и в этом символическом смысле начать жить новой, высшей жизнью; само это «перерождение» было бы невозможно, если бы Бог с самого начала не «дал нам от Духа Своего» – если бы человек по самому своему существу не был «духом, рожденным от Духа». Это решающее открытие, в конце концов, прямо содержится в центральном догмате христианской веры в Бога как «отца». «Отец» есть не только любящее существо, на покровительство которого мы можем положиться, «Отец» есть именно отец – существо, от которого мы произошли, которому мы сродны, к «дому» которого мы принадлежим и «царство» которого нам уготовано от века.
Всякое религиозное сознание, как таковое, – сознание Святыни, абсолютного Блага, Верховного Начала, Божества – само собой предполагает иерархизм, ставит человека в положение существа, подчиненного некой высшей инстанции. Но это иерархическое сознание (которое одно только дарует смысл человеческой жизни, ставит перед ним цель, дает ему мерило должного и недолжного, руководит им на жизненном пути) может иметь совершенно различное духовное значение, смотря по тому, сопровождается ли оно сознанием совершенной разнородности между человеком и Богом или, наоборот, их внутреннего сродства и близости. В первом случае оно есть подчинение чуждой трансцендентной власти, смысл велений которой нам непонятен; оно испытывается как зависимость и принуждение, как насильственная ломка природы человека; во втором случае она есть свободное служение, в котором человек впервые осуществляет сам себя, находит удовлетворение интимным запросам своего духа. В сущности, Бог, абсолютно инородный человеку, есть только бог, как тиран, как существо злое, враждебное человеку; всякое представление о Боге как покровителе и защитнике человека, как блюстителе и, тем более, носителе добра уже молчаливо предполагает некоторую степень сродства между человеком и Богом, ибо Бог при этом дарует – и, тем самым, есть – то, что нужно человеку, о чем томится человек, т. е. к чему он влечется и предназначен по своей природе. Но только христианство, в качестве совершенной религии, доводит этот мотив до его последней полноты: прибегая к Богу, отдаваясь и служа Ему, человек просто впервые полностью осуществляет самого себя; только в связи с Богом человек находит свое истинное существо. «Ты создал нас для себя», говорит бл. Августин, «и неспокойно сердце наше, пока не упокоится в Тебе». Бог есть родина и почва человеческой души; Бог сам человечен, как человек – потенциально божествен.
Таким образом, это третье, единственно истинное представление о человеке основано не столько на отрицании первых двух или, точнее, их определяющих мотивов, сколько на гармоническом их сочетании, дающем подлинное осуществление того, что истинно в них обоих. Ветхозаветное представление, что человек в качестве творения есть существо, само по себе бессильное, испытывающее шаткость и бренность своего бытия и почерпающее силу только из своей связи с иным, первичным, несотворенным, вечным началом или существом – Богом, это представление само по себе совершенно справедливо. К существу человека принадлежит сознание его нищеты и нужды, его «mis?re», как говорил Паскаль; и когда человек это забывает и начинает воображать себя самодержавным творцом и хозяином своей жизни, он строит свою жизнь «на песке», на иллюзии, и горьким опытом убеждается, что впал в гибельное заблуждение. Но эта его зависимость от Бога и связь с Богом есть вместе с тем его достоинство. Послание к Евреям приводит слова псалмиста, в которых уже выражено это двойное самосознание человека: «Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред ангелами; славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его» (Пс 8:4–6). Более того, уже в Ветхом Завете встречается мысль, выраженная в учении о грехопадении, что дело идет здесь о фактической нищете человека, об его униженном состоянии, которая есть его собственная вина, итог уклонения от истинного пути, а не об онтологическом его ничтожестве. Ничтожен только отпавший от Бога человек; человек в том его существе, к которому он предназначен при сотворении именно в качестве слуги и соучастника Божией силы и славы, имеет, напротив, высокое достоинство. Униженное состояние человека есть, как говорит Паскаль, mis?re d’un grand seigneur, d’un roi dеpossеdе. Уже самый факт, что человек способен знать эту свою фактическую нищету и скорбеть о ней, есть признак его величия – свидетельство, что его истинное существо не исчерпывается этим отрицательным моментом. Само искание опоры для своего бытия вне себя, само сознание, что такая опора ему нужна и у него есть, обличает, что Бог, в качестве полюса, необходимо противостоящего человеческому бытию, есть тем самым его необходимый коррелят, т. е. что связь с Богом есть внутренний признак самого существа человека.
И обратно: гуманизм, вера человека в самого себя, в свое высокое призвание, в свою способность активно строить жизнь и осуществлять добро – все это само по себе совершенно правильно; и квиетизм, готовность пассивно успокоиться на сознании своего безнадежного ничтожества, есть великое и греховное заблуждение. Бог ждет от человека не пассивности, а напряженной духовной и нравственной активности. Человек призван быть не простым объектом действия Божией воли и силы, а действенным и ответственным, сознающим свою силу субъектом – активным сотрудником Бога, кто не имеет этого сознания, тот есть раб ленивый и лукавый. Если Христос говорит своим ученикам: «Без Меня не можете делать ничего», то это отнюдь не противоречит обратному соотношению. Христос мог бы прибавить – и косвенно неоднократно дает это понять: «Но и без вас, без вашей готовности идти Мне навстречу, и Я не могу ничего делать». Но только эта свободная активность человека основана именно на его неразрывной связи с Богом, должна быть соучастием в Божием деле. Именно потому, что человек есть существо высокого порядка, что он потенциально божествен, принадлежит к Божиему роду, его подлинное самоосуществление есть не своеволие, не удовлетворение его субъективных влечений (так осуществляет себя только животное), а служение – подчинение низшего начала в себе высшему, осуществление абсолютной правды. Человек находит и утверждает самого себя в своей истинной человечности – в том, что отличает его от животного, только когда находит и утверждает Высшее, чем он сам. Служение унижает только низменную природу раба; оно возвышает и осмысляет жизнь свободного, аристократического существа. Все дело в том, что человек по самому своему существу есть истинный человек, когда он есть нечто большее, чем просто человек – чем изолированное, замкнутое в себе и сосредоточенное на самом себе только человеческое существо.
Это единственное здоровое и нормальное человеческое самосознание упирается в конечном итоге в сознание столь интимно-неразрывной связи человека с Богом, что эта связь становится неким двуединством. Это значит: богоподобие и богосродство человека, в сочетании с необходимым различием между Богом и человеком, предполагает идею богочеловечности. Исторически в христианском сознании идея богочеловечности открылась конкретно в личности Иисуса Христа и была фиксирована в христологическом догмате. Сколь бы смутными и иногда схоластически-беспредметными нам ни казались теперь догматические споры и искания первых веков христианства и сколько бы человеческой греховности в них ни участвовало, – надо изумляться точности и глубине их окончательных достижений. В образе Христа, в единстве Его личности было усмотрено «неразрывное и неслиянное» двуединство двух природ – Божеской и человеческой, и это было позднее еще дополнено усмотрением в Нем двух «воль» – Божеской и человеческой. Кажется, в популярном, господствующем христианском сознании полнота и глубина этого достижения была позднее снова в значительной мере утрачена. Христос стал мыслиться снова просто как Бог – Бог в человеческом образе, который при этом в религиозно-психологическом порядке силою вещей становится образом обманчивым. Но Христос не есть просто Бог, как Он не есть просто человек. Он не есть ни то, ни другое – потому что Он есть сразу и нераздельно и то, и другое. Величие и смысл образа Христа состоит в том, что человеческое существо, подобное каждому из нас, могло одновременно быть сосудом, носителем и воплотителем Божиего существа. Что человек может быть вестником и медиумом Божией воли и Божиего откровения – это принадлежит к числу постоянных и необходимых человеческих религиозных представлений, иначе Бог вообще не мог бы открываться, голос Божий не мог бы достигать нас. И, с другой стороны, что под обманчивым обликом человека может являться само божество – это принадлежит по крайней мере к числу весьма распространенных древних религиозных представлений (так, античная религиозность полна рассказов об этом). Но чтобы истинный человек, оставаясь таковым, мог быть больше, чем вестником и медиумом Божиих велений, а именно воплощением самого существа Бога – в этом обнаруживается специфическая великая идея богочеловечности. Современный человек склонен либо брать эту идею как непонятный ему «догмат» церкви, который как цинично выражался Гоббс в отношении церковного вероучения вообще – «надо проглатывать, не разжевывая», либо отвергает ее как суеверие. Этим он обнаруживает, что, несмотря на весь свой «гуманизм», на свою веру в высокое назначение человека, он в сущности подавлен сознанием ничтожества и низменности человека, не имеет чутья к великим возможностям, таящимся в том бездонно-глубоком существе, которое называется человеком; и вместе с тем он обнаруживает, что имеет о Боге некое первобытное представление, как о существе, подавляющем своей стихийной огромностью, совершенно инородном человеческой личности и несоизмеримом и несовместимом с нею.
Конечно, христианское сознание справедливо проникнуто чувством глубочайшего различия между личностью Христа и обычным типом человеческого существа (включая даже величайших гениев). Оно ясно видит опасность, лежащую в том, что человек – обычный экземпляр человеческой природы – может возомнить себя существом, подобным Христу, это не раз бывало и всегда кончалось катастрофой, обличалось как кощунственное и гибельное заблуждение. Совершенно очевидно, что Христа нельзя подвести под обычное понятие человека, т. е. что Его конкретный образ можно понять только как чудо – как нечто единственное и неповторимое. Но, с другой стороны, Христос не мог бы называться человеком, не мог бы признаваться образцом, которому должен следовать каждый из нас, если бы Его существо было принципиально и абсолютно инородно нашему, toto coelo
отличалось от него. Напротив, весь смысл образа Христа состоит в том, что в Нем мыслится актуально и абсолютно осуществленным то, что потенциально составляет наше собственное существо. Он есть «новый Адам» – новый и совершенный родоначальник истинной природы человека. И если религиозно мы должны сознавать актуальную и абсолютную богочеловечность Христа как основание нашей собственной потенциальной богочеловечности, то, с другой стороны, само это понятие совершенного богочеловека было бы немыслимо, если бы первозданное существо человека, как такового, не было от века уготовано и предназначено к воплощению в себе этого совершенного богочеловеческого существа, т. е. если бы не существовало вечного, исконного сродства и единства между человеком и Богом. В этом смысле богочеловечность есть общая идея, распространяющаяся на человека вообще, на все человечество. Богочеловечность Христа есть осуществление возможности, заложенной в существе человека. Это не есть отвлеченная возможность, конкретно вообще не осуществимая для всех других людей, слишком часто забывают обетование Христа, что верующий в Него дела, который творит, Он, и он сотворит и даже «больше сих сотворит» (Ин 14:12). Как я уже выше говорил, истинный человек есть нечто большее, чем только человек. Можно сказать, что человечное в человеке есть именно его богочеловечность.
Это не есть какое-нибудь новое, дерзновенное учение, сколь бы непривычным оно ни казалось на первый взгляд. Уже выше я говорил, что христианство есть религия человеческой личности; оно открывает святость, абсолютную ценность человеческой личности; оно проповедует веру в человека; и если оно одновременно внушает человеку сознание его греховности, то это сознание именно потому так тяжело и напряженно, что состояние греховности мыслится противоречащим истинному существу человека и искажающим его – плодом противоестественного «падения» его с высоты, на которой он призван стоять. Ни античный, ни ветхозаветный человек не знал святости каждой человеческой личности, как таковой, не испытывал чувства благоговения перед абсолютной ценностью той реальности, которая открывается в каждом человеческом существе, – и притом так, что эта ценность безусловно неистребима и поэтому присутствует даже в самом порочном, низменном и ничтожном человеке. Античный мир, несмотря на свой гуманизм, мог верить, что раб и варвар есть существо принципиально иной природы, чем свободный и эллин. Ветхозаветный человек – по крайней мере до религиозных достижений в его великих пророках – мог сознавать инородцев и язычников существами иного порядка, чем избранный народ Израиль, и мог думать, что сама душа грешника и нечестивца подлежит истреблению. И мы присутствуем теперь при возрождении этих первобытных представлений. Но все это противоречит христианскому сознанию, утверждающему святость человеческой личности, существа человека, как такового. Но что такое святость или абсолютная ценность, как не атрибут Божества? Одно не вошедшее в Евангелие речение Иисуса Христа гласит: «Ты увидел брата своего – ты увидел Господа своего» (vidisti fratrem tuum – vidisti Dominum tuum). Но то же самое выражено в словах Евангелия, что накормивший алчущего, напоивший жаждущего, принявший странника, одевший нагого, посетивший больного или заключенного, сделал все это самому Христу, ибо все люди суть Его «меньшие братья». Образ Христа учит нас, таким образом, что очеловечение Бога возможно в силу того, что человек предназначен быть сосудом Божества, потенциально божествен по самому своему существу, что наше тело, как говорит апостол, есть «храм Божий» и что «дух Божий живет в нас». В учении восточной церкви об «обожении» (??????) как последнем назначении человека, христианская церковь открыто выразила этот универсальный и основоположный смысл идеи богочеловечности.
Но образ Христа учит нас одновременно и обратной стороне богочеловечности человека. «Обожение» человека, раскрытие и актуализация его потенциальной божественности не есть простое, как бы имманентное самораскрытие и самоосуществление человека; оно возможно только на пути самопреодоления человека в том его естестве, в котором он отличен от Бога, – на пути самоотверженного служения Богу, подчинения своей личной, только человеческой воли воле Божией. Как совершенный Богочеловек был Богочеловеком именно потому, что творил не Свою волю, а волю Пославшего Его, – так то же имеет силу и в отношении каждого человека. Истинная богочеловечность человека, его великое достоинство, его власть быть чадом Божиим осуществляется в его служении Богу. Человек по самому своему существу призван быть служителем Бога – священнослужителем. Идея всеобщего священства необходимо вытекает из самого христианского понимания человека и входит в состав самого существа христианской веры. И в этом отношении Христос есть образец для всех нас – Христос, который, хоть Он и Сын, однако страданиями «навык послушанию и был наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека» (Евр 5:8,10).
Богочеловечность человека обнаруживается, таким образом, одновременно в двух своих соотносительных аспектах – и в том, что каждая человеческая личность сама по себе, будучи образом самого Бога, есть святыня, и в том, что человек имеет истинный смысл своего существа и бытия в служении Святыне.
5. РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ
Что христианство в указанном выше смысле есть религия человеческой личности и религия Богочеловечности, имеет свое последнее основание в чем-то более простом и в каком-то смысле еще более значительном. Если оно усматривает высшую, абсолютную ценность и онтологическую обоснованность человека в той исконности, полноте и глубине его существа, которое мы называем личностью, если оно воспринимает человека как святыню, как образ и потенциальный сосуд Бога, то это в известном смысле просто совпадает с тем, что христианская религиозная установка есть установка любви. Ибо любовь не есть просто субъективное чувство, в силу которого то, что мы любим, «нравится» нам, доставляет нам радость или удовольствие. Предмет любви часто, напротив, доставляет нам огорчения и страдания; вообще говоря, равнодушный в каком-то смысле счастливее или, по крайней мере, спокойнее любящего, ибо свободен от забот и волнений; не случайно греческая философская мудрость признавала высшим благом невозмутимость (атараксию) и бесчувствие (апатию). В предмете любви многое может нам не нравиться, сознаваться как недостаток – от этого мы не перестаем его любить, и забота о благе любимого связана со многими страданиями и волнениями. Любовь есть непосредственное восприятие абсолютной ценности любимого; в качестве такового она есть благоговейное отношение к нему, радостное приятие его существа, вопреки всем его недостаткам, перемещение на любимое существо центра тяжести личного бытия любящего, сознание потребности и обязанности служить любимому, чего бы это ни стоило нам самим. Любовь есть счастие служения другому, осмысляющее для нас и все страдания и волнения, которые нам причиняет это служение. Так любит мать своего ребенка, даже сознавая все дурное в нем; даже если этот ребенок стал существом преступным и порочным и вызывает во всех других людях справедливое порицание и возмущение, мать не перестает ощущать, что его душа в последней глубине и истинном существе есть нечто абсолютно драгоценное, прекрасное, священное. Все его пороки она сознает как болезнь его души, искажающую его подлинное существо, как источник страданий и опасность для него самого. Она знает, что человек, который кажется другим существом несовершенным, быть может, ничтожным или порочным и отвратительным, в его последней глубине остается тем же самым незабвенным, прекрасным существом, которое в своей первой младенческой улыбке раз навсегда явил ей свою неземную, драгоценную сущность.
Любовь есть, таким образом, благоговейное, религиозное восприятие конкретного живого существа, видение в нем некоего божественного начала. Всякая истинная любовь – все равно, отдает ли себе отчет в этом сам любящий или нет – есть, но самому ее существу, религиозное чувство. И вот именно это чувство христианское сознание признает основой религии вообще. В этом отношении, как и в других, христианская правда, будучи парадоксальной, т. е. противореча обычным, господствующим человеческим понятиям, вместе с тем дает высшее выражение самой глубокой и интимной потребности человеческого сердца и есть, как я уже говорил, «естественная религия». Что любовь есть вообще драгоценное благо, счастье и утешение человеческой жизни – более того, единственная подлинная ее основа – это есть истина общераспространенная, как бы прирожденная человеческой душе. Лирическая поэзия всех времен и народов прославляет блаженство эротической любви. Но эротическая любовь, при всей ее силе и значительности в человеческой жизни, есть в лучшем случае лишь зачаточная форма истинной любви в намеченном выше смысле, или же благоухающий, но хрупкий цветок, распускающийся на стебле любви, а не ее подлинный корень. По основной, исходной своей сущности она корыстна, – определена радостью, которую любимое существо дает любящему в более высокой, очищенной форме она есть эстетическое восхищение, т. е. совпадает с восприятием красоты, телесной и душевной, любимого существа. Это восприятие красоты уже содержит, как мы знаем, элемент религиозного чувства, поэтому через него в любимом существе усматривается отблеск чего-то божественного, и оно само «обоготворяется». Но именно в этом заключается роковая и трагическая иллюзорность эротической любви, обнаруживается, что она основана на некоем обмане зрения. Истинное религиозное чувство, имеющее своим подлинным объектом святыню, само Божество, ошибочно фиксируется на несовершенном человеческом существе, в этом смысле эротическая любовь есть ложная религия, некоторого рода идолопоклонство. То же можно выразить иначе, сказав, что заблуждение состоит здесь в том, что религиозная ценность человеческой души, как таковой, т. е. ее субстанциального ядра, ошибочно переносится на ее эмпирические качества и обнаружения, фактически несовершенные. Когда заблуждение разбивается трезвым восприятием эмпирической реальности, эротическая любовь, поскольку она остается фиксированной на эмпирическом, внешнем облике любимого, т. е. поскольку она не переходит в иную, высшую форму любви, неизбежно кончается горькими разочарованиями, а иногда по реакции переходит даже в ненависть. Платон в диалоге «Симпозион» описывает подлинное назначение эротической любви именно как первой ступени к религиозному чувству: любовь к прекрасным телам должна переходить в любовь к «прекрасным душам», а последняя – в любовь к самой Красоте, совпадающей с Добром и Истиной. Здесь любовь к человеку имеет свой единственный смысл как путь любви к Богу и, исполнив свое назначение, преодолевается и исчезает. Как бы много правды ни содержалось в этом возвышенном учении, оно все же не содержит всей правды любви, мы не можем подавить впечатления, что этот путь очищения и возвышения любви содержит все же и некое ее умаление и обеднение; ибо «любовь» к Богу, как к «самой Красоте» или «самому Добру», есть менее конкретно живое, менее насыщенное, менее полное чувство, чем подлинная любовь, которая есть всегда любовь к конкретному существу, можно сказать, что любовь к Богу, купленная ценою ослабления или потери любви к живому человеку, совсем не есть настоящая любовь. Есть, однако, и другой, более совершенный путь развития и углубления эротической любви – именно, когда она постепенно научает любящего воспринимать абсолютную ценность самой личности любимого, т. е. когда через любовь к внешнему облику любимого – телесному и душевному – мы проникаем к тому глубинному его существу, которое этот облик «выражает», хотя всегда и несовершенно, – к его личности, а это значит: к его существу как к индивидуально-конкретному тварному воплощению божественного начала личного Духа в человеке. Здесь иллюзорное обоготворение чисто эмпирически-человеческого, как такового, преобразуется в благоговейно-любовное отношение к индивидуальному образу Божию, к богочеловеческому началу, подлинно наличествующему во всяком, далее самом несовершенном, ничтожном и порочном человеке. Истинный брак есть путь такого религиозного преображения эротической любви, и можно сказать, что в этом таинственном «богочеловеческом» процессе преображения и состоит то, что называется «таинством брака».
Другой естественный зачаток истинной любви есть присущее человеку чувство товарищеской или соседской солидарности, братской близости членов семьи или племенного и национального сродства. Первоначальный смысл слова «ближний» означает именно человека «близкого» в одном из этих, сходных между собою отношений. Человек по своей природе есть существо социальное, член группы, ему естественно иметь близких, соучастников общей коллективной жизни, как естественно, с другой стороны, за пределами этой группы иметь чуждых или врагов. Чувство сопринадлежности к некоему коллективному целому, сознание, выражаемое в слове «мы», есть естественная основа всякого индивидуального самосознания, всякого «я»; «я» предполагает отношение к некоему или неким «ты», т. е. сопринадлежность к «мы» – к форме бытия, в которой я сознаю себя или свое сущим и за пределами «меня самого». Отношения между «близкими», членами общей группы, суть – несмотря на возможность или даже необходимость в них начала иерархии – отношения принципиального равенства, при котором каждый признает и «блюдет» «права» других, равноценные и соотносительные его собственным правам. Первоначальный, элементарный смысл заповеди «люби ближнего, как самого себя» в Ветхом Завете состоит именно в этом принципе справедливости, взаимного уважения нрав и интересов соплеменников, членов общей группы. Это отношение есть нечто иное, чем любовь в специфическом смысле этого понятия, хотя и содержит ее зачаток. В нем другой, «ближний», уже сознается в принципе существом, подобным «мне», на него переносится то чувство значительности, существенности, исконности, которое присуще сознанию самого себя как носителя жизни и жизненных интересов: в «ты» я прозреваю как бы другое «я». Но это отношение само определено сознанием сродства, общности, близости; оно не распространяется на всякого человека, как такового, а скорее предполагает необходимость выделения «ближних», «своих», от «других», «чужих», «далеких». Это отношение определяет – употребляя меткий термин Бергсона – установку «замкнутой группы». В противоположность этому христианское отношение к любви есть отношение «открытое», преодолевающее все человеческие ограничения. В притче о милосердном самарянине отчетливо показано это преображение понятия ближнего; «ближним» оказывается не соплеменник, не единоверец, а, напротив, иноплеменник, инаковерующий, но проявивший сострадание, милосердие, любовь. Любовь обнаруживается здесь как сила, превозмогающая естественное человеку, как природному существу, различение между «своим» и «чужим», «другом» и «врагом». В практике даже и христианской церкви это древнее, прирожденное человеку сознание различения между своим и чужим продолжает жить в вероисповедной замкнутости и отчужденности, тем более оно живет в практике мирской жизни человечества, именующего себя христианским, во всех формах групповой ограниченности – в замкнутости дома и семьи, в сословной и национальной исключительности, – коротко говоря, во всяком esprit de corps. В противоположность этому любовь в христианском смысле этого понятия означает преодоление всякой групповой замкнутости; в ней все люди, как таковые, признаются «братьями», членами единой всеобъемлющей вселенской семьи, детьми единого Отца. В этой формуле с гениальной религиозной простотой выражен радикальный переворот в отношении между людьми: самая тесная, интимная, замкнутая связь – связь между членами одной семьи – расширяется так, что охватывает всех людей без различия, даже (как у св. Франциска), – все творение без различия, чем преодолена всякая групповая замкнутость.
Христианство, в качестве религии любви, т. е. религии, определенной восприятием общего божественного происхождения и божественной ценности всех людей, и потому их сопринадлежности к всеобъемлющему целому, объединенному любовью, – универсалистично, «кафолично» по самому своему существу. Все различия классов, национальностей, рас и культур – сколь бы естественны они ни были в порядке природного или чисто человеческого бытия – становятся несущественными, только относительными, превозмогаются универсально-объединяющей силой любви, утверждающей единство в Боге всего человеческого рода. Где человек «облекся в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его» – т. е., где силою любви человек проникает до самого существа личности, как образа Божия – там «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного; но все и во всем Христос» (Кол 3:10–11). С этой принципиальной точки зрения такое, например, понятие, как «римско-католическая (т. е. „римско-универсальная“) церковь» – если оставить в стороне неизбежность умаления абсолютной истины в ее человечески-историческом выражении – есть, строго говоря, такая же нелепость, какою была бы какая-нибудь «московская таблица умножения» или «китайская причинная связь». Ибо в первичном основоположном смысле «Церковь Христова» есть не что иное, как превосходящее и преодолевающее все земные различия единство людей в Боге – единство, открывающееся любви как благоговейному религиозному восприятию божественного существа человеческого образа, как такового. Сколько бы люди в своей конкретно-эмпирической, исторической жизни ни грешили против этой религии любви – то, что раз открылось в этой религии – объединяющая сила любовного восприятия человека, как начала абсолютно-ценного, – уже не может исчезнуть из человеческого сознания, а продолжает действовать в нем, напоминать ему об абсолютной правде и о ничтожестве перед ее лицом всех земных, обособляющих и разъединяющих оценок и мерил.
Но этим чисто количественным и экстенсивным универсализмом не исчерпывается и потому не выражается адекватно существо христианской любви. Количественный универсализм сам по себе склонен быть – и фактически в истории человеческого морального сознания постоянно бывает – универсализмом абстрактным: широта духовного взора искупается здесь бедностью воспринимаемого содержания, идет за счет конкретной полноты. Таков основной признак всякого интеллектуального универсализма, в котором общность есть общность абстрактного понятия: как известно, чем шире объем понятия, тем беднее его содержание. В моральном сознании такой характер присущ абстрактному, гуманитарному признанию единственно существенным в человеке начала «общечеловеческого», культ «человечества». Все люди вообще, как все народы, оказываются здесь однородными представителями человека вообще, входят в состав однородного, универсального целого – «человечества». Всякое многообразие, все различное и индивидуальное в составе этого всеобъемлющего целого отвергается как нечто ничтожное, не имеющее подлинной реальности и ценности или далее имеющее ценность отрицательную, потому что предполагается, что оно ведет к разделению и обособлению. Эта установка утверждается повсюду, где моральное сознание находится под властью рационализма; основной моральный пафос есть здесь идея равенства всех людей, и это воззрение было провозглашено в античном мире, сперва некоторыми из софистов V века, в эпоху афинского просвещения, и позднее, вполне последовательно, в стоической философии. Оно постоянно возрождается во всех умственных течениях, утверждающих «естественное право» или «естественное состояние» в противоположность всему положительному, конкретному, историческому в человеческой жизни; такова основная тенденция французского Просвещения XVIII века и в наши дни – коммунистического «интернационализма», который есть в сущности «антинационализм». Но и великий общий моральный принцип Сократа, провозгласившего до Христа требование любить врагов не менее, чем друзей, носил этот характер абстрактного рационализма. «Любить» здесь означало просто творить благо, и смысл требования состоял в том, что благотворение есть некая общая, постоянная ценность человеческой жизни, перед лицом которой не имеют никакого значения все различия между людьми как объектами морального поведения.
Совершенно очевидно, что этот абстрактный количественный универсализм, как бы велика ни была в некоторых отношениях его положительная ценность – только по недоразумению именуется «любовью». Он не имеет ничего общего с любовью именно потому, что любовь всегда и необходимо направлена на конкретно-сущее, есть восприятие ценности конкретного существа, именно в его конкретности, т. е. индивидуальности. Нельзя любить «человечество», как нельзя любить «человека вообще»; можно любить только данного, отдельного, индивидуального человека во всей конкретности его образа. Любящая мать любит каждого своего ребенка в отдельности, никогда не смешает одного с другим, не потеряет из виду отличительные особенности каждого; она знает, ценит, любит то, что есть особого, единственного, несравнимого в каждом из ее детей. Поэтому универсальная, всеобъемлющая любовь не есть ни любовь к «человечеству» как к некому сплошному целому, ни любовь к «человеку» вообще; она есть любовь ко всем людям во всей конкретности и единичности каждого из них. Совершенно так же есть глубочайшая противоположность между так называемой любовью к человечеству, отрицающею и отвергающею все различия между национальностями, и той любовной широтою духа, в силу которой человек признает, почитает, любит все народы в своеобразии каждого из них, умеет любовью воспринимать гений, дух каждого народа и сознает человечество как всеобъемлющую семью, состоящую из разных и своеобразных членов; и так же велико различие, например, между вероисповедным индифферентизмом, который, исходя из мысли, что «Бог один для всех», усматривает в различии между исповеданиями только ничтожные, суетные человеческие измышления, и тем истинно-любовным восприятием конкретно-индивидуальных типов религиозной мысли и жизни, который, следуя великому завету Христа: «В доме Отца Моего обителей много», в своеобразии каждого из них видит нечто ценное, недостающее другим и их восполняющее.
Первое провозглашение такого конкретного, любовного универсализма в отношении национальностей, т. е. преодоление племенной религиозной исключительности, встречается еще в Ветхом Завете у пророка Исаии: «В те дни будет путь из Египта в Ассирию, так что ассиряне будут приходить в Египет и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассирянами будут служить Богу. В те времена Израиль будет втроем с Египтянами и Ассирянами, благословение среди земли. Тогда Бог Саваоф благословит их и скажет: благословен ты, Египет, народ мой, и ты, Ассур, дело рук моих, и ты, Израиль, мое достояние» (Ис 19:23–25). Но лишь в христианском сознании впервые принципиально и до конца было раскрыто существо любви, как конкретного универсализма, объемлющего все многообразие индивидуального бытия; в отношении различия между национальностями – иудеями и язычниками – это было утверждено в проповеди ап. Павла и в видении ап. Петра и символически открыто в даре разных языков, обретенном при сошествии Святого Духа. Библейское «смешение языков» при вавилонском столпотворении, когда люди перестали понимать друг друга, говоря на разных языках, сменено здесь любовным, дружным сотрудничеством между апостолами, ставшими как бы солидарной семьей, представляющей разные народы в своеобразии их языков и понятий. В качестве общего принципа единства и солидарности индивидуального многообразия это утверждается, например, в словах: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Петра 4:10). Или в словах: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело; так и Христос» (1 Кор 12:4–6,11–12).
Так всеобъемлющая любовь, в качестве восприятия и признания высшей ценности всего конкретно-живого, универсальна в двойном смысле – количественном и качественном: она объемлет не только всех, но и всё во всех. Признавая ценность всего конкретно-сущего, она объемлет всю полноту многообразия людей, народов, культур, исповеданий, и в каждом из них – всю полноту их конкретного содержания. Любовь есть радостное приятие и благословение всего живого и сущего, та открытость души, которая широко открывает свои объятия всякому проявлению бытия, как такового, ощущает его божественный смысл. Как говорит апостол в своем гимне любви: «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор 13:4–7). Для любви все злое, дурное в живом существе есть только умаление, искажение его истинной природы, только момент небытия, примешивающийся к бытию и препятствующий его осуществлению: она отвергает зло и борется против него, как любящий борется с болезнью и упадком сил любимого существа. Напротив, всякая положительная реальность, вся многообразная полнота сущего радостно приемлется любовью, ибо все истинно-сущее, как таковое, она воспринимает, как проявление божественного первоисточника жизни. Всякое отрицание здесь подчинено утверждению, моральная оценка есть здесь не суд, а диагноз болезни и ведет не к фанатизму ненависти, а к стремлению излечить, выправить истинное, положительное существо того, что искажено злом, помочь заблудившемуся найти правый путь, соответствующий его собственному назначению и подлинному желанию. Любовь есть нечто иное, чем терпимость, чем признание прав другого, готовность согласиться на его свободу осуществлять его собственные интересы, идти избранным им путем. Такой «либерализм» в смысле признания субъективных прав другого и подчинения своего собственного поведения правовому порядку, обеспечивающему эти права, есть некий минимум любовного отношения к людям – либо мертвый осадок истинной любви, либо лишь потенциальный ее зачаток, в котором она пассивно дремлет; уважение к правам других людей может сопровождаться равнодушием и безучастием к ним. Оно лишь моральное ограничение и самообуздание эгоистической воли, а не непроизвольное, радостное, активное движение воли навстречу жизни и живым существам. Напротив, любовь есть положительная, творческая сила, расцвет души, радостное приятие другого, удовлетворение своего собственного бытия через служение другому, перенесение центра тяжести своего бытия на другого. Если эта чудесная, возрождающая и просветляющая человеческое существование сила любви обычно, в порядке естественного бытия, направлена на кого-нибудь одного или на немногие личности близких, родных, друзей, «любимых» – существ, которые мы ощущаем нам духовно сродными или общение с которыми нам дает радость, – то христианское сознание открывает нам, что таково же должно быть наше отношение ко всем людям, независимо от их субъективной близости или чуждости нам, от их достоинств и недостатков.
Это не есть просто моральное предписание; в качестве такового оно обречено было бы оставаться бесплодным и неосуществимым. В заповеди универсальной любви, понимаемой как моральное предписание, как приказ: «Ты должен любить», содержится логическое противоречие. Предписать можно только поведение или какое-нибудь обуздание воли, но невозможно предписать внутренний порыв души или чувство; свобода образует здесь само существо душевного акта. Но завет любви к людям не есть моральное предписание; он есть попытка помочь душе открыться, расшириться, внутренне расцвести, просветлеть. Это есть попытка открыть глаза души, помочь ей увидать что-то, что ее притягивает к отдельному, избранному человеческому существу и делает его «любимым», – фактически присутствует, наличествует в какой-либо форме и менее явно для естественного взора души во всяком человеке и потому может и должно оказывать такое же действие на нашу душу. Это есть попытка воспитать внимание и зоркость души к истинной реальности всего конкретно-сущего, научить ее воспринимать в нем его ценность и притягательную силу, благодаря чему любовь, как субъективное чувство, любовь-предпочтение, прикованная к одному или немногим избранным существам, превращается в универсальную любовь, – в любовь как общую жизненную установку.
Любовь в этом смысле, как общая установка человеческой души, есть нечто впервые открытое христианским сознанием и совершенно неведомое дохристианскому и внехристианскому миру. Даже буддийское «tat twam asi» («это – тоже ты») – усмотрение наличности собственного «я» во всем сущем – при всей духовной значительности и возвышенности этой установки не есть любовь; ибо где я не имею перед собой вообще никакого «ты» – никакого иного существа, на которое я мог бы быть любовно направлен, – там не может быть любви, и вместе с моим собственным «я» и все остальное, признаваемое тожественным ему, должно быть погашено, уничтожено, растворено в блаженстве безразличной общности. В христианстве, напротив, любовь утверждается как живое, положительное приятие «ты», как усмотрение близкого мне «ты» во всех. И любовь в этом смысле становится общей жизненной установкой в отношении всего живого сущего в силу усмотрения, что это отношение совпадает с существом самого Бога и с исконно-вечным отношением человеческой души к Богу. Сам Бог – верховное творчество, начало и первоисточник самого нашего бытия – «есть любовь», т. е. есть сила, преодолевающая ограниченность, замкнутость, отъединенность нашей души и все субъективные ее пристрастия – сила, открывающая душу и дающая ей сознавать себя не как «монаду без окон», а как исконный и неотрывный член всеобъемлющего единства, помогающая ей усматривать в любовной солидарности со всем сущим основу ее собственной жизни. И наше отношение к ближнему, ко всякому человеческому существу и в пределе ко всякому живому существу вообще, совпадает с нашим отношением к Богу; то и другое есть единый, великий, просветленный акт преклонения перед Святыней, благоговейного видения исконной красоты, исконного Величия и Блага как первоосновы и сущности всяческой жизни. Любовь и вера здесь совпадают между собой. И поэтому, «если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею; то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви – то я ничто» (1 Кор 13:1–2). Любовь – радостное и благоговейное видение божественности всего сущего, непроизвольный душевный порыв служения, удовлетворение тоски души по истинному бытию через отдачу себя другим – эта любовь есть сама сердцевина веры. Созерцать Бога значит созерцать любовь, а созерцать любовь значит иметь ее, гореть ею. В этом существенное отличие христианского Богопознания от всякого философски-умозрительного – отличие, которое есть не противоположность, а лишь завершение, восполнение, подлинное осуществление того, к чему стремится умозрительная мистика. Поэтому живая любовь к человеку – ко всякому человеку – есть мерило реального осуществления стремления души к Богу. «Кто говорит, что он в свете, а ненавидит брата своего: тот еще во тьме. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» (1 Ин 2:9 и 4:20) Этот смысл христианской веры как религии любви, в конечном счете означает просто, что христианство до конца и всерьез принимает Бога как первоисточник и первооснову всего сущего, подлинно ощущает Его вездесущие, присутствие Творца в творении, реальность Творца как силы, объединяющей и пронизывающей все творение. И прежде всего и в особенности христианство видит Бога в человеке, ощущает, что корень и существо личности находится в Боге и есть проявление несказанно драгоценного Божиего существа. Христианство, будучи теизмом, есть одновременно панентеизм; будучи поклонением Богу, есть одновременно религия Богочеловека и Богочеловечности; именно поэтому оно есть религия любви; именно поэтому оно открывает в столь простом, естественном, прирожденном и необходимом человеку чувстве, как любовь, в радости и блаженстве любви – великое универсальное начало, первый, самый существенный и определяющий признак Бога. И притом, если в порядке отвлеченно-логическом религия любви вытекает из усмотрения вездесущия Бога и укорененности бытия в Боге, единства богочеловечности, то в порядке психологическо-познавательном – что здесь значит: в порядке сущностного действия Бога на человеческую душу и человеческое сознание – имеет силу обратное соотношение: любовь, как благодатная божественная сила, открывает глаза души и дает увидать истинное существо Бога и жизни в ее укорененности в Боге. Вот почему эта истина может открываться «младенцам» и оставаться скрытой от «мудрых и разумных».
С того момента как любовь в описанном ее смысле была открыта как норма и идеал человеческой жизни, как подлинная ее цель, в которой она находит свое последнее удовлетворение, мечта о реальном осуществлении всеобщего царства братской любви не может уже исчезнуть из человеческого сердца. Сколь бы тяжка, мрачна и трагична ни была фактическая судьба человечества, человек отныне знает, что истинная цель его жизни есть любовь, мечта об этой цели не перестает тайно волновать его сердце; она иногда заслоняется, вытесняется вглубь подсознательного слоя души другими ложными, призрачными и гибельными идеалами, но никогда уже не может быть искоренена из человеческого сердца. И человек часто также попадает на ложные пути в своем стремлении установить царство любви; основное заблуждение состоит здесь в попытке осуществить господство любви через принудительный порядок, через посредство закона; но закон может достигнуть только справедливости, а не любви; любовь – выражение и действие Бога в человеческой душе, будучи благодатной силой, по самой своей природе свободна; и так как человеческая душа несовершенна, то – вплоть до чаемого преображения и просветления мирового бытия – любовь обречена бороться в душе человека с противоположными ей злыми, плотскими, обособляющими страстями и может лишь несовершенно и частично осуществляться в мире. Царство любви остается в человеческой жизни лишь недостижимой путеводной звездой; но, даже оставаясь недостижимой, она не перестает руководить человеческой жизнью, указывать человеку истинный путь; поскольку человек остается верен этому пути, любовь, хотя и частично, реально изливается в мир, озаряя и согревая его. Как бы велика ни была фактически в человеческой жизни сила зла – сила ненависти и кощунственного попрания святыни личности – остается принципиальное различие между состоянием, когда это зло сознается именно как зло и грех, как отход от единственно правого пути любви, и тем злосчастным помрачением человеческого духа, когда он в своей слепоте отвергает самый идеал любви. Христианство открыло глаза души для упоительно-прекрасного видения царства любви; отныне душа в своей последней глубине знает, что Бог есть любовь, что любовь есть сила Божия, оздоровляющая, совершенствующая, благодатствующая человеческую жизнь. Раз душа это узнала – никакое глумление слепцов, безумцев и преступников, никакая холодная жизненная мудрость, никакие приманки ложных идеалов – идолов – не могут поколебать ее, истребить в ней это знание спасительной истины.
6. ЕДИНСТВО АСКЕТИЗМА И ЛЮБВИ В ХРИСТИАНСКОМ СОЗНАНИИ
Попытаемся теперь подвести итог намеченных выше моментов христианской веры, свести их в единство. При этом мы сразу же наталкиваемся на некую антиномичность христианского сознания. Итоги мотивов, которые я пытался уяснить в последних трех главах – понимание христианства как религии личности, как религии Богочеловечности и как религии любви, – легко и естественно укладываются в единство; эти три мотива суть очевидно только три разных аспекта одного и того же – любовно-благоговейного восприятия всего конкретно-сущего как творения, носящего на себе отпечаток божественной реальности, и служения ему как пути к достижению высшего блага и осуществлению конечной цели человеческой жизни. Но между этим мотивом и тем, который я пытался наметить в главе «Сокровище на небесах», не только нет видимого единства, но, казалось бы, есть даже явное противоречие и противоборство. Признает ли христианство положительную ценность всего сущего и притом в его конкретном воплощении в земном бытии, в реальности мира, или, напротив, оно отвергает все земное во имя небесного бытия, «сокровища на небесах»? На первый взгляд кажется, что эта дилемма допускает только одно из этих двух решений, вне которых возможна только внутренне противоречивая установка. Но совершенно бесспорно, что христианство фактически содержит в себе обе эти установки и указывает на некое высшее единство, в котором они совмещаются. У апостола Иоанна эта двойственность, которая кажется противоречием, выражена на протяжении немногих стихов. С одной стороны, говорится: «Кто любит брата своего, тот пребывает в свете», а сейчас же вслед за этим мы встречаем наставление: «Не любите мира, ни того, что в мире» (1 Ин 2:10,15). Невольно возникает недоумение: разве брат, которого мы должны любить, не находится в мире, не входит в состав мира? Или другой пример: как совместить заповедь Евангелия не заботиться о том, что есть, что пить и во что одеваться (Мф 6:25), с заповедью накормить алчущего, напоить жаждущего, одеть нагого (Мф 25:35–40)? И несомненно, что в разных формах христианской жизни или в разных течениях христианской мысли преобладает один из этих двух мотивов, оттесняя на задний план, а иногда и совсем вытесняя другой, ему противоположный.
Существует христианский аскетизм, основанный на стремлении «спасти свою душу», обрести «сокровище на небесах» через уход из мира и равнодушие ко всем земным нуждам и заботам человека; и существует христианская активность в мире, основанная на деятельной любви к людям, на стремлении помочь им в их земной нужде и часто отвергающая – по крайней мере, на практике – всяческий аскетизм, всякую мысль о небесном сокровище, как уклонение от христианского завета любовного служения людям. И все же остается бесспорным, что христианская жизненная установка по существу немыслима вне совмещения в некоем высшем единстве этих двух противоборствующих мотивов: всякое духовное направление, в котором это единство не наличествует и нарушается, есть уклонение от христианской правды.
Указанная двойственность христианской духовной установки имеет своим очевидным основанием двойственную природу человека и мирового бытия. Ее можно коротко выразить так: человек и мир по их фактическому составу, как они даны в эмпирической реальности, – не таковы, каковы они суть в их основе, в их подлинном существе. Различие это состоит в том, что, с одной стороны, все сущее, будучи сотворено Богом, прекрасно, ценно, носит на себе отпечаток божественного совершенства и величия – более того – пронизано божественными силами, укоренено в Боге и носит Его в своей глубине, и с другой стороны, фактически преисполнено несовершенства, страданий, зла. Не нужно при этом думать, что эта двойственность есть лишь плод произвольной, принятой «на веру» богословской теории, которая именно в силу этого обличалась бы как ложная; не нужно думать, что трудность сама собой устраняется, если мы признаем, что мир не сотворен всеблагим Богом, а либо имеет основание своего бытия в каком-либо несовершенном и злом начале, например сотворен и управляется «дьяволом», либо же, не будучи никем «сотворен», просто существует в качестве первичного, далее необъяснимого факта, во всем своем несовершенстве и всей своей бессмысленности. «Сотворенность мира Богом» или, общее говоря, пронизанность божественным началом, абсолютная ценность человека, всего конкретно сущего в их первооснове, в их подлинном, глубочайшем существе, не есть тезис, утверждение какой-либо отвлеченной теории, это есть факт, удостоверенный опытно – именно опытом нашего сердца. Что, например, убийство, уничтожение человека – более того, что всякое умаление и повреждение живого существа через его унижение, оскорбление, причинение ему страданий, – есть зло, т. е. нечто недопустимое, – это мы знаем не из какой-либо внушенной нам и на веру нами принятой богословской теории, это есть самоочевидная истина, о которой нам говорит наше сердце; человек может, конечно, заглушить в себе голос этой истины, может действовать вопреки ему и приучить себя не внимать ему, но он не может уничтожить, отменить силу, значимость этой истины, как не может сделать черное белым, и нарушение этой истины так или иначе карается искажением, порчей души, потерей душевного равновесия и душевной ясности у нарушающего ее (гениальное описание этого процесса во всей его неумолимой стихийности дал Достоевский в «Преступлении и наказании»). Но в этом сознании уже заключается восприятие божественности, абсолютной ценности самого существа человека и, в конечном счете, всего живого и конкретно-сущего – и, значит, тем самым, содержится признание божественности его первоосновы или первоисточника. Христианская вера только отчетливо выражает и санкционирует то, о чем с недвусмысленной ясностью говорит нам нравственный опыт нашего сердца. (И, напротив, распространенный тип неверия, признание бессмысленности, грубой фактичности всего сущего, сочетающийся с моральным требованием уважения и любви к человеку, содержит явное и совершенно безвыходное противоречие.) Тем более опытно очевиден другой соотносительный член этой антиномии – реальность несовершенства, страданий, зла, хотя и здесь, предоставленный самому себе, как бы разнузданный человеческий разум часто пытается – открыто или же косвенно, скрытым обходным путем – отвергать опытно данную, объективную реальность зла (открытое отрицание ее выражено, например в философии Спинозы; скрытое и обходное ее отрицание содержится во всех вариантах рациональной теодицеи, которые всегда сводятся в конечном счете к попытке так «объяснить» зло, чтобы показать, что оно «собственно» есть не зло, а добро). Таким образом, эта антиномия дана опытно и потому абсолютно неустранима. В христианском и уже в ветхозаветном вероучении эта антиномия выражена в учении о грехопадении. Это учение представляется современному, «просвещенному», неверующему сознанию произвольной выдумкой богословской мысли – и притом выдумкой зловредной, ибо препятствующей естественному и ценному стремлению достигнуть совершенства в устройстве мира и человеческой жизни. Но уже выше, в главе о догматах веры, мы уяснили, что если оставить в стороне образно-мифологическую, символическую сторону этого учения, то его существо сводится к констатированию простого и самоочевидного факта, что мир в его фактическом эмпирическом составе и состоянии не таков, каким он должен быть по своему истинному божественному существу. Если это так и если основание этому очевидно не может лежать в самом существе мира и человека, т. е. в его благом первоисточнике, то это соотношение, как мы уже видели, не может быть выражено иначе, чем в утверждении, что мир и человек «пал», т. е. фактически находится на уровне низшем, чем тот, к которому он предназначен по своему существу и происхождению. Как возможен такой факт, т. е. почему Бог не мог так сотворить мир или даровать ему такое существо, что его «падение» было бы невозможно, – это есть уже другой вопрос, и этот вопрос остается навсегда неразрешимым. Здесь мы стоим перед последней границей постижимого. Обычное объяснение, что Бог даровал человеку свободу, а человек плохо ей воспользовался, употребив ее во зло, – ничего не объясняет, ибо при этом остается необъяснимым, почему всемогущий и всеблагой Бог не мог даровать человеку такую свободу, которой нельзя было бы злоупотребить – свободу святости, возможность которой опытно удостоверена жизнью святых. В гениальной книге Иова открыто обличена религиозная несостоятельность, гордыня и потому кощунственность всех попыток рациональной и морализирующей теодицеи. Мир и человек фактически не таковы, каково их истинное, исконное существо, и ответственность за это не может падать на Бога, которого мы опытно воспринимаем как абсолютное Благо и абсолютный творческий Разум. Этими двумя отрицательными аксиомами или опытными данными исчерпывается все то, что мы можем знать о происхождении зла и бедствий, и догмат о грехопадении есть по существу не что иное, как просто единство, совместное признание этих двух истин.
Из этого хотя и рационально непонятного, но опытно данного положения вещей с очевидностью вытекает существо христианской духовной установки. Ее можно выразить так: осуществление природы и назначение человека и мира возможно только через их преодоление. Ибо осуществление означает при этом положении дела освобождение истинного существа человеческой души и – общее говоря – мирового бытия через преодоление их искаженной, испорченной, «падшей» эмпирической природы. Это значит: достижение «сокровища на небесах» – того блага, которое дарует полное и совершенное удовлетворение запросам человеческой души, соответствующим ее исконно-первозданному существу – осуществимо лишь на пути борьбы с «плотской», «мирской» природой человека и ее преодоления – на пути аскетизма. Идти по пути к блаженству и спасению, указанному Христом, можно, только взяв на себя «иго» Христово, возложив на себя его «бремя», однако иго это благо, и бремя легко – ибо оно искупается достигаемым при этом блаженством, и люди при этом находят «покой» своим душам. То же выражено в словах: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам: да не смущается сердце ваше, и да не устрашается» (Ин 14:27). Высший мир, который дарует Христос, непосредственно способен смущать и устрашать человеческое сердце; ибо он есть не что иное, чем мир в пределах и формах эмпирического мира – в его составе он есть тяжкий труд и борьба или, как говорится в другом месте, «не мир, но меч». Так благо достигается через возложение ига, свобода – через несение бремени, мир – через готовность идти на устрашающее состояние войны, «меча».
Отсюда уясняется основоположная истина христианского сознания, путь к совершенству – не только к нравственному совершенству (которое само совсем не есть высшая, абсолютная цель, а только момент, входящий в состав конечной цели жизни), но и к совершенству как таковому, т. е. к блаженству, к просветлению, к полному удовлетворению нашего томления, к достижению нашего истинного назначения, этот путь есть путь страдания. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Только банальное, популярное понимание может толковать эти слова так, что за страдание и лишение земной жизни человек получит, как бы по судебному решению Бога, возмещение с лихвой своих «убытков» в загробном мире, в посмертном существовании. Речь идет здесь не о судебном решении (о несовместимости юридического толкования христианской правды с самим ее существом уже приходилось говорить и придется еще подробнее говорить ниже) и не о «загробном» блаженстве или, по крайней мере, не о нем одном. Страдание есть в силу имманентной онтологической необходимости единственный путь к блаженству и совершенству. Как говорит Мейстер Эккарт: «Быстрейший конь, который доведет нас до совершенства, есть страдание». Это есть истина как бы медицинского порядка, человек есть существо больное – обреченное на страдание и гибель, поскольку он остается в своем фактическом состоянии, чтобы освободиться от болезни и обрести радость выздоровления и полноты сил, он должен принять горькое лекарство или подвергнуться болезненной операции. Человек в своем природном, фактическом состоянии задыхается, страдает от сужения дыхательных путей, через которые к нему притекает необходимый ему живительный воздух, и страдание есть нечто вроде обжигающего, раскаленного зонда, прочищающего дыхательные пути и впервые – если он проник достаточно глубоко! – дающего человеку возможность вздохнуть полной грудью, получить свободное общение с той глубиной, в которой свежий воздух входит в его кровь, – и, значит, впервые обрести настоящую радость и полноту жизни. Путь этот труден: «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян 14:22), и, конечно, кто «не имеет в себе корня и непостоянен», «когда настанет скорбь», «тотчас соблазняется» (Мф 13:21) – подобно трусливому больному, который готов скорее продолжать страдать от своей болезни и даже умереть от нее, чем набраться мужества для временных страданий лечения. Это не меняет того, что истинный путь человеческой жизни есть путь, символизируемый родами женщины: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости» (Ин 16:21). Яснее всего это понял величайший христианский гений Франциск Ассизский в своем прославлении нищеты, как «Прекрасной Дамы» и «невесты», любовь к которой дарует человеку неописуемое блаженство; ибо нищета со всеми лишениями и скорбями, с которыми она связана, несет человеку освобождение от уз и тягот мира, ту высшую свободу, легкость и независимость духа, которая одна есть истинное, неземное блаженство. Поэтому: «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царствие Божие». Ибо богатство есть цепь, порабощающая человеческую душу и соблазном легких, скоропреходящих и суетных радостей приковывающая его к земному бытию с его неизбежными волнениями, заботами и скорбями, т. е. с увековечением его несовершенного, горького, смутного состояния. И, напротив, отказ от собирания сокровищ на земле есть единственное условие обладания тем «сокровищем на небесах», о безопасности которого нет надобности беспокоиться, потому что оно недостижимо ни для моли и ржи, ни для воров. (Но об этом мы уже говорили выше.)
Что аскетизм, путь лишений и страданий, ведет к освобождению и истинному блаженству – это не есть учение, впервые возвещенное христианством; эта истина была известна человеческой мысли задолго до него; она была открыта уже греческой нравственной мудростью в лице циников и стоиков; в еще более резкой форме ее проповедовала индусская религиозная мудрость. Но при этом остается существенное различие между этими двумя формами внехристианского аскетизма, с одной стороны, и христианским аскетизмом – с другой. Можно сказать, что греческая и индусская формы аскетизма суть две крайние его формы, в промежутке между которыми находится аскетизм христианский (в исторических своих проявлениях он, впрочем, часто склонялся к этим двум иным формам – что было, однако, уже искажением его истинного существа). Пафос античного аскетизма есть эгоистическое утверждение личной независимости человека, основанное на равнодушии к миру, пафос индусского аскетизма есть достижение блаженства через самоуничтожение, потушение, растворение индивидуальной человеческой души – пафос блаженства небытия или состояния к нему близкого, нирваны. Обе эти крайние формы аскетизма вместе с тем сходны между собой в том, что существо блаженства или конечную цель человеческой жизни они усматривают в покое равнодушия, в простом отрицательном моменте избавления от мира или бегства из него. Напротив, христианский аскетизм не считает высшей целью жизни ни эгоистическое, отрешенное от общей судьбы мира и других людей самоутверждение замкнутой в себе и в этой форме свободной человеческой души, ни ее растворение, потухание, уничтожение. Истинная цель человеческой жизни, к которой хочет вести людей христианство, есть самоосуществление, расцвет человеческой души через такое ее самоограничение и самопреодоление, которое основано на всеобъемлющей любви к людям и ко всему бытию, на преодолении эгоистической самоутвержденности солидарным единством всех, соучастием в общей судьбе всего мира. Можно сказать, что если общая цель всякого аскетизма есть «спасение души», преодоление, через самоотречение и страдание, ее несовершенства, то только в христианстве «спасение души» таково, что есть одновременно и «спасение мира» и немыслимо вне последнего; напротив, ни в античном, ни в индусском аскетизме путь спасения не идет через спасение мира; античный аскетизм есть просто равнодушие к судьбе мира, основанное на признании неизменной и неустранимой обреченности мира на страдания, индусский аскетизм основан на убеждении, что единственное возможное спасение мира есть его самоуничтожение и что это самоуничтожение осуществимо только через самоуничтожение, саморастворение поодиночке каждой человеческой души, познавшей тщету и суетность мира.
И античный, и индусский (или, вообще, восточный) аскетизм имеют каждый свое неотразимое очарование, пленяют душу той очевидной правдой, которая содержится в каждом из них. В античном аскетизме пленяет его пафос аристократической свободы души, стремление освободиться от унизительного рабства перед слепым, жестоким роком, правящим мировой жизнью, достигнуть гордой автаркии – состояния единственно достойного богоподобия и богосродства человеческой души. В индусской религиозности пленяет острота и живость сознания «иного», глубинного, сверхмирного бытия, в котором преодолена скорбная раздробленность «этого» мира, его роковая обреченность на безысходную, мучительную гражданскую войну всех против всех, пленяет легкость, с которой люди Индии и Востока встречают смерть, страдание, отказываются от благ этого мира. Но обе эти – в одном отношении сходные, в другом глубоко разнородные – установки остаются все же односторонними по сравнению с христианской правдой. Христианская правда совмещает истину и античной, и индусской мудрости с другой, не менее существенной истиной – с истиной любви к бытию, как таковому, с радостным приятием и благословением всего конкретно-сущего как образа и воплощения абсолютно ценного, божественного бытия. Индусский аскетизм отвергает, как зло, весь мир вообще, античный аскетизм, ценя красоту мира, отвергает связь человека с миром, оба замыкаются от какой-то конкретной реальности, говорят ей «нет». Христианское сознание, напротив, радостно и любовно приемлет все сущее, говорит ему «да», отвергает только зло как искажение и умаление бытия. Для христианства истинное освобождение и блаженство человеческой души осуществимо только на пути ее солидарного соучастия в судьбе вселенского бытия, ее служения высшей и общей цели всего сущего. Эта цель есть преображение мира, достижение состояния, при котором «царство Божие» господствовало бы на земле, как оно есть «на небесах».
Что цель христианской активности есть преображение мира, достижение им совершенства – это вытекает из того, что – в резкой противоположности индусской религиозной мудрости – мировое бытие есть, как только что указано, для христианского сознания не зло, а добро. «Мир» есть зло, которого мы должны избегать, только поскольку под миром мы разумеем именно искаженное, испорченное состояние бытия, итог его падения. Поскольку же он есть просто воплощение бытия, он, в качестве творения Божия, есть благо. Христос нигде не учит, что плотские нужды человека сами по себе суть зло и что надо избегать их удовлетворения; Он только учит, что не следует обременять душу заботами об их удовлетворении, «ищите прежде всего Царства Божия, и все остальное приложится вам». Он не говорит, что пища, питье, одежда сами по себе суть нечто дурное, Он только говорит, что «душа больше пищи» и что Отец Наш небесный знает, что мы имеем нужду во всем этом, и Сам озаботится ее удовлетворением, ссылаясь на пример «полевых лилий», которых Бог сам одевает так, как не одевался и Соломон во всей славе его, Христос не только учит нас не обременять души земными заботами, но одновременно признает, что прекрасное одеяние, будучи даром Божиим, само по себе есть благо – подобно всему земному бытию, как творению Божию. Он даже дает обетование, что всякий, кто оставит все земное ради Него, получит не только «вечную жизнь в веке грядущем», но «и ныне, во время сие», «в сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель».
Христианский аскетизм есть, таким образом, не цель, а лишь средство, цель есть, напротив, полнота жизни – всяческой жизни – небесной, но и земной. Аскетизм здесь есть не презрение к миру, не отвержение мира, как зла, а истинный путь к приятию подлинного, благого существа вселенского бытия через освобождение души от рабства перед условиями мирового бытия, порожденными его искажением и падением. Именно в силу этого задача христианской жизни двойственна: она есть, с одной стороны, самоотречение, самоочищение через страдание, преодоление «мира» как низшего, искаженного состояния бытия, и в этом смысле уход из мира, и, с другой стороны, усмотрение высшего, абсолютно ценного существа и назначения мировой жизни, любовное служение совершенствованию мира, нуждам ближних. В бескорыстной, самоотверженной любви осуществляется сочетание отречения от мира и служения миру – сочетание столь интимно-тесное, что оба мотива взаимно обуславливают и осмысляют друг друга, так что уже нельзя определить, что здесь основание и что – следствие. Уход из мира, самоотречение, стремление возвыситься до сверхмирной установки – все это мыслимо только как достижение той глубины или высоты бытия, на которой кончается всякая замкнутость души в себе самой, всякая ее забота об ее собственном, одиночном благе, и душа осуществляет себя только в солидарности со всеми другими людьми, только в любовном служении им. И, напротив, установка преодоления личного эгоизма, установка самоотверженного любовного служения людям и спасения мира немыслима иначе, как через преодоление человеком земной, мирской его природы, через подъем души к Богу и ее укоренение в Боге. Конечно, заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» есть «первая и наибольшая заповедь», заповедь «Возлюби ближнего твоего как самого себя» есть по сравнению с первой лишь «вторая, подобная ей» (Мф 22:37–39, Мк 12:30–31, Лк 10:27). Эта иерархия заповедей означает лишь, что любовь к людям как природное расположение или сочувствие, не имеющее религиозного корня и смысла, есть нечто шаткое и слепое, т. е. что истинное основание любви к ближнему заключается, как мы уже видели, в благоговейном отношении к божественному началу личности – другими словами, в «любви к Богу». Но так как сам Бог «есть любовь», то истинно иметь и любить Бога и значит иметь любовь, т. е. любить людей, соблюдение первой заповеди подлинно удостоверяется соблюдением второй. Сердце, покинувшее мир, чтобы жить в Боге и гореть Богом, тем самым горит любовью ко всем людям; и, обратно, сердце, горящее истинной любовью (а не только шатким, пристрастным, субъективным расположением), тем самым горит Богом и живет в Боге. Обе заповеди суть лишь два нераздельно связанных между собою разных момента единой заповеди – того наставления «быть совершенным, как совершенен Отец небесный», которое указует всеопределяющую цель христианской жизни.
Итак, преодоление мира как искаженного, умаленного, больного состояния бытия и любовь к миру в его конкретной, живой первооснове, в которой он есть образ и воплощение божественного бытия и божественной ценности, суть две соотносительные и неразрывно связанные стороны одного и того же религиозного устремления. Соотношение между ними может быть выражено еще и так: В отношении себя самого человек не должен думать ни о чем земном, не должен заботиться о том, «что есть, и что пить, и во что одеваться»; он должен думать только о «сокровище на небесах», искать «царства Божия», т. е. стремиться покинуть низший, фактический уровень своего бытия и утверждаться в своей небесной родине, которая одна только соответствует истинному его существу и способна дать «покой его душе». Но в отношении других человек, наряду с заботой о помощи им в таком же духовном их возвышении и выздоровлении, должен, памятуя об абсолютной ценности своих ближних, осуществлять любовь к ним и в облегчении их телесных нужд, в заботе о тех земных условиях их жизни, которые необходимы для самого их бытия; именно поэтому он должен «накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, принять странника, посетить больного и заключенного». Охраняя само несовершенное мирское бытие ближнего, он тем самым обнаруживает истинную любовь, т. е. благоговейное отношение к божественной первосущности их как личностей. Этим он удостоверяет свое бытие в Боге, так как является проводником совершенства и любви Отца небесного, который заботится и о земных нуждах людей. Это различное отношение к себе самому и к другим определено тем, что каждый из нас прикован к низшему, земному, искаженному бытию только через посредство своих собственных, личных плотских страстей и вожделений, своих собственных земных нужд и потому только их и должен стремиться преодолевать; на вершине святости – там, где эта прикованность уже устранена, кончается и это различие, и св. Франциск Ассизский мог обнаруживать сострадание даже к своему собственному телу, как к «брату-ослу», с которым он ведет общую жизнь и которого он не хочет слишком истязать и насиловать.
Так именно из глубины сверхмирной установки, укорененности души в Боге, излучается действенная любовь к ближнему, благословение всего сущего, самоотверженное служение ему. И обратно: вне этой широты и открытости души, ее любовной устремленности служить всему конкретному, воплощенному бытию, как оно дано в его земном облике, связанным с земными нуждами, нет подлинной открытости души навстречу Богу, нет подлинной любви к Богу. Эти два внешне разных направления человеческой духовной энергии – как бы часто они ни расходились в несовершенном, всегда одностороннем эмпирическом человеческом существе – сами по себе и в своей основе совпадают, суть одно и то же направление. Преодоление узости, распространение вширь, достижимо лишь через углубление, устремленность вглубь. Только видимым образом, для поверхностного, близорукого взора движение вглубь есть сужение, уход от широты внешнего бытия; на самом деле охватить эту широту можно, только достигнув глубины; и обратно: нет подлинного достижения глубины, где нет открытости души для любовного приятия всей широты вселенского бытия. Единый акт религиозного раскрытия души, преодоление замкнутости, узости, сосредоточенности на самой себе есть одновременно и нераздельно ее раскрытие и вглубь и вширь: ибо душа в ее последней глубине не замкнута, а настежь открыта, и потому – чем глубже, тем шире.
Отсюда открывается то, что есть самый центр евангельского нравственного учения: заповедь Нагорной проповеди любить врагов, благословлять проклинающих, благотворить ненавидящим, давать просящему, не противиться злому, отдавать рубашку тому, кто отнимает верхнюю одежду, подставлять ударившему в правую щеку и другую щеку. Эта столь трогательная и столь парадоксальная заповедь – самое прекрасное и самое странное и трудно приемлемое из всего, что когда-либо достигло человеческого сознания, не только постоянно фактически нарушалось христианским миром по его человеческой слабости, по неверию и жестокосердию, но по большей части оставалось неусвоенной в ее подлинном смысле.
Конечно, нет ни надобности, ни возможности «объяснить» эту заповедь или эту духовную установку в той форме, чтобы логически обосновывать ее, вывести ее, как следствие, из чего-либо иного, более первичного. Истина ее – при всей ее парадоксальности, при всем ее несоответствии обычной мирской мудрости, основанной на внешнем, земном опыте, – раз высказанная, удостоверяет сама себя, самоочевидно воспринимается человеческим сердцем. Но можно и должно разъяснить подлинный смысл или содержание этой заповеди. Непротивление злу, смиренная готовность безответно терпеть в отношении себя самого несправедливость и оскорбления и отдавать еще больше, чем от тебя требуют, – это, прежде всего, не есть выражение какой-либо духовной пассивности и тем менее – нравственной робости или дряблости. Человек, молча переносящий несправедливость и оскорбления просто по трусости, конечно, еще более далек от евангельского совершенства, чем тот, кто бурно против них протестует и воздает злом за зло. Это есть, напротив, выражение высшей, самой напряженной духовной активности. Далее: эта заповедь требует от нас парадоксальным образом еще больше, чем заповедь любить ближнего, как самого себя: она учит нас любить ближнего – в отношении земных интересов и страстей – еще больше, чем самого себя, сознательно идти на несправедливое распределение благ – именно в пользу другого и в ущерб самому себе. Это требование можно понять только в связи с указанным выше сочетанием самопреодоления с любовью. В своем внутреннем самосознании человек имеет опыт, что всякое земное умаление есть духовное обогащение, что «давать блаженнее, чем брать»; напротив, в своем отношении к людям человек должен руководиться прежде всего сознанием благотворной силы любви как божественного, объединяющего, примиряющего и тем исцеляющего начала, и зловредности всякого столкновения личных интересов и страстей, увековечивающих и укрепляющих зло, разъединенности и взаимной враждебности. Так как преодоление земной, корыстной, испорченной природы человека возможно только как внутреннее самопреодоление, то оно, как мы знаем, возможно только в отношении себя самого; другому же мы можем помочь идти этим путем только одним способом – дать ему ощутить любовь, как божественную исцеляющую силу. И вместе с тем излучение вовне этой силы любви есть просто непроизвольное, естественное обнаружение нашей укорененности в Боге, присутствия Бога любви в нашей душе. Так оба указанных выше взаимосвязанных нравственных мотива – самопреодоление и любовь – войдя в некое химическое соединение между собой, порождают нечто новое, еще высшее – самоотверженную любовь.
Путь самоотверженной любви оказывается, таким образом – если можно выразиться здесь трезво-рассудочно – единственным правильным и плодотворным путем борьбы со злом и победы над злом. Так как зло есть обособление, разъединенность, враждебность, то его можно подлинно преодолеть только противоположностью – любовью, как огонь можно потушить только водою, и тьму рассеять – только светом; и сильнейшая и чистейшая любовь есть любовь самоотверженная. Иного способа сущностного, реального преодоления и уничтожения зла вообще не существует.
Это учение, несмотря на всю его очевидность, все же возбуждает естественные недоумения и возражения в человеческой душе. Его упрекают прежде всего в том, что оно предъявляет человеку требование, явно превышающее его ограниченные нравственные силы; как обычно говорится в таких случаях, «это хорошо в теории, но неосуществимо на практике». Такой упрек – и такое легкое оправдание непослушания божественному наставлению – нетрудно отвести двумя простыми указаниями. С одной стороны, это наставление, подобно всем евангельским заповедям, только открывает нам идеал совершенства и тем указует истинный нравственный путь, предоставляя каждому идти по этому пути так далеко, как он может; и, с другой стороны, слабость человека, как такового, всегда может быть дополнена помогающей ему бесконечной и всепревозмогающей благодатной силой Бога, поскольку человек ею проникается. И если нам известно, увы, достаточное количество образцов человеческой нравственной слабости, то нам известны и случаи совершенно безмерной нравственной силы, когда человек, чувствуя себя руководимым высшею, безапелляционно-принудительной для сердца инстанцией, совершает величайшие подвиги, сознавая, как это выразил однажды Лютер: «Иначе я не могу».
Но евангельское учение о борьбе со злом любовью встречает еще иное, менее корыстное и на первый взгляд более серьезное возражение. Указывают на то, что фактически любовь во многих случаях бессильна одолеть зло и что отказ от других, более массивных и земных средств борьбы со злом, именно от противодействия ему просто силой, т. е. злом же, но при этих обстоятельствах благотворным, равнозначен некой нравственной пассивности, робкой капитуляции перед фактом зла – что, очевидно, совершенно недопустимо – по крайней мере там, где злая воля вредна и причиняет страдания не нам самим, а нашим ближним. Но это возражение, сколько бы правды оно ни содержало, основано на простом – хотя и не всегда легко сознаваемом – недоразумении: оно бьет мимо цели, не понимая истинного смысла заповеди «не противься злу». Оно справедливо только в отношении того, столь ярко выраженного Львом Толстым, ложного понимания этой заповеди, по которому, следуя не ее духу, а ее букве, мы должны разуметь под ней безусловное запрещение всяких насильственных действий или вообще действий земного порядка в борьбе со злом, и даже перед лицом готовящегося или совершающегося на наших глазах убийства или истязаний человека должны ограничиться только любовным увещанием злодея, далее если оно остается бесплодным. Заповедь Христа, очевидно, не может стоять в столь вопиющем противоречии с тем, что нам явственно говорит наша совесть. Как бы часто люди ни злоупотребляли силой в борьбе со злом, и сколь бы морально вредно ни было такое злоупотребление, остается просто очевидным, что – поскольку мы не в силах одним любовным увещанием остановить убийцу или насильника – мы не только вправе, но и обязаны противодействовать ему силой, остановить его преступную руку, обезвредить его, связав и заперев его – в крайнем случае, если для обороны жертвы не остается никакой иной возможности, даже убив его. Грех убийства в этом случае, оставаясь грехом, будет все же меньше греха пассивности во имя нашей чистоты перед лицом совершающегося зла; ибо в таком вынужденном убийстве будет больше любви не только к жертве готовящегося преступления, но даже и к самому преступнику, чем в отказе от успешной борьбы со злом.
Но как совместить такое, диктуемое простой человеческой совестью, решение с недвусмысленным евангельским наставлением «не противься злу» и притом с разъясненным выше его смыслом, именно, что единственная сила, побеждающая зло, есть только любовь и ничто иное? Недоумение легко разрешается по существу, хотя в порядке психологическом его иногда нелегко найти и усвоить. Прежде всего: то, что от нас требуется при всех условиях, это любить ближнего и никогда не отвечать на зло злом, существо которого есть именно ненависть. Эта заповедь по существу абсолютно ненарушима, как бы часто люди по своему несовершенству ее ни нарушали. Любить и жалеть человека – в том числе и преступника – можно и должно даже в том крайнем случае, когда вынужден бываешь преградить совершение зла таким грехом, как убийство преступника. Дело в том, что евангельская мораль – я уже говорил об этом – не есть закон, повелевающий или запрещающий определенные действия, а есть указание верного пути к совершенствованию внутреннего строя души (и отношений между людьми). Так она наставляет нас всегда любить ближних и изгонять всякую корысть и ненависть из отношения к людям; но она отнюдь не запрещает нам – в форме отвлеченного правила действия – в случаях, когда это диктуется именно любовью, физически противодействовать злой воле даже самыми суровыми мерами. Правда, человеку психологически трудно совершать такие насильственные действия, не поддаваясь при этом внутренней силе злобы и ненависти; трудно, но не невозможно. Ибо по существу дела здесь нет никакого непримиримого противоречия – по той простой причине, что две разнородные обязанности относятся к совершенно разным объектам: основная заповедь любви есть требование определенного умонастроения и отношения к людям, требование же морально необходимого насильственного вмешательства для ограждения жизни от зла есть требование определенных внешних действий. Но еще раз: как все же с тем смыслом евангельского наставления, что зло нельзя победить насилием и какими-либо вообще земными средствами? Здесь надлежит отчетливо различать две вещи: подлинное преодоление зла в смысле сущностного его уничтожения, и простое ограждение жизни от разрушительного действия зла. Местопребывание зла, как и добра, есть только незримая глубина человеческой души, недостижимая ни для каких внешних насильственных действий и достижимая только для духовных сил любви – или ненависти. Никакими внешними действиями, никаким принуждением – вплоть до уничтожения через убийство самого преступника – нельзя сущностью уничтожить, развеять зло, потушить пожар злых страстей. Но наряду с этой обязанностью сущностью уничтожать или ослаблять зло любовью мы имеем еще иную обязанность, также диктуемую любовью: спасать людей от действия существующего зла путем простого ограждения мира, путем возможного изолирования зла, преграждения ему путей для его разрушительного действия. Евангельский завет «не противься злу» означает наставление не отвечать злом на зло, не мстить, а, напротив, отвечать на зло добром – любовью. Он означает одновременно, как уже указано, наставление не огорчаться, а, напротив, радоваться всякому, наносимому нам самим, земному ущербу, так как он имеет даже благотворное действие для нашей внутренней духовной жизни, помогая нам подыматься и обретать «сокровище на небесах». Но этот евангельский завет не может означать равнодушия к страданиям других, причиняемым злом, отказа от земных активных мер противодействия злу. Напротив, всюду, где мы не можем облегчить нужды наших ближних одним лишь излучением благодатных сил, именно любовь диктует нам обязанность помочь им всеми земными средствами – так же, как, несмотря на сущность заботы о земных благах, мы обязаны накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого. Христианская любовь должна – именно в силу разъясненной выше двойственности нашей человеческой природы – осуществляться одновременно двумя путями: непосредственным излучением благодатных сил любви, поскольку мы им причастны, и исполнением долга любви через земные – и потому иногда обремененные грехом – действия, направленные на облегчение участи наших ближних.[20 - В этой последней части размышления этой главы мне пришлось вкратце повторить мысль, подробно обоснованную мною в книге «Свет во тьме», гл. 4-я.]
7. ПУТЬ КРЕСТА
Теперь мы, наконец, подготовлены к адекватному восприятию того, что может быть признано основой и как бы стержнем христианской веры и что нашло себе полное выражение не в одном только «учении» Христа, но в Его жизни, в конкретном облике Его личности. Это есть то, что можно назвать «путем креста» и что связано со смыслом искупительной жертвы Христовой.
Все три синоптических евангелия передают слова Христа: «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою обречь, тот потеряет ее: а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф 16:24–25, Мк 8:34–35, Лк 9:23–24). Как известно, греческое psyche, переводимое словом «душа», означает также жизнь; и смысл последнего стиха состоит в том, что человек, боязливо охраняющий свою жизнь, руководимый «инстинктом самосохранения», обречен на гибель, тогда как истинный, царственный путь спасения состоит в самопожертвовании, в готовности отдать свою жизнь ради Христа или – что то же – во имя любви. С этим совпадает указание высшей меры любви, в которой она становится, очевидно, причастным существу Христовой любви, и человек подлинно следует пути Христову: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:13).
В этом состоит путь креста. Он есть нечто иное, чем указанный выше путь аскетизма, и образует как бы его завершение. Если выше мы усмотрели специфическое существо христианского аскетизма в единстве самоопределения и любви, то это есть только как бы приближение, шаг на пути к тому последнему осуществлению смысла человеческой жизни, в котором человек уподобляется Христу, – к акту самопожертвования, добровольной жертвенной смерти из любви к людям и миру. Путь христианской жизни есть, в конечном итоге и последнем завершении, не простое следование отвлеченно-общим заветам и заповедям Христа; с полной отчетливостью он открывается нам как путь следования за Христом, подражания Христу. Основная, всеобъемлющая заповедь: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный» – имеет свое иное выражение в завете уподобления Христу, стремления к совершенству Христову.
Это совершенство нашло, как указано, свое последнее высшее выражение в добровольной, жертвенной смерти Христа за мир. Но, прежде чем пытаться уяснить подлинный смысл этого акта, попытаемся в меру возможности уловить основную, определяющую черту общего облика Христа. Указание на нее дано, как мне кажется, в словах: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня; ибо я кроток и смирен сердцем» (Мф 11:29).
Кротость, как основная черта облика Христова, выражена в Новом Завете неоднократно – в цитатах из пророка Исаии, предрекавшего облик и образ жизни избранника Божия: отрок Божий, которого Бог избрал, возлюбленный Божий, на которого Он положил Свой Дух, «не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улице голоса Его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Ис 42, Мф 12:19–20). «Как овца, веден был Он на заклание; и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В унижении Его суд Его совершился» (Ис 53, Деян 8:32–33).
Как известно, в состав заповедей блаженства также входит восхваление кротости. В числе парадоксальных и умиляющих в своей парадоксальности обетовании блаженства всем умаленным, страждущим, отрекшимся от земных благ и личного самоутверждения – обетование «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», имеет, как мне кажется, какую-то совершенно особую выразительность и как-то особенно поражает сердце. Качество, которое здесь имеется в виду, есть – как уже пришлось упоминать выше – конечно, нечто совсем иное, чем простая уступчивость по душевной слабости, по неспособности упорствовать и бороться там, где это нужно. Кротость есть нравственное состояние души, в котором любовное отношение к другим и отказ от самоутверждения образуют совместно неразделимое единство. Кротость есть надмирность – или, употребляя выражение Мейстера Эккарта, «отрешенность» (Abgeschiedenheit) от мира, – вместе с тем любовно обращенная на мир, сочетание радости обладания «сокровищем на небесах», избавляющим от искания земных благ, с благословением, приятием всего земного бытия, с спокойно-радостным движением ему навстречу. Кротость есть готовность терпеливо и даже спокойно переносить страдания и лишения, сочетание страдальческого пути с радостью, даруемой любовью. Это есть прямая противоположность той специфической земной установке души, при которой самоутверждение сочетается с борьбой против врагов и соперников, с отстаиванием против них своих притязаний и интересов. И если вся мудрость житейского, земного опыта говорит, что жизненный успех обеспечен только сильным, борющимся, самоутверждающимся, то здесь бросается вызов всей этой земной мудрости; дается обетование, что именно кроткие «наследуют землю». Нельзя вообразить себе ничего более парадоксального. Кротким обетуется не только небесное блаженство, но и наследование земли. Не гордые, беззастенчивые, хищные и жестокие завоеватели, не сильные и герои, не победители на войне или в жизненной борьбе, не ловкие и хитрые «дети века сего» в конечном итоге будут истинными хозяевами земли, а именно кроткие – те, которые не борются за свои притязания, а без борьбы, любовно все уступают другим, кто уже исполнены тихой радостью обладания «сокровищем на небесах» и ни в чем ином не нуждаются, ничего земного не добиваются. Конечно, это невероятно с точки зрения всей земной мудрости; но правда христианства, будучи подлинной правдой, по самому своему существу парадоксальна, невероятна. И вместе с тем это невероятное упование не только неописуемо сладостно, утешительно; в человеческом сердце есть такая глубина, в которой оно с очевидностью усматривает эту возвещенную ему неслыханную и невозможную правду, именно как последнюю, подлинную, безусловную правду, перед лицом которой все земные истины испаряются, как дым.
Этому античному гуманизму недоставало, однако, одного решающего элемента. Богосродство человека не сопровождается солидарностью, внутренней связью между божеством и людьми. Если боги или, по крайней мере, некоторые из богов и мыслились наставниками, покровителями и защитниками человека, как и блюстителями правды, в общем – именно в виду принципиального равенства между богами и людьми – они были скорее соперниками людей, иногда даже их врагами, и во всяком случае существами, имеющими свои собственные интересы и цели жизни и потому в принципе равнодушными к человеку. «Государство богов и людей» походило на феодальное государство, в котором люди были низшим благородным сословием, а боги – олигархией высоких и могущественных вельмож; к чувству уважения к этой правящей группе – одновременно и благоговения перед ней и сознания своего сродства с ней – присоединялось чувство недоверия и отчужденности; недоставало той внутренней спаянности, которая возможна только на почве безусловного доверия и солидарности, нераздельного соучастия в общей жизни. Античный мир был глубоко религиозен; никому не приходило и в голову сомневаться в существовании богов. Но античный мир был проникнут постоянным сомнением в том, интересуются ли боги судьбой человека и можно ли рассчитывать на их помощь в утверждении правды, на их милосердие. Люди молились богам как бы наугад; они ждали от богов скорее зла, чем добра. И религия означала скорее веру, что и трагизм, бедствия, неправда человеческой жизни проистекают также от богов.
Поэтому актуальное, решающее значение религиозная идея богоподобия и богосродства человека обрела только в христианском сознании, где она была дополнена идеей органической связи между Богом и человеком. Первоисточник этого нового сознания есть, конечно, далее необъяснимое откровение Христа – откровение о Боге как любящем отце и о царстве Божием как родном доме человеческой души. Беря эту основную идею христианства как явление историческое, мы должны – не вдаваясь ни в какие шаткие и более или менее произвольные догадки об историко-генетических связях – просто констатировать, что в ней дан органический синтез между ветхозаветным представлением о зависимости человеческого бытия от Бога, его укорененности в Боге, и античном представлении о богосродстве и высшем достоинстве человека. Сила, связавшая воедино эти два представления или, вернее, из себя самой породившая их неразрывную сопринадлежность, есть откровение, что связь между Богом и человеком есть связь любви – что сам Бог есть любовь и что это божественное начало есть сама основа человеческого бытия. Этим основано совершенно новое, единственно достойное и духовно здоровое отношение между человеком и Богом, одинаково далекое и от рабской подчиненности, и от бунтарского самоутверждения человека. Это есть отношение свободного служения, в котором осуществляется подлинное назначение человека. С этой точки зрения само бунтарское самоутверждение обнаруживается как форма рабского самосознания. Если Ницше определил полемически христианство как «восстание рабов в морали», то это было глубочайшим недоразумением (которое, впрочем, имело свои исторические основания). Именно антирелигиозный гуманизм есть восстание рабов; только рабу нужно бороться за свою свободу, низвергать тираническую власть, сбрасывать с себя оковы и цепи. Свободный гражданин, а тем более аристократ, не устраивает революции; царский сын, наследник престола, не испытывает унижения и стеснения своей свободы в своем вольном служении отцу, потому что сам есть соучастник и его интересов и его достоинства. Здесь нет противоположности и противоборства между чужой и собственной волей, между подчинением высшей инстанции и самоопределением, автономией. Для аристократа верховная власть, которой он служит, есть не чуждая, порабощающая и умаляющая его власть, а, напротив, власть, его освобождающая и укрепляющая его положение; она есть как бы только средоточие и вершина его собственной власти. Не бунт, а служение облагораживает человека; достоинство свободного человека требует, чтобы он вел себя не как строптивый раб, а как человек, почтенный высоким саном. Его духовная установка определена принципом noblesse oblige, свободным и радостным сознанием своей внутренней солидарности с верховной инстанцией и ценностью, которой он служит. Именно это аристократическое сознание внушает апостол христианам в словах: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет» (1 Петр 2:9); в этом же смысле евангелист говорит, что истинный свет, пришедший в мир, дал принявшим его «власть быть чадами Божиими» (Ин 1:12), и сам Христос называет своих учеников «не рабами, а друзьями».
Можно сказать, что христианство впервые полностью раскрыло смысл богоподобия и богосродства человека, постигло всю значительность этой идеи и вытекающие из нее следствия. Идея, только намеком выраженная в книге Бытия, что Бог вдохнул в человека свой дух, раскрыта в христианстве в отчетливом сознании, что «Он дал нам от Духа своего» (1 Ин 4:13). Представление о человеке как творении дополняется сознанием, что человек в качестве духа «рожден от Бога», «от Духа», «свыше». Это парадоксальное, так поразившее Никодима («учителя Израилева») учение, что человек, кроме рождения «от плоти», из утробы матери, имеет еще иное рождение «свыше», «от Духа», совсем не исчерпывается, как это часто думают, указанием, что человек способен пережить духовный переворот, «обращение» и в этом символическом смысле начать жить новой, высшей жизнью; само это «перерождение» было бы невозможно, если бы Бог с самого начала не «дал нам от Духа Своего» – если бы человек по самому своему существу не был «духом, рожденным от Духа». Это решающее открытие, в конце концов, прямо содержится в центральном догмате христианской веры в Бога как «отца». «Отец» есть не только любящее существо, на покровительство которого мы можем положиться, «Отец» есть именно отец – существо, от которого мы произошли, которому мы сродны, к «дому» которого мы принадлежим и «царство» которого нам уготовано от века.
Всякое религиозное сознание, как таковое, – сознание Святыни, абсолютного Блага, Верховного Начала, Божества – само собой предполагает иерархизм, ставит человека в положение существа, подчиненного некой высшей инстанции. Но это иерархическое сознание (которое одно только дарует смысл человеческой жизни, ставит перед ним цель, дает ему мерило должного и недолжного, руководит им на жизненном пути) может иметь совершенно различное духовное значение, смотря по тому, сопровождается ли оно сознанием совершенной разнородности между человеком и Богом или, наоборот, их внутреннего сродства и близости. В первом случае оно есть подчинение чуждой трансцендентной власти, смысл велений которой нам непонятен; оно испытывается как зависимость и принуждение, как насильственная ломка природы человека; во втором случае она есть свободное служение, в котором человек впервые осуществляет сам себя, находит удовлетворение интимным запросам своего духа. В сущности, Бог, абсолютно инородный человеку, есть только бог, как тиран, как существо злое, враждебное человеку; всякое представление о Боге как покровителе и защитнике человека, как блюстителе и, тем более, носителе добра уже молчаливо предполагает некоторую степень сродства между человеком и Богом, ибо Бог при этом дарует – и, тем самым, есть – то, что нужно человеку, о чем томится человек, т. е. к чему он влечется и предназначен по своей природе. Но только христианство, в качестве совершенной религии, доводит этот мотив до его последней полноты: прибегая к Богу, отдаваясь и служа Ему, человек просто впервые полностью осуществляет самого себя; только в связи с Богом человек находит свое истинное существо. «Ты создал нас для себя», говорит бл. Августин, «и неспокойно сердце наше, пока не упокоится в Тебе». Бог есть родина и почва человеческой души; Бог сам человечен, как человек – потенциально божествен.
Таким образом, это третье, единственно истинное представление о человеке основано не столько на отрицании первых двух или, точнее, их определяющих мотивов, сколько на гармоническом их сочетании, дающем подлинное осуществление того, что истинно в них обоих. Ветхозаветное представление, что человек в качестве творения есть существо, само по себе бессильное, испытывающее шаткость и бренность своего бытия и почерпающее силу только из своей связи с иным, первичным, несотворенным, вечным началом или существом – Богом, это представление само по себе совершенно справедливо. К существу человека принадлежит сознание его нищеты и нужды, его «mis?re», как говорил Паскаль; и когда человек это забывает и начинает воображать себя самодержавным творцом и хозяином своей жизни, он строит свою жизнь «на песке», на иллюзии, и горьким опытом убеждается, что впал в гибельное заблуждение. Но эта его зависимость от Бога и связь с Богом есть вместе с тем его достоинство. Послание к Евреям приводит слова псалмиста, в которых уже выражено это двойное самосознание человека: «Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред ангелами; славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его» (Пс 8:4–6). Более того, уже в Ветхом Завете встречается мысль, выраженная в учении о грехопадении, что дело идет здесь о фактической нищете человека, об его униженном состоянии, которая есть его собственная вина, итог уклонения от истинного пути, а не об онтологическом его ничтожестве. Ничтожен только отпавший от Бога человек; человек в том его существе, к которому он предназначен при сотворении именно в качестве слуги и соучастника Божией силы и славы, имеет, напротив, высокое достоинство. Униженное состояние человека есть, как говорит Паскаль, mis?re d’un grand seigneur, d’un roi dеpossеdе. Уже самый факт, что человек способен знать эту свою фактическую нищету и скорбеть о ней, есть признак его величия – свидетельство, что его истинное существо не исчерпывается этим отрицательным моментом. Само искание опоры для своего бытия вне себя, само сознание, что такая опора ему нужна и у него есть, обличает, что Бог, в качестве полюса, необходимо противостоящего человеческому бытию, есть тем самым его необходимый коррелят, т. е. что связь с Богом есть внутренний признак самого существа человека.
И обратно: гуманизм, вера человека в самого себя, в свое высокое призвание, в свою способность активно строить жизнь и осуществлять добро – все это само по себе совершенно правильно; и квиетизм, готовность пассивно успокоиться на сознании своего безнадежного ничтожества, есть великое и греховное заблуждение. Бог ждет от человека не пассивности, а напряженной духовной и нравственной активности. Человек призван быть не простым объектом действия Божией воли и силы, а действенным и ответственным, сознающим свою силу субъектом – активным сотрудником Бога, кто не имеет этого сознания, тот есть раб ленивый и лукавый. Если Христос говорит своим ученикам: «Без Меня не можете делать ничего», то это отнюдь не противоречит обратному соотношению. Христос мог бы прибавить – и косвенно неоднократно дает это понять: «Но и без вас, без вашей готовности идти Мне навстречу, и Я не могу ничего делать». Но только эта свободная активность человека основана именно на его неразрывной связи с Богом, должна быть соучастием в Божием деле. Именно потому, что человек есть существо высокого порядка, что он потенциально божествен, принадлежит к Божиему роду, его подлинное самоосуществление есть не своеволие, не удовлетворение его субъективных влечений (так осуществляет себя только животное), а служение – подчинение низшего начала в себе высшему, осуществление абсолютной правды. Человек находит и утверждает самого себя в своей истинной человечности – в том, что отличает его от животного, только когда находит и утверждает Высшее, чем он сам. Служение унижает только низменную природу раба; оно возвышает и осмысляет жизнь свободного, аристократического существа. Все дело в том, что человек по самому своему существу есть истинный человек, когда он есть нечто большее, чем просто человек – чем изолированное, замкнутое в себе и сосредоточенное на самом себе только человеческое существо.
Это единственное здоровое и нормальное человеческое самосознание упирается в конечном итоге в сознание столь интимно-неразрывной связи человека с Богом, что эта связь становится неким двуединством. Это значит: богоподобие и богосродство человека, в сочетании с необходимым различием между Богом и человеком, предполагает идею богочеловечности. Исторически в христианском сознании идея богочеловечности открылась конкретно в личности Иисуса Христа и была фиксирована в христологическом догмате. Сколь бы смутными и иногда схоластически-беспредметными нам ни казались теперь догматические споры и искания первых веков христианства и сколько бы человеческой греховности в них ни участвовало, – надо изумляться точности и глубине их окончательных достижений. В образе Христа, в единстве Его личности было усмотрено «неразрывное и неслиянное» двуединство двух природ – Божеской и человеческой, и это было позднее еще дополнено усмотрением в Нем двух «воль» – Божеской и человеческой. Кажется, в популярном, господствующем христианском сознании полнота и глубина этого достижения была позднее снова в значительной мере утрачена. Христос стал мыслиться снова просто как Бог – Бог в человеческом образе, который при этом в религиозно-психологическом порядке силою вещей становится образом обманчивым. Но Христос не есть просто Бог, как Он не есть просто человек. Он не есть ни то, ни другое – потому что Он есть сразу и нераздельно и то, и другое. Величие и смысл образа Христа состоит в том, что человеческое существо, подобное каждому из нас, могло одновременно быть сосудом, носителем и воплотителем Божиего существа. Что человек может быть вестником и медиумом Божией воли и Божиего откровения – это принадлежит к числу постоянных и необходимых человеческих религиозных представлений, иначе Бог вообще не мог бы открываться, голос Божий не мог бы достигать нас. И, с другой стороны, что под обманчивым обликом человека может являться само божество – это принадлежит по крайней мере к числу весьма распространенных древних религиозных представлений (так, античная религиозность полна рассказов об этом). Но чтобы истинный человек, оставаясь таковым, мог быть больше, чем вестником и медиумом Божиих велений, а именно воплощением самого существа Бога – в этом обнаруживается специфическая великая идея богочеловечности. Современный человек склонен либо брать эту идею как непонятный ему «догмат» церкви, который как цинично выражался Гоббс в отношении церковного вероучения вообще – «надо проглатывать, не разжевывая», либо отвергает ее как суеверие. Этим он обнаруживает, что, несмотря на весь свой «гуманизм», на свою веру в высокое назначение человека, он в сущности подавлен сознанием ничтожества и низменности человека, не имеет чутья к великим возможностям, таящимся в том бездонно-глубоком существе, которое называется человеком; и вместе с тем он обнаруживает, что имеет о Боге некое первобытное представление, как о существе, подавляющем своей стихийной огромностью, совершенно инородном человеческой личности и несоизмеримом и несовместимом с нею.
Конечно, христианское сознание справедливо проникнуто чувством глубочайшего различия между личностью Христа и обычным типом человеческого существа (включая даже величайших гениев). Оно ясно видит опасность, лежащую в том, что человек – обычный экземпляр человеческой природы – может возомнить себя существом, подобным Христу, это не раз бывало и всегда кончалось катастрофой, обличалось как кощунственное и гибельное заблуждение. Совершенно очевидно, что Христа нельзя подвести под обычное понятие человека, т. е. что Его конкретный образ можно понять только как чудо – как нечто единственное и неповторимое. Но, с другой стороны, Христос не мог бы называться человеком, не мог бы признаваться образцом, которому должен следовать каждый из нас, если бы Его существо было принципиально и абсолютно инородно нашему, toto coelo
отличалось от него. Напротив, весь смысл образа Христа состоит в том, что в Нем мыслится актуально и абсолютно осуществленным то, что потенциально составляет наше собственное существо. Он есть «новый Адам» – новый и совершенный родоначальник истинной природы человека. И если религиозно мы должны сознавать актуальную и абсолютную богочеловечность Христа как основание нашей собственной потенциальной богочеловечности, то, с другой стороны, само это понятие совершенного богочеловека было бы немыслимо, если бы первозданное существо человека, как такового, не было от века уготовано и предназначено к воплощению в себе этого совершенного богочеловеческого существа, т. е. если бы не существовало вечного, исконного сродства и единства между человеком и Богом. В этом смысле богочеловечность есть общая идея, распространяющаяся на человека вообще, на все человечество. Богочеловечность Христа есть осуществление возможности, заложенной в существе человека. Это не есть отвлеченная возможность, конкретно вообще не осуществимая для всех других людей, слишком часто забывают обетование Христа, что верующий в Него дела, который творит, Он, и он сотворит и даже «больше сих сотворит» (Ин 14:12). Как я уже выше говорил, истинный человек есть нечто большее, чем только человек. Можно сказать, что человечное в человеке есть именно его богочеловечность.
Это не есть какое-нибудь новое, дерзновенное учение, сколь бы непривычным оно ни казалось на первый взгляд. Уже выше я говорил, что христианство есть религия человеческой личности; оно открывает святость, абсолютную ценность человеческой личности; оно проповедует веру в человека; и если оно одновременно внушает человеку сознание его греховности, то это сознание именно потому так тяжело и напряженно, что состояние греховности мыслится противоречащим истинному существу человека и искажающим его – плодом противоестественного «падения» его с высоты, на которой он призван стоять. Ни античный, ни ветхозаветный человек не знал святости каждой человеческой личности, как таковой, не испытывал чувства благоговения перед абсолютной ценностью той реальности, которая открывается в каждом человеческом существе, – и притом так, что эта ценность безусловно неистребима и поэтому присутствует даже в самом порочном, низменном и ничтожном человеке. Античный мир, несмотря на свой гуманизм, мог верить, что раб и варвар есть существо принципиально иной природы, чем свободный и эллин. Ветхозаветный человек – по крайней мере до религиозных достижений в его великих пророках – мог сознавать инородцев и язычников существами иного порядка, чем избранный народ Израиль, и мог думать, что сама душа грешника и нечестивца подлежит истреблению. И мы присутствуем теперь при возрождении этих первобытных представлений. Но все это противоречит христианскому сознанию, утверждающему святость человеческой личности, существа человека, как такового. Но что такое святость или абсолютная ценность, как не атрибут Божества? Одно не вошедшее в Евангелие речение Иисуса Христа гласит: «Ты увидел брата своего – ты увидел Господа своего» (vidisti fratrem tuum – vidisti Dominum tuum). Но то же самое выражено в словах Евангелия, что накормивший алчущего, напоивший жаждущего, принявший странника, одевший нагого, посетивший больного или заключенного, сделал все это самому Христу, ибо все люди суть Его «меньшие братья». Образ Христа учит нас, таким образом, что очеловечение Бога возможно в силу того, что человек предназначен быть сосудом Божества, потенциально божествен по самому своему существу, что наше тело, как говорит апостол, есть «храм Божий» и что «дух Божий живет в нас». В учении восточной церкви об «обожении» (??????) как последнем назначении человека, христианская церковь открыто выразила этот универсальный и основоположный смысл идеи богочеловечности.
Но образ Христа учит нас одновременно и обратной стороне богочеловечности человека. «Обожение» человека, раскрытие и актуализация его потенциальной божественности не есть простое, как бы имманентное самораскрытие и самоосуществление человека; оно возможно только на пути самопреодоления человека в том его естестве, в котором он отличен от Бога, – на пути самоотверженного служения Богу, подчинения своей личной, только человеческой воли воле Божией. Как совершенный Богочеловек был Богочеловеком именно потому, что творил не Свою волю, а волю Пославшего Его, – так то же имеет силу и в отношении каждого человека. Истинная богочеловечность человека, его великое достоинство, его власть быть чадом Божиим осуществляется в его служении Богу. Человек по самому своему существу призван быть служителем Бога – священнослужителем. Идея всеобщего священства необходимо вытекает из самого христианского понимания человека и входит в состав самого существа христианской веры. И в этом отношении Христос есть образец для всех нас – Христос, который, хоть Он и Сын, однако страданиями «навык послушанию и был наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека» (Евр 5:8,10).
Богочеловечность человека обнаруживается, таким образом, одновременно в двух своих соотносительных аспектах – и в том, что каждая человеческая личность сама по себе, будучи образом самого Бога, есть святыня, и в том, что человек имеет истинный смысл своего существа и бытия в служении Святыне.
5. РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ
Что христианство в указанном выше смысле есть религия человеческой личности и религия Богочеловечности, имеет свое последнее основание в чем-то более простом и в каком-то смысле еще более значительном. Если оно усматривает высшую, абсолютную ценность и онтологическую обоснованность человека в той исконности, полноте и глубине его существа, которое мы называем личностью, если оно воспринимает человека как святыню, как образ и потенциальный сосуд Бога, то это в известном смысле просто совпадает с тем, что христианская религиозная установка есть установка любви. Ибо любовь не есть просто субъективное чувство, в силу которого то, что мы любим, «нравится» нам, доставляет нам радость или удовольствие. Предмет любви часто, напротив, доставляет нам огорчения и страдания; вообще говоря, равнодушный в каком-то смысле счастливее или, по крайней мере, спокойнее любящего, ибо свободен от забот и волнений; не случайно греческая философская мудрость признавала высшим благом невозмутимость (атараксию) и бесчувствие (апатию). В предмете любви многое может нам не нравиться, сознаваться как недостаток – от этого мы не перестаем его любить, и забота о благе любимого связана со многими страданиями и волнениями. Любовь есть непосредственное восприятие абсолютной ценности любимого; в качестве такового она есть благоговейное отношение к нему, радостное приятие его существа, вопреки всем его недостаткам, перемещение на любимое существо центра тяжести личного бытия любящего, сознание потребности и обязанности служить любимому, чего бы это ни стоило нам самим. Любовь есть счастие служения другому, осмысляющее для нас и все страдания и волнения, которые нам причиняет это служение. Так любит мать своего ребенка, даже сознавая все дурное в нем; даже если этот ребенок стал существом преступным и порочным и вызывает во всех других людях справедливое порицание и возмущение, мать не перестает ощущать, что его душа в последней глубине и истинном существе есть нечто абсолютно драгоценное, прекрасное, священное. Все его пороки она сознает как болезнь его души, искажающую его подлинное существо, как источник страданий и опасность для него самого. Она знает, что человек, который кажется другим существом несовершенным, быть может, ничтожным или порочным и отвратительным, в его последней глубине остается тем же самым незабвенным, прекрасным существом, которое в своей первой младенческой улыбке раз навсегда явил ей свою неземную, драгоценную сущность.
Любовь есть, таким образом, благоговейное, религиозное восприятие конкретного живого существа, видение в нем некоего божественного начала. Всякая истинная любовь – все равно, отдает ли себе отчет в этом сам любящий или нет – есть, но самому ее существу, религиозное чувство. И вот именно это чувство христианское сознание признает основой религии вообще. В этом отношении, как и в других, христианская правда, будучи парадоксальной, т. е. противореча обычным, господствующим человеческим понятиям, вместе с тем дает высшее выражение самой глубокой и интимной потребности человеческого сердца и есть, как я уже говорил, «естественная религия». Что любовь есть вообще драгоценное благо, счастье и утешение человеческой жизни – более того, единственная подлинная ее основа – это есть истина общераспространенная, как бы прирожденная человеческой душе. Лирическая поэзия всех времен и народов прославляет блаженство эротической любви. Но эротическая любовь, при всей ее силе и значительности в человеческой жизни, есть в лучшем случае лишь зачаточная форма истинной любви в намеченном выше смысле, или же благоухающий, но хрупкий цветок, распускающийся на стебле любви, а не ее подлинный корень. По основной, исходной своей сущности она корыстна, – определена радостью, которую любимое существо дает любящему в более высокой, очищенной форме она есть эстетическое восхищение, т. е. совпадает с восприятием красоты, телесной и душевной, любимого существа. Это восприятие красоты уже содержит, как мы знаем, элемент религиозного чувства, поэтому через него в любимом существе усматривается отблеск чего-то божественного, и оно само «обоготворяется». Но именно в этом заключается роковая и трагическая иллюзорность эротической любви, обнаруживается, что она основана на некоем обмане зрения. Истинное религиозное чувство, имеющее своим подлинным объектом святыню, само Божество, ошибочно фиксируется на несовершенном человеческом существе, в этом смысле эротическая любовь есть ложная религия, некоторого рода идолопоклонство. То же можно выразить иначе, сказав, что заблуждение состоит здесь в том, что религиозная ценность человеческой души, как таковой, т. е. ее субстанциального ядра, ошибочно переносится на ее эмпирические качества и обнаружения, фактически несовершенные. Когда заблуждение разбивается трезвым восприятием эмпирической реальности, эротическая любовь, поскольку она остается фиксированной на эмпирическом, внешнем облике любимого, т. е. поскольку она не переходит в иную, высшую форму любви, неизбежно кончается горькими разочарованиями, а иногда по реакции переходит даже в ненависть. Платон в диалоге «Симпозион» описывает подлинное назначение эротической любви именно как первой ступени к религиозному чувству: любовь к прекрасным телам должна переходить в любовь к «прекрасным душам», а последняя – в любовь к самой Красоте, совпадающей с Добром и Истиной. Здесь любовь к человеку имеет свой единственный смысл как путь любви к Богу и, исполнив свое назначение, преодолевается и исчезает. Как бы много правды ни содержалось в этом возвышенном учении, оно все же не содержит всей правды любви, мы не можем подавить впечатления, что этот путь очищения и возвышения любви содержит все же и некое ее умаление и обеднение; ибо «любовь» к Богу, как к «самой Красоте» или «самому Добру», есть менее конкретно живое, менее насыщенное, менее полное чувство, чем подлинная любовь, которая есть всегда любовь к конкретному существу, можно сказать, что любовь к Богу, купленная ценою ослабления или потери любви к живому человеку, совсем не есть настоящая любовь. Есть, однако, и другой, более совершенный путь развития и углубления эротической любви – именно, когда она постепенно научает любящего воспринимать абсолютную ценность самой личности любимого, т. е. когда через любовь к внешнему облику любимого – телесному и душевному – мы проникаем к тому глубинному его существу, которое этот облик «выражает», хотя всегда и несовершенно, – к его личности, а это значит: к его существу как к индивидуально-конкретному тварному воплощению божественного начала личного Духа в человеке. Здесь иллюзорное обоготворение чисто эмпирически-человеческого, как такового, преобразуется в благоговейно-любовное отношение к индивидуальному образу Божию, к богочеловеческому началу, подлинно наличествующему во всяком, далее самом несовершенном, ничтожном и порочном человеке. Истинный брак есть путь такого религиозного преображения эротической любви, и можно сказать, что в этом таинственном «богочеловеческом» процессе преображения и состоит то, что называется «таинством брака».
Другой естественный зачаток истинной любви есть присущее человеку чувство товарищеской или соседской солидарности, братской близости членов семьи или племенного и национального сродства. Первоначальный смысл слова «ближний» означает именно человека «близкого» в одном из этих, сходных между собою отношений. Человек по своей природе есть существо социальное, член группы, ему естественно иметь близких, соучастников общей коллективной жизни, как естественно, с другой стороны, за пределами этой группы иметь чуждых или врагов. Чувство сопринадлежности к некоему коллективному целому, сознание, выражаемое в слове «мы», есть естественная основа всякого индивидуального самосознания, всякого «я»; «я» предполагает отношение к некоему или неким «ты», т. е. сопринадлежность к «мы» – к форме бытия, в которой я сознаю себя или свое сущим и за пределами «меня самого». Отношения между «близкими», членами общей группы, суть – несмотря на возможность или даже необходимость в них начала иерархии – отношения принципиального равенства, при котором каждый признает и «блюдет» «права» других, равноценные и соотносительные его собственным правам. Первоначальный, элементарный смысл заповеди «люби ближнего, как самого себя» в Ветхом Завете состоит именно в этом принципе справедливости, взаимного уважения нрав и интересов соплеменников, членов общей группы. Это отношение есть нечто иное, чем любовь в специфическом смысле этого понятия, хотя и содержит ее зачаток. В нем другой, «ближний», уже сознается в принципе существом, подобным «мне», на него переносится то чувство значительности, существенности, исконности, которое присуще сознанию самого себя как носителя жизни и жизненных интересов: в «ты» я прозреваю как бы другое «я». Но это отношение само определено сознанием сродства, общности, близости; оно не распространяется на всякого человека, как такового, а скорее предполагает необходимость выделения «ближних», «своих», от «других», «чужих», «далеких». Это отношение определяет – употребляя меткий термин Бергсона – установку «замкнутой группы». В противоположность этому христианское отношение к любви есть отношение «открытое», преодолевающее все человеческие ограничения. В притче о милосердном самарянине отчетливо показано это преображение понятия ближнего; «ближним» оказывается не соплеменник, не единоверец, а, напротив, иноплеменник, инаковерующий, но проявивший сострадание, милосердие, любовь. Любовь обнаруживается здесь как сила, превозмогающая естественное человеку, как природному существу, различение между «своим» и «чужим», «другом» и «врагом». В практике даже и христианской церкви это древнее, прирожденное человеку сознание различения между своим и чужим продолжает жить в вероисповедной замкнутости и отчужденности, тем более оно живет в практике мирской жизни человечества, именующего себя христианским, во всех формах групповой ограниченности – в замкнутости дома и семьи, в сословной и национальной исключительности, – коротко говоря, во всяком esprit de corps. В противоположность этому любовь в христианском смысле этого понятия означает преодоление всякой групповой замкнутости; в ней все люди, как таковые, признаются «братьями», членами единой всеобъемлющей вселенской семьи, детьми единого Отца. В этой формуле с гениальной религиозной простотой выражен радикальный переворот в отношении между людьми: самая тесная, интимная, замкнутая связь – связь между членами одной семьи – расширяется так, что охватывает всех людей без различия, даже (как у св. Франциска), – все творение без различия, чем преодолена всякая групповая замкнутость.
Христианство, в качестве религии любви, т. е. религии, определенной восприятием общего божественного происхождения и божественной ценности всех людей, и потому их сопринадлежности к всеобъемлющему целому, объединенному любовью, – универсалистично, «кафолично» по самому своему существу. Все различия классов, национальностей, рас и культур – сколь бы естественны они ни были в порядке природного или чисто человеческого бытия – становятся несущественными, только относительными, превозмогаются универсально-объединяющей силой любви, утверждающей единство в Боге всего человеческого рода. Где человек «облекся в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его» – т. е., где силою любви человек проникает до самого существа личности, как образа Божия – там «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного; но все и во всем Христос» (Кол 3:10–11). С этой принципиальной точки зрения такое, например, понятие, как «римско-католическая (т. е. „римско-универсальная“) церковь» – если оставить в стороне неизбежность умаления абсолютной истины в ее человечески-историческом выражении – есть, строго говоря, такая же нелепость, какою была бы какая-нибудь «московская таблица умножения» или «китайская причинная связь». Ибо в первичном основоположном смысле «Церковь Христова» есть не что иное, как превосходящее и преодолевающее все земные различия единство людей в Боге – единство, открывающееся любви как благоговейному религиозному восприятию божественного существа человеческого образа, как такового. Сколько бы люди в своей конкретно-эмпирической, исторической жизни ни грешили против этой религии любви – то, что раз открылось в этой религии – объединяющая сила любовного восприятия человека, как начала абсолютно-ценного, – уже не может исчезнуть из человеческого сознания, а продолжает действовать в нем, напоминать ему об абсолютной правде и о ничтожестве перед ее лицом всех земных, обособляющих и разъединяющих оценок и мерил.
Но этим чисто количественным и экстенсивным универсализмом не исчерпывается и потому не выражается адекватно существо христианской любви. Количественный универсализм сам по себе склонен быть – и фактически в истории человеческого морального сознания постоянно бывает – универсализмом абстрактным: широта духовного взора искупается здесь бедностью воспринимаемого содержания, идет за счет конкретной полноты. Таков основной признак всякого интеллектуального универсализма, в котором общность есть общность абстрактного понятия: как известно, чем шире объем понятия, тем беднее его содержание. В моральном сознании такой характер присущ абстрактному, гуманитарному признанию единственно существенным в человеке начала «общечеловеческого», культ «человечества». Все люди вообще, как все народы, оказываются здесь однородными представителями человека вообще, входят в состав однородного, универсального целого – «человечества». Всякое многообразие, все различное и индивидуальное в составе этого всеобъемлющего целого отвергается как нечто ничтожное, не имеющее подлинной реальности и ценности или далее имеющее ценность отрицательную, потому что предполагается, что оно ведет к разделению и обособлению. Эта установка утверждается повсюду, где моральное сознание находится под властью рационализма; основной моральный пафос есть здесь идея равенства всех людей, и это воззрение было провозглашено в античном мире, сперва некоторыми из софистов V века, в эпоху афинского просвещения, и позднее, вполне последовательно, в стоической философии. Оно постоянно возрождается во всех умственных течениях, утверждающих «естественное право» или «естественное состояние» в противоположность всему положительному, конкретному, историческому в человеческой жизни; такова основная тенденция французского Просвещения XVIII века и в наши дни – коммунистического «интернационализма», который есть в сущности «антинационализм». Но и великий общий моральный принцип Сократа, провозгласившего до Христа требование любить врагов не менее, чем друзей, носил этот характер абстрактного рационализма. «Любить» здесь означало просто творить благо, и смысл требования состоял в том, что благотворение есть некая общая, постоянная ценность человеческой жизни, перед лицом которой не имеют никакого значения все различия между людьми как объектами морального поведения.
Совершенно очевидно, что этот абстрактный количественный универсализм, как бы велика ни была в некоторых отношениях его положительная ценность – только по недоразумению именуется «любовью». Он не имеет ничего общего с любовью именно потому, что любовь всегда и необходимо направлена на конкретно-сущее, есть восприятие ценности конкретного существа, именно в его конкретности, т. е. индивидуальности. Нельзя любить «человечество», как нельзя любить «человека вообще»; можно любить только данного, отдельного, индивидуального человека во всей конкретности его образа. Любящая мать любит каждого своего ребенка в отдельности, никогда не смешает одного с другим, не потеряет из виду отличительные особенности каждого; она знает, ценит, любит то, что есть особого, единственного, несравнимого в каждом из ее детей. Поэтому универсальная, всеобъемлющая любовь не есть ни любовь к «человечеству» как к некому сплошному целому, ни любовь к «человеку» вообще; она есть любовь ко всем людям во всей конкретности и единичности каждого из них. Совершенно так же есть глубочайшая противоположность между так называемой любовью к человечеству, отрицающею и отвергающею все различия между национальностями, и той любовной широтою духа, в силу которой человек признает, почитает, любит все народы в своеобразии каждого из них, умеет любовью воспринимать гений, дух каждого народа и сознает человечество как всеобъемлющую семью, состоящую из разных и своеобразных членов; и так же велико различие, например, между вероисповедным индифферентизмом, который, исходя из мысли, что «Бог один для всех», усматривает в различии между исповеданиями только ничтожные, суетные человеческие измышления, и тем истинно-любовным восприятием конкретно-индивидуальных типов религиозной мысли и жизни, который, следуя великому завету Христа: «В доме Отца Моего обителей много», в своеобразии каждого из них видит нечто ценное, недостающее другим и их восполняющее.
Первое провозглашение такого конкретного, любовного универсализма в отношении национальностей, т. е. преодоление племенной религиозной исключительности, встречается еще в Ветхом Завете у пророка Исаии: «В те дни будет путь из Египта в Ассирию, так что ассиряне будут приходить в Египет и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассирянами будут служить Богу. В те времена Израиль будет втроем с Египтянами и Ассирянами, благословение среди земли. Тогда Бог Саваоф благословит их и скажет: благословен ты, Египет, народ мой, и ты, Ассур, дело рук моих, и ты, Израиль, мое достояние» (Ис 19:23–25). Но лишь в христианском сознании впервые принципиально и до конца было раскрыто существо любви, как конкретного универсализма, объемлющего все многообразие индивидуального бытия; в отношении различия между национальностями – иудеями и язычниками – это было утверждено в проповеди ап. Павла и в видении ап. Петра и символически открыто в даре разных языков, обретенном при сошествии Святого Духа. Библейское «смешение языков» при вавилонском столпотворении, когда люди перестали понимать друг друга, говоря на разных языках, сменено здесь любовным, дружным сотрудничеством между апостолами, ставшими как бы солидарной семьей, представляющей разные народы в своеобразии их языков и понятий. В качестве общего принципа единства и солидарности индивидуального многообразия это утверждается, например, в словах: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Петра 4:10). Или в словах: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело; так и Христос» (1 Кор 12:4–6,11–12).
Так всеобъемлющая любовь, в качестве восприятия и признания высшей ценности всего конкретно-живого, универсальна в двойном смысле – количественном и качественном: она объемлет не только всех, но и всё во всех. Признавая ценность всего конкретно-сущего, она объемлет всю полноту многообразия людей, народов, культур, исповеданий, и в каждом из них – всю полноту их конкретного содержания. Любовь есть радостное приятие и благословение всего живого и сущего, та открытость души, которая широко открывает свои объятия всякому проявлению бытия, как такового, ощущает его божественный смысл. Как говорит апостол в своем гимне любви: «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор 13:4–7). Для любви все злое, дурное в живом существе есть только умаление, искажение его истинной природы, только момент небытия, примешивающийся к бытию и препятствующий его осуществлению: она отвергает зло и борется против него, как любящий борется с болезнью и упадком сил любимого существа. Напротив, всякая положительная реальность, вся многообразная полнота сущего радостно приемлется любовью, ибо все истинно-сущее, как таковое, она воспринимает, как проявление божественного первоисточника жизни. Всякое отрицание здесь подчинено утверждению, моральная оценка есть здесь не суд, а диагноз болезни и ведет не к фанатизму ненависти, а к стремлению излечить, выправить истинное, положительное существо того, что искажено злом, помочь заблудившемуся найти правый путь, соответствующий его собственному назначению и подлинному желанию. Любовь есть нечто иное, чем терпимость, чем признание прав другого, готовность согласиться на его свободу осуществлять его собственные интересы, идти избранным им путем. Такой «либерализм» в смысле признания субъективных прав другого и подчинения своего собственного поведения правовому порядку, обеспечивающему эти права, есть некий минимум любовного отношения к людям – либо мертвый осадок истинной любви, либо лишь потенциальный ее зачаток, в котором она пассивно дремлет; уважение к правам других людей может сопровождаться равнодушием и безучастием к ним. Оно лишь моральное ограничение и самообуздание эгоистической воли, а не непроизвольное, радостное, активное движение воли навстречу жизни и живым существам. Напротив, любовь есть положительная, творческая сила, расцвет души, радостное приятие другого, удовлетворение своего собственного бытия через служение другому, перенесение центра тяжести своего бытия на другого. Если эта чудесная, возрождающая и просветляющая человеческое существование сила любви обычно, в порядке естественного бытия, направлена на кого-нибудь одного или на немногие личности близких, родных, друзей, «любимых» – существ, которые мы ощущаем нам духовно сродными или общение с которыми нам дает радость, – то христианское сознание открывает нам, что таково же должно быть наше отношение ко всем людям, независимо от их субъективной близости или чуждости нам, от их достоинств и недостатков.
Это не есть просто моральное предписание; в качестве такового оно обречено было бы оставаться бесплодным и неосуществимым. В заповеди универсальной любви, понимаемой как моральное предписание, как приказ: «Ты должен любить», содержится логическое противоречие. Предписать можно только поведение или какое-нибудь обуздание воли, но невозможно предписать внутренний порыв души или чувство; свобода образует здесь само существо душевного акта. Но завет любви к людям не есть моральное предписание; он есть попытка помочь душе открыться, расшириться, внутренне расцвести, просветлеть. Это есть попытка открыть глаза души, помочь ей увидать что-то, что ее притягивает к отдельному, избранному человеческому существу и делает его «любимым», – фактически присутствует, наличествует в какой-либо форме и менее явно для естественного взора души во всяком человеке и потому может и должно оказывать такое же действие на нашу душу. Это есть попытка воспитать внимание и зоркость души к истинной реальности всего конкретно-сущего, научить ее воспринимать в нем его ценность и притягательную силу, благодаря чему любовь, как субъективное чувство, любовь-предпочтение, прикованная к одному или немногим избранным существам, превращается в универсальную любовь, – в любовь как общую жизненную установку.
Любовь в этом смысле, как общая установка человеческой души, есть нечто впервые открытое христианским сознанием и совершенно неведомое дохристианскому и внехристианскому миру. Даже буддийское «tat twam asi» («это – тоже ты») – усмотрение наличности собственного «я» во всем сущем – при всей духовной значительности и возвышенности этой установки не есть любовь; ибо где я не имею перед собой вообще никакого «ты» – никакого иного существа, на которое я мог бы быть любовно направлен, – там не может быть любви, и вместе с моим собственным «я» и все остальное, признаваемое тожественным ему, должно быть погашено, уничтожено, растворено в блаженстве безразличной общности. В христианстве, напротив, любовь утверждается как живое, положительное приятие «ты», как усмотрение близкого мне «ты» во всех. И любовь в этом смысле становится общей жизненной установкой в отношении всего живого сущего в силу усмотрения, что это отношение совпадает с существом самого Бога и с исконно-вечным отношением человеческой души к Богу. Сам Бог – верховное творчество, начало и первоисточник самого нашего бытия – «есть любовь», т. е. есть сила, преодолевающая ограниченность, замкнутость, отъединенность нашей души и все субъективные ее пристрастия – сила, открывающая душу и дающая ей сознавать себя не как «монаду без окон», а как исконный и неотрывный член всеобъемлющего единства, помогающая ей усматривать в любовной солидарности со всем сущим основу ее собственной жизни. И наше отношение к ближнему, ко всякому человеческому существу и в пределе ко всякому живому существу вообще, совпадает с нашим отношением к Богу; то и другое есть единый, великий, просветленный акт преклонения перед Святыней, благоговейного видения исконной красоты, исконного Величия и Блага как первоосновы и сущности всяческой жизни. Любовь и вера здесь совпадают между собой. И поэтому, «если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею; то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви – то я ничто» (1 Кор 13:1–2). Любовь – радостное и благоговейное видение божественности всего сущего, непроизвольный душевный порыв служения, удовлетворение тоски души по истинному бытию через отдачу себя другим – эта любовь есть сама сердцевина веры. Созерцать Бога значит созерцать любовь, а созерцать любовь значит иметь ее, гореть ею. В этом существенное отличие христианского Богопознания от всякого философски-умозрительного – отличие, которое есть не противоположность, а лишь завершение, восполнение, подлинное осуществление того, к чему стремится умозрительная мистика. Поэтому живая любовь к человеку – ко всякому человеку – есть мерило реального осуществления стремления души к Богу. «Кто говорит, что он в свете, а ненавидит брата своего: тот еще во тьме. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» (1 Ин 2:9 и 4:20) Этот смысл христианской веры как религии любви, в конечном счете означает просто, что христианство до конца и всерьез принимает Бога как первоисточник и первооснову всего сущего, подлинно ощущает Его вездесущие, присутствие Творца в творении, реальность Творца как силы, объединяющей и пронизывающей все творение. И прежде всего и в особенности христианство видит Бога в человеке, ощущает, что корень и существо личности находится в Боге и есть проявление несказанно драгоценного Божиего существа. Христианство, будучи теизмом, есть одновременно панентеизм; будучи поклонением Богу, есть одновременно религия Богочеловека и Богочеловечности; именно поэтому оно есть религия любви; именно поэтому оно открывает в столь простом, естественном, прирожденном и необходимом человеку чувстве, как любовь, в радости и блаженстве любви – великое универсальное начало, первый, самый существенный и определяющий признак Бога. И притом, если в порядке отвлеченно-логическом религия любви вытекает из усмотрения вездесущия Бога и укорененности бытия в Боге, единства богочеловечности, то в порядке психологическо-познавательном – что здесь значит: в порядке сущностного действия Бога на человеческую душу и человеческое сознание – имеет силу обратное соотношение: любовь, как благодатная божественная сила, открывает глаза души и дает увидать истинное существо Бога и жизни в ее укорененности в Боге. Вот почему эта истина может открываться «младенцам» и оставаться скрытой от «мудрых и разумных».
С того момента как любовь в описанном ее смысле была открыта как норма и идеал человеческой жизни, как подлинная ее цель, в которой она находит свое последнее удовлетворение, мечта о реальном осуществлении всеобщего царства братской любви не может уже исчезнуть из человеческого сердца. Сколь бы тяжка, мрачна и трагична ни была фактическая судьба человечества, человек отныне знает, что истинная цель его жизни есть любовь, мечта об этой цели не перестает тайно волновать его сердце; она иногда заслоняется, вытесняется вглубь подсознательного слоя души другими ложными, призрачными и гибельными идеалами, но никогда уже не может быть искоренена из человеческого сердца. И человек часто также попадает на ложные пути в своем стремлении установить царство любви; основное заблуждение состоит здесь в попытке осуществить господство любви через принудительный порядок, через посредство закона; но закон может достигнуть только справедливости, а не любви; любовь – выражение и действие Бога в человеческой душе, будучи благодатной силой, по самой своей природе свободна; и так как человеческая душа несовершенна, то – вплоть до чаемого преображения и просветления мирового бытия – любовь обречена бороться в душе человека с противоположными ей злыми, плотскими, обособляющими страстями и может лишь несовершенно и частично осуществляться в мире. Царство любви остается в человеческой жизни лишь недостижимой путеводной звездой; но, даже оставаясь недостижимой, она не перестает руководить человеческой жизнью, указывать человеку истинный путь; поскольку человек остается верен этому пути, любовь, хотя и частично, реально изливается в мир, озаряя и согревая его. Как бы велика ни была фактически в человеческой жизни сила зла – сила ненависти и кощунственного попрания святыни личности – остается принципиальное различие между состоянием, когда это зло сознается именно как зло и грех, как отход от единственно правого пути любви, и тем злосчастным помрачением человеческого духа, когда он в своей слепоте отвергает самый идеал любви. Христианство открыло глаза души для упоительно-прекрасного видения царства любви; отныне душа в своей последней глубине знает, что Бог есть любовь, что любовь есть сила Божия, оздоровляющая, совершенствующая, благодатствующая человеческую жизнь. Раз душа это узнала – никакое глумление слепцов, безумцев и преступников, никакая холодная жизненная мудрость, никакие приманки ложных идеалов – идолов – не могут поколебать ее, истребить в ней это знание спасительной истины.
6. ЕДИНСТВО АСКЕТИЗМА И ЛЮБВИ В ХРИСТИАНСКОМ СОЗНАНИИ
Попытаемся теперь подвести итог намеченных выше моментов христианской веры, свести их в единство. При этом мы сразу же наталкиваемся на некую антиномичность христианского сознания. Итоги мотивов, которые я пытался уяснить в последних трех главах – понимание христианства как религии личности, как религии Богочеловечности и как религии любви, – легко и естественно укладываются в единство; эти три мотива суть очевидно только три разных аспекта одного и того же – любовно-благоговейного восприятия всего конкретно-сущего как творения, носящего на себе отпечаток божественной реальности, и служения ему как пути к достижению высшего блага и осуществлению конечной цели человеческой жизни. Но между этим мотивом и тем, который я пытался наметить в главе «Сокровище на небесах», не только нет видимого единства, но, казалось бы, есть даже явное противоречие и противоборство. Признает ли христианство положительную ценность всего сущего и притом в его конкретном воплощении в земном бытии, в реальности мира, или, напротив, оно отвергает все земное во имя небесного бытия, «сокровища на небесах»? На первый взгляд кажется, что эта дилемма допускает только одно из этих двух решений, вне которых возможна только внутренне противоречивая установка. Но совершенно бесспорно, что христианство фактически содержит в себе обе эти установки и указывает на некое высшее единство, в котором они совмещаются. У апостола Иоанна эта двойственность, которая кажется противоречием, выражена на протяжении немногих стихов. С одной стороны, говорится: «Кто любит брата своего, тот пребывает в свете», а сейчас же вслед за этим мы встречаем наставление: «Не любите мира, ни того, что в мире» (1 Ин 2:10,15). Невольно возникает недоумение: разве брат, которого мы должны любить, не находится в мире, не входит в состав мира? Или другой пример: как совместить заповедь Евангелия не заботиться о том, что есть, что пить и во что одеваться (Мф 6:25), с заповедью накормить алчущего, напоить жаждущего, одеть нагого (Мф 25:35–40)? И несомненно, что в разных формах христианской жизни или в разных течениях христианской мысли преобладает один из этих двух мотивов, оттесняя на задний план, а иногда и совсем вытесняя другой, ему противоположный.
Существует христианский аскетизм, основанный на стремлении «спасти свою душу», обрести «сокровище на небесах» через уход из мира и равнодушие ко всем земным нуждам и заботам человека; и существует христианская активность в мире, основанная на деятельной любви к людям, на стремлении помочь им в их земной нужде и часто отвергающая – по крайней мере, на практике – всяческий аскетизм, всякую мысль о небесном сокровище, как уклонение от христианского завета любовного служения людям. И все же остается бесспорным, что христианская жизненная установка по существу немыслима вне совмещения в некоем высшем единстве этих двух противоборствующих мотивов: всякое духовное направление, в котором это единство не наличествует и нарушается, есть уклонение от христианской правды.
Указанная двойственность христианской духовной установки имеет своим очевидным основанием двойственную природу человека и мирового бытия. Ее можно коротко выразить так: человек и мир по их фактическому составу, как они даны в эмпирической реальности, – не таковы, каковы они суть в их основе, в их подлинном существе. Различие это состоит в том, что, с одной стороны, все сущее, будучи сотворено Богом, прекрасно, ценно, носит на себе отпечаток божественного совершенства и величия – более того – пронизано божественными силами, укоренено в Боге и носит Его в своей глубине, и с другой стороны, фактически преисполнено несовершенства, страданий, зла. Не нужно при этом думать, что эта двойственность есть лишь плод произвольной, принятой «на веру» богословской теории, которая именно в силу этого обличалась бы как ложная; не нужно думать, что трудность сама собой устраняется, если мы признаем, что мир не сотворен всеблагим Богом, а либо имеет основание своего бытия в каком-либо несовершенном и злом начале, например сотворен и управляется «дьяволом», либо же, не будучи никем «сотворен», просто существует в качестве первичного, далее необъяснимого факта, во всем своем несовершенстве и всей своей бессмысленности. «Сотворенность мира Богом» или, общее говоря, пронизанность божественным началом, абсолютная ценность человека, всего конкретно сущего в их первооснове, в их подлинном, глубочайшем существе, не есть тезис, утверждение какой-либо отвлеченной теории, это есть факт, удостоверенный опытно – именно опытом нашего сердца. Что, например, убийство, уничтожение человека – более того, что всякое умаление и повреждение живого существа через его унижение, оскорбление, причинение ему страданий, – есть зло, т. е. нечто недопустимое, – это мы знаем не из какой-либо внушенной нам и на веру нами принятой богословской теории, это есть самоочевидная истина, о которой нам говорит наше сердце; человек может, конечно, заглушить в себе голос этой истины, может действовать вопреки ему и приучить себя не внимать ему, но он не может уничтожить, отменить силу, значимость этой истины, как не может сделать черное белым, и нарушение этой истины так или иначе карается искажением, порчей души, потерей душевного равновесия и душевной ясности у нарушающего ее (гениальное описание этого процесса во всей его неумолимой стихийности дал Достоевский в «Преступлении и наказании»). Но в этом сознании уже заключается восприятие божественности, абсолютной ценности самого существа человека и, в конечном счете, всего живого и конкретно-сущего – и, значит, тем самым, содержится признание божественности его первоосновы или первоисточника. Христианская вера только отчетливо выражает и санкционирует то, о чем с недвусмысленной ясностью говорит нам нравственный опыт нашего сердца. (И, напротив, распространенный тип неверия, признание бессмысленности, грубой фактичности всего сущего, сочетающийся с моральным требованием уважения и любви к человеку, содержит явное и совершенно безвыходное противоречие.) Тем более опытно очевиден другой соотносительный член этой антиномии – реальность несовершенства, страданий, зла, хотя и здесь, предоставленный самому себе, как бы разнузданный человеческий разум часто пытается – открыто или же косвенно, скрытым обходным путем – отвергать опытно данную, объективную реальность зла (открытое отрицание ее выражено, например в философии Спинозы; скрытое и обходное ее отрицание содержится во всех вариантах рациональной теодицеи, которые всегда сводятся в конечном счете к попытке так «объяснить» зло, чтобы показать, что оно «собственно» есть не зло, а добро). Таким образом, эта антиномия дана опытно и потому абсолютно неустранима. В христианском и уже в ветхозаветном вероучении эта антиномия выражена в учении о грехопадении. Это учение представляется современному, «просвещенному», неверующему сознанию произвольной выдумкой богословской мысли – и притом выдумкой зловредной, ибо препятствующей естественному и ценному стремлению достигнуть совершенства в устройстве мира и человеческой жизни. Но уже выше, в главе о догматах веры, мы уяснили, что если оставить в стороне образно-мифологическую, символическую сторону этого учения, то его существо сводится к констатированию простого и самоочевидного факта, что мир в его фактическом эмпирическом составе и состоянии не таков, каким он должен быть по своему истинному божественному существу. Если это так и если основание этому очевидно не может лежать в самом существе мира и человека, т. е. в его благом первоисточнике, то это соотношение, как мы уже видели, не может быть выражено иначе, чем в утверждении, что мир и человек «пал», т. е. фактически находится на уровне низшем, чем тот, к которому он предназначен по своему существу и происхождению. Как возможен такой факт, т. е. почему Бог не мог так сотворить мир или даровать ему такое существо, что его «падение» было бы невозможно, – это есть уже другой вопрос, и этот вопрос остается навсегда неразрешимым. Здесь мы стоим перед последней границей постижимого. Обычное объяснение, что Бог даровал человеку свободу, а человек плохо ей воспользовался, употребив ее во зло, – ничего не объясняет, ибо при этом остается необъяснимым, почему всемогущий и всеблагой Бог не мог даровать человеку такую свободу, которой нельзя было бы злоупотребить – свободу святости, возможность которой опытно удостоверена жизнью святых. В гениальной книге Иова открыто обличена религиозная несостоятельность, гордыня и потому кощунственность всех попыток рациональной и морализирующей теодицеи. Мир и человек фактически не таковы, каково их истинное, исконное существо, и ответственность за это не может падать на Бога, которого мы опытно воспринимаем как абсолютное Благо и абсолютный творческий Разум. Этими двумя отрицательными аксиомами или опытными данными исчерпывается все то, что мы можем знать о происхождении зла и бедствий, и догмат о грехопадении есть по существу не что иное, как просто единство, совместное признание этих двух истин.
Из этого хотя и рационально непонятного, но опытно данного положения вещей с очевидностью вытекает существо христианской духовной установки. Ее можно выразить так: осуществление природы и назначение человека и мира возможно только через их преодоление. Ибо осуществление означает при этом положении дела освобождение истинного существа человеческой души и – общее говоря – мирового бытия через преодоление их искаженной, испорченной, «падшей» эмпирической природы. Это значит: достижение «сокровища на небесах» – того блага, которое дарует полное и совершенное удовлетворение запросам человеческой души, соответствующим ее исконно-первозданному существу – осуществимо лишь на пути борьбы с «плотской», «мирской» природой человека и ее преодоления – на пути аскетизма. Идти по пути к блаженству и спасению, указанному Христом, можно, только взяв на себя «иго» Христово, возложив на себя его «бремя», однако иго это благо, и бремя легко – ибо оно искупается достигаемым при этом блаженством, и люди при этом находят «покой» своим душам. То же выражено в словах: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам: да не смущается сердце ваше, и да не устрашается» (Ин 14:27). Высший мир, который дарует Христос, непосредственно способен смущать и устрашать человеческое сердце; ибо он есть не что иное, чем мир в пределах и формах эмпирического мира – в его составе он есть тяжкий труд и борьба или, как говорится в другом месте, «не мир, но меч». Так благо достигается через возложение ига, свобода – через несение бремени, мир – через готовность идти на устрашающее состояние войны, «меча».
Отсюда уясняется основоположная истина христианского сознания, путь к совершенству – не только к нравственному совершенству (которое само совсем не есть высшая, абсолютная цель, а только момент, входящий в состав конечной цели жизни), но и к совершенству как таковому, т. е. к блаженству, к просветлению, к полному удовлетворению нашего томления, к достижению нашего истинного назначения, этот путь есть путь страдания. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Только банальное, популярное понимание может толковать эти слова так, что за страдание и лишение земной жизни человек получит, как бы по судебному решению Бога, возмещение с лихвой своих «убытков» в загробном мире, в посмертном существовании. Речь идет здесь не о судебном решении (о несовместимости юридического толкования христианской правды с самим ее существом уже приходилось говорить и придется еще подробнее говорить ниже) и не о «загробном» блаженстве или, по крайней мере, не о нем одном. Страдание есть в силу имманентной онтологической необходимости единственный путь к блаженству и совершенству. Как говорит Мейстер Эккарт: «Быстрейший конь, который доведет нас до совершенства, есть страдание». Это есть истина как бы медицинского порядка, человек есть существо больное – обреченное на страдание и гибель, поскольку он остается в своем фактическом состоянии, чтобы освободиться от болезни и обрести радость выздоровления и полноты сил, он должен принять горькое лекарство или подвергнуться болезненной операции. Человек в своем природном, фактическом состоянии задыхается, страдает от сужения дыхательных путей, через которые к нему притекает необходимый ему живительный воздух, и страдание есть нечто вроде обжигающего, раскаленного зонда, прочищающего дыхательные пути и впервые – если он проник достаточно глубоко! – дающего человеку возможность вздохнуть полной грудью, получить свободное общение с той глубиной, в которой свежий воздух входит в его кровь, – и, значит, впервые обрести настоящую радость и полноту жизни. Путь этот труден: «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян 14:22), и, конечно, кто «не имеет в себе корня и непостоянен», «когда настанет скорбь», «тотчас соблазняется» (Мф 13:21) – подобно трусливому больному, который готов скорее продолжать страдать от своей болезни и даже умереть от нее, чем набраться мужества для временных страданий лечения. Это не меняет того, что истинный путь человеческой жизни есть путь, символизируемый родами женщины: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости» (Ин 16:21). Яснее всего это понял величайший христианский гений Франциск Ассизский в своем прославлении нищеты, как «Прекрасной Дамы» и «невесты», любовь к которой дарует человеку неописуемое блаженство; ибо нищета со всеми лишениями и скорбями, с которыми она связана, несет человеку освобождение от уз и тягот мира, ту высшую свободу, легкость и независимость духа, которая одна есть истинное, неземное блаженство. Поэтому: «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царствие Божие». Ибо богатство есть цепь, порабощающая человеческую душу и соблазном легких, скоропреходящих и суетных радостей приковывающая его к земному бытию с его неизбежными волнениями, заботами и скорбями, т. е. с увековечением его несовершенного, горького, смутного состояния. И, напротив, отказ от собирания сокровищ на земле есть единственное условие обладания тем «сокровищем на небесах», о безопасности которого нет надобности беспокоиться, потому что оно недостижимо ни для моли и ржи, ни для воров. (Но об этом мы уже говорили выше.)
Что аскетизм, путь лишений и страданий, ведет к освобождению и истинному блаженству – это не есть учение, впервые возвещенное христианством; эта истина была известна человеческой мысли задолго до него; она была открыта уже греческой нравственной мудростью в лице циников и стоиков; в еще более резкой форме ее проповедовала индусская религиозная мудрость. Но при этом остается существенное различие между этими двумя формами внехристианского аскетизма, с одной стороны, и христианским аскетизмом – с другой. Можно сказать, что греческая и индусская формы аскетизма суть две крайние его формы, в промежутке между которыми находится аскетизм христианский (в исторических своих проявлениях он, впрочем, часто склонялся к этим двум иным формам – что было, однако, уже искажением его истинного существа). Пафос античного аскетизма есть эгоистическое утверждение личной независимости человека, основанное на равнодушии к миру, пафос индусского аскетизма есть достижение блаженства через самоуничтожение, потушение, растворение индивидуальной человеческой души – пафос блаженства небытия или состояния к нему близкого, нирваны. Обе эти крайние формы аскетизма вместе с тем сходны между собой в том, что существо блаженства или конечную цель человеческой жизни они усматривают в покое равнодушия, в простом отрицательном моменте избавления от мира или бегства из него. Напротив, христианский аскетизм не считает высшей целью жизни ни эгоистическое, отрешенное от общей судьбы мира и других людей самоутверждение замкнутой в себе и в этой форме свободной человеческой души, ни ее растворение, потухание, уничтожение. Истинная цель человеческой жизни, к которой хочет вести людей христианство, есть самоосуществление, расцвет человеческой души через такое ее самоограничение и самопреодоление, которое основано на всеобъемлющей любви к людям и ко всему бытию, на преодолении эгоистической самоутвержденности солидарным единством всех, соучастием в общей судьбе всего мира. Можно сказать, что если общая цель всякого аскетизма есть «спасение души», преодоление, через самоотречение и страдание, ее несовершенства, то только в христианстве «спасение души» таково, что есть одновременно и «спасение мира» и немыслимо вне последнего; напротив, ни в античном, ни в индусском аскетизме путь спасения не идет через спасение мира; античный аскетизм есть просто равнодушие к судьбе мира, основанное на признании неизменной и неустранимой обреченности мира на страдания, индусский аскетизм основан на убеждении, что единственное возможное спасение мира есть его самоуничтожение и что это самоуничтожение осуществимо только через самоуничтожение, саморастворение поодиночке каждой человеческой души, познавшей тщету и суетность мира.
И античный, и индусский (или, вообще, восточный) аскетизм имеют каждый свое неотразимое очарование, пленяют душу той очевидной правдой, которая содержится в каждом из них. В античном аскетизме пленяет его пафос аристократической свободы души, стремление освободиться от унизительного рабства перед слепым, жестоким роком, правящим мировой жизнью, достигнуть гордой автаркии – состояния единственно достойного богоподобия и богосродства человеческой души. В индусской религиозности пленяет острота и живость сознания «иного», глубинного, сверхмирного бытия, в котором преодолена скорбная раздробленность «этого» мира, его роковая обреченность на безысходную, мучительную гражданскую войну всех против всех, пленяет легкость, с которой люди Индии и Востока встречают смерть, страдание, отказываются от благ этого мира. Но обе эти – в одном отношении сходные, в другом глубоко разнородные – установки остаются все же односторонними по сравнению с христианской правдой. Христианская правда совмещает истину и античной, и индусской мудрости с другой, не менее существенной истиной – с истиной любви к бытию, как таковому, с радостным приятием и благословением всего конкретно-сущего как образа и воплощения абсолютно ценного, божественного бытия. Индусский аскетизм отвергает, как зло, весь мир вообще, античный аскетизм, ценя красоту мира, отвергает связь человека с миром, оба замыкаются от какой-то конкретной реальности, говорят ей «нет». Христианское сознание, напротив, радостно и любовно приемлет все сущее, говорит ему «да», отвергает только зло как искажение и умаление бытия. Для христианства истинное освобождение и блаженство человеческой души осуществимо только на пути ее солидарного соучастия в судьбе вселенского бытия, ее служения высшей и общей цели всего сущего. Эта цель есть преображение мира, достижение состояния, при котором «царство Божие» господствовало бы на земле, как оно есть «на небесах».
Что цель христианской активности есть преображение мира, достижение им совершенства – это вытекает из того, что – в резкой противоположности индусской религиозной мудрости – мировое бытие есть, как только что указано, для христианского сознания не зло, а добро. «Мир» есть зло, которого мы должны избегать, только поскольку под миром мы разумеем именно искаженное, испорченное состояние бытия, итог его падения. Поскольку же он есть просто воплощение бытия, он, в качестве творения Божия, есть благо. Христос нигде не учит, что плотские нужды человека сами по себе суть зло и что надо избегать их удовлетворения; Он только учит, что не следует обременять душу заботами об их удовлетворении, «ищите прежде всего Царства Божия, и все остальное приложится вам». Он не говорит, что пища, питье, одежда сами по себе суть нечто дурное, Он только говорит, что «душа больше пищи» и что Отец Наш небесный знает, что мы имеем нужду во всем этом, и Сам озаботится ее удовлетворением, ссылаясь на пример «полевых лилий», которых Бог сам одевает так, как не одевался и Соломон во всей славе его, Христос не только учит нас не обременять души земными заботами, но одновременно признает, что прекрасное одеяние, будучи даром Божиим, само по себе есть благо – подобно всему земному бытию, как творению Божию. Он даже дает обетование, что всякий, кто оставит все земное ради Него, получит не только «вечную жизнь в веке грядущем», но «и ныне, во время сие», «в сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель».
Христианский аскетизм есть, таким образом, не цель, а лишь средство, цель есть, напротив, полнота жизни – всяческой жизни – небесной, но и земной. Аскетизм здесь есть не презрение к миру, не отвержение мира, как зла, а истинный путь к приятию подлинного, благого существа вселенского бытия через освобождение души от рабства перед условиями мирового бытия, порожденными его искажением и падением. Именно в силу этого задача христианской жизни двойственна: она есть, с одной стороны, самоотречение, самоочищение через страдание, преодоление «мира» как низшего, искаженного состояния бытия, и в этом смысле уход из мира, и, с другой стороны, усмотрение высшего, абсолютно ценного существа и назначения мировой жизни, любовное служение совершенствованию мира, нуждам ближних. В бескорыстной, самоотверженной любви осуществляется сочетание отречения от мира и служения миру – сочетание столь интимно-тесное, что оба мотива взаимно обуславливают и осмысляют друг друга, так что уже нельзя определить, что здесь основание и что – следствие. Уход из мира, самоотречение, стремление возвыситься до сверхмирной установки – все это мыслимо только как достижение той глубины или высоты бытия, на которой кончается всякая замкнутость души в себе самой, всякая ее забота об ее собственном, одиночном благе, и душа осуществляет себя только в солидарности со всеми другими людьми, только в любовном служении им. И, напротив, установка преодоления личного эгоизма, установка самоотверженного любовного служения людям и спасения мира немыслима иначе, как через преодоление человеком земной, мирской его природы, через подъем души к Богу и ее укоренение в Боге. Конечно, заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» есть «первая и наибольшая заповедь», заповедь «Возлюби ближнего твоего как самого себя» есть по сравнению с первой лишь «вторая, подобная ей» (Мф 22:37–39, Мк 12:30–31, Лк 10:27). Эта иерархия заповедей означает лишь, что любовь к людям как природное расположение или сочувствие, не имеющее религиозного корня и смысла, есть нечто шаткое и слепое, т. е. что истинное основание любви к ближнему заключается, как мы уже видели, в благоговейном отношении к божественному началу личности – другими словами, в «любви к Богу». Но так как сам Бог «есть любовь», то истинно иметь и любить Бога и значит иметь любовь, т. е. любить людей, соблюдение первой заповеди подлинно удостоверяется соблюдением второй. Сердце, покинувшее мир, чтобы жить в Боге и гореть Богом, тем самым горит любовью ко всем людям; и, обратно, сердце, горящее истинной любовью (а не только шатким, пристрастным, субъективным расположением), тем самым горит Богом и живет в Боге. Обе заповеди суть лишь два нераздельно связанных между собою разных момента единой заповеди – того наставления «быть совершенным, как совершенен Отец небесный», которое указует всеопределяющую цель христианской жизни.
Итак, преодоление мира как искаженного, умаленного, больного состояния бытия и любовь к миру в его конкретной, живой первооснове, в которой он есть образ и воплощение божественного бытия и божественной ценности, суть две соотносительные и неразрывно связанные стороны одного и того же религиозного устремления. Соотношение между ними может быть выражено еще и так: В отношении себя самого человек не должен думать ни о чем земном, не должен заботиться о том, «что есть, и что пить, и во что одеваться»; он должен думать только о «сокровище на небесах», искать «царства Божия», т. е. стремиться покинуть низший, фактический уровень своего бытия и утверждаться в своей небесной родине, которая одна только соответствует истинному его существу и способна дать «покой его душе». Но в отношении других человек, наряду с заботой о помощи им в таком же духовном их возвышении и выздоровлении, должен, памятуя об абсолютной ценности своих ближних, осуществлять любовь к ним и в облегчении их телесных нужд, в заботе о тех земных условиях их жизни, которые необходимы для самого их бытия; именно поэтому он должен «накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, принять странника, посетить больного и заключенного». Охраняя само несовершенное мирское бытие ближнего, он тем самым обнаруживает истинную любовь, т. е. благоговейное отношение к божественной первосущности их как личностей. Этим он удостоверяет свое бытие в Боге, так как является проводником совершенства и любви Отца небесного, который заботится и о земных нуждах людей. Это различное отношение к себе самому и к другим определено тем, что каждый из нас прикован к низшему, земному, искаженному бытию только через посредство своих собственных, личных плотских страстей и вожделений, своих собственных земных нужд и потому только их и должен стремиться преодолевать; на вершине святости – там, где эта прикованность уже устранена, кончается и это различие, и св. Франциск Ассизский мог обнаруживать сострадание даже к своему собственному телу, как к «брату-ослу», с которым он ведет общую жизнь и которого он не хочет слишком истязать и насиловать.
Так именно из глубины сверхмирной установки, укорененности души в Боге, излучается действенная любовь к ближнему, благословение всего сущего, самоотверженное служение ему. И обратно: вне этой широты и открытости души, ее любовной устремленности служить всему конкретному, воплощенному бытию, как оно дано в его земном облике, связанным с земными нуждами, нет подлинной открытости души навстречу Богу, нет подлинной любви к Богу. Эти два внешне разных направления человеческой духовной энергии – как бы часто они ни расходились в несовершенном, всегда одностороннем эмпирическом человеческом существе – сами по себе и в своей основе совпадают, суть одно и то же направление. Преодоление узости, распространение вширь, достижимо лишь через углубление, устремленность вглубь. Только видимым образом, для поверхностного, близорукого взора движение вглубь есть сужение, уход от широты внешнего бытия; на самом деле охватить эту широту можно, только достигнув глубины; и обратно: нет подлинного достижения глубины, где нет открытости души для любовного приятия всей широты вселенского бытия. Единый акт религиозного раскрытия души, преодоление замкнутости, узости, сосредоточенности на самой себе есть одновременно и нераздельно ее раскрытие и вглубь и вширь: ибо душа в ее последней глубине не замкнута, а настежь открыта, и потому – чем глубже, тем шире.
Отсюда открывается то, что есть самый центр евангельского нравственного учения: заповедь Нагорной проповеди любить врагов, благословлять проклинающих, благотворить ненавидящим, давать просящему, не противиться злому, отдавать рубашку тому, кто отнимает верхнюю одежду, подставлять ударившему в правую щеку и другую щеку. Эта столь трогательная и столь парадоксальная заповедь – самое прекрасное и самое странное и трудно приемлемое из всего, что когда-либо достигло человеческого сознания, не только постоянно фактически нарушалось христианским миром по его человеческой слабости, по неверию и жестокосердию, но по большей части оставалось неусвоенной в ее подлинном смысле.
Конечно, нет ни надобности, ни возможности «объяснить» эту заповедь или эту духовную установку в той форме, чтобы логически обосновывать ее, вывести ее, как следствие, из чего-либо иного, более первичного. Истина ее – при всей ее парадоксальности, при всем ее несоответствии обычной мирской мудрости, основанной на внешнем, земном опыте, – раз высказанная, удостоверяет сама себя, самоочевидно воспринимается человеческим сердцем. Но можно и должно разъяснить подлинный смысл или содержание этой заповеди. Непротивление злу, смиренная готовность безответно терпеть в отношении себя самого несправедливость и оскорбления и отдавать еще больше, чем от тебя требуют, – это, прежде всего, не есть выражение какой-либо духовной пассивности и тем менее – нравственной робости или дряблости. Человек, молча переносящий несправедливость и оскорбления просто по трусости, конечно, еще более далек от евангельского совершенства, чем тот, кто бурно против них протестует и воздает злом за зло. Это есть, напротив, выражение высшей, самой напряженной духовной активности. Далее: эта заповедь требует от нас парадоксальным образом еще больше, чем заповедь любить ближнего, как самого себя: она учит нас любить ближнего – в отношении земных интересов и страстей – еще больше, чем самого себя, сознательно идти на несправедливое распределение благ – именно в пользу другого и в ущерб самому себе. Это требование можно понять только в связи с указанным выше сочетанием самопреодоления с любовью. В своем внутреннем самосознании человек имеет опыт, что всякое земное умаление есть духовное обогащение, что «давать блаженнее, чем брать»; напротив, в своем отношении к людям человек должен руководиться прежде всего сознанием благотворной силы любви как божественного, объединяющего, примиряющего и тем исцеляющего начала, и зловредности всякого столкновения личных интересов и страстей, увековечивающих и укрепляющих зло, разъединенности и взаимной враждебности. Так как преодоление земной, корыстной, испорченной природы человека возможно только как внутреннее самопреодоление, то оно, как мы знаем, возможно только в отношении себя самого; другому же мы можем помочь идти этим путем только одним способом – дать ему ощутить любовь, как божественную исцеляющую силу. И вместе с тем излучение вовне этой силы любви есть просто непроизвольное, естественное обнаружение нашей укорененности в Боге, присутствия Бога любви в нашей душе. Так оба указанных выше взаимосвязанных нравственных мотива – самопреодоление и любовь – войдя в некое химическое соединение между собой, порождают нечто новое, еще высшее – самоотверженную любовь.
Путь самоотверженной любви оказывается, таким образом – если можно выразиться здесь трезво-рассудочно – единственным правильным и плодотворным путем борьбы со злом и победы над злом. Так как зло есть обособление, разъединенность, враждебность, то его можно подлинно преодолеть только противоположностью – любовью, как огонь можно потушить только водою, и тьму рассеять – только светом; и сильнейшая и чистейшая любовь есть любовь самоотверженная. Иного способа сущностного, реального преодоления и уничтожения зла вообще не существует.
Это учение, несмотря на всю его очевидность, все же возбуждает естественные недоумения и возражения в человеческой душе. Его упрекают прежде всего в том, что оно предъявляет человеку требование, явно превышающее его ограниченные нравственные силы; как обычно говорится в таких случаях, «это хорошо в теории, но неосуществимо на практике». Такой упрек – и такое легкое оправдание непослушания божественному наставлению – нетрудно отвести двумя простыми указаниями. С одной стороны, это наставление, подобно всем евангельским заповедям, только открывает нам идеал совершенства и тем указует истинный нравственный путь, предоставляя каждому идти по этому пути так далеко, как он может; и, с другой стороны, слабость человека, как такового, всегда может быть дополнена помогающей ему бесконечной и всепревозмогающей благодатной силой Бога, поскольку человек ею проникается. И если нам известно, увы, достаточное количество образцов человеческой нравственной слабости, то нам известны и случаи совершенно безмерной нравственной силы, когда человек, чувствуя себя руководимым высшею, безапелляционно-принудительной для сердца инстанцией, совершает величайшие подвиги, сознавая, как это выразил однажды Лютер: «Иначе я не могу».
Но евангельское учение о борьбе со злом любовью встречает еще иное, менее корыстное и на первый взгляд более серьезное возражение. Указывают на то, что фактически любовь во многих случаях бессильна одолеть зло и что отказ от других, более массивных и земных средств борьбы со злом, именно от противодействия ему просто силой, т. е. злом же, но при этих обстоятельствах благотворным, равнозначен некой нравственной пассивности, робкой капитуляции перед фактом зла – что, очевидно, совершенно недопустимо – по крайней мере там, где злая воля вредна и причиняет страдания не нам самим, а нашим ближним. Но это возражение, сколько бы правды оно ни содержало, основано на простом – хотя и не всегда легко сознаваемом – недоразумении: оно бьет мимо цели, не понимая истинного смысла заповеди «не противься злу». Оно справедливо только в отношении того, столь ярко выраженного Львом Толстым, ложного понимания этой заповеди, по которому, следуя не ее духу, а ее букве, мы должны разуметь под ней безусловное запрещение всяких насильственных действий или вообще действий земного порядка в борьбе со злом, и даже перед лицом готовящегося или совершающегося на наших глазах убийства или истязаний человека должны ограничиться только любовным увещанием злодея, далее если оно остается бесплодным. Заповедь Христа, очевидно, не может стоять в столь вопиющем противоречии с тем, что нам явственно говорит наша совесть. Как бы часто люди ни злоупотребляли силой в борьбе со злом, и сколь бы морально вредно ни было такое злоупотребление, остается просто очевидным, что – поскольку мы не в силах одним любовным увещанием остановить убийцу или насильника – мы не только вправе, но и обязаны противодействовать ему силой, остановить его преступную руку, обезвредить его, связав и заперев его – в крайнем случае, если для обороны жертвы не остается никакой иной возможности, даже убив его. Грех убийства в этом случае, оставаясь грехом, будет все же меньше греха пассивности во имя нашей чистоты перед лицом совершающегося зла; ибо в таком вынужденном убийстве будет больше любви не только к жертве готовящегося преступления, но даже и к самому преступнику, чем в отказе от успешной борьбы со злом.
Но как совместить такое, диктуемое простой человеческой совестью, решение с недвусмысленным евангельским наставлением «не противься злу» и притом с разъясненным выше его смыслом, именно, что единственная сила, побеждающая зло, есть только любовь и ничто иное? Недоумение легко разрешается по существу, хотя в порядке психологическом его иногда нелегко найти и усвоить. Прежде всего: то, что от нас требуется при всех условиях, это любить ближнего и никогда не отвечать на зло злом, существо которого есть именно ненависть. Эта заповедь по существу абсолютно ненарушима, как бы часто люди по своему несовершенству ее ни нарушали. Любить и жалеть человека – в том числе и преступника – можно и должно даже в том крайнем случае, когда вынужден бываешь преградить совершение зла таким грехом, как убийство преступника. Дело в том, что евангельская мораль – я уже говорил об этом – не есть закон, повелевающий или запрещающий определенные действия, а есть указание верного пути к совершенствованию внутреннего строя души (и отношений между людьми). Так она наставляет нас всегда любить ближних и изгонять всякую корысть и ненависть из отношения к людям; но она отнюдь не запрещает нам – в форме отвлеченного правила действия – в случаях, когда это диктуется именно любовью, физически противодействовать злой воле даже самыми суровыми мерами. Правда, человеку психологически трудно совершать такие насильственные действия, не поддаваясь при этом внутренней силе злобы и ненависти; трудно, но не невозможно. Ибо по существу дела здесь нет никакого непримиримого противоречия – по той простой причине, что две разнородные обязанности относятся к совершенно разным объектам: основная заповедь любви есть требование определенного умонастроения и отношения к людям, требование же морально необходимого насильственного вмешательства для ограждения жизни от зла есть требование определенных внешних действий. Но еще раз: как все же с тем смыслом евангельского наставления, что зло нельзя победить насилием и какими-либо вообще земными средствами? Здесь надлежит отчетливо различать две вещи: подлинное преодоление зла в смысле сущностного его уничтожения, и простое ограждение жизни от разрушительного действия зла. Местопребывание зла, как и добра, есть только незримая глубина человеческой души, недостижимая ни для каких внешних насильственных действий и достижимая только для духовных сил любви – или ненависти. Никакими внешними действиями, никаким принуждением – вплоть до уничтожения через убийство самого преступника – нельзя сущностью уничтожить, развеять зло, потушить пожар злых страстей. Но наряду с этой обязанностью сущностью уничтожать или ослаблять зло любовью мы имеем еще иную обязанность, также диктуемую любовью: спасать людей от действия существующего зла путем простого ограждения мира, путем возможного изолирования зла, преграждения ему путей для его разрушительного действия. Евангельский завет «не противься злу» означает наставление не отвечать злом на зло, не мстить, а, напротив, отвечать на зло добром – любовью. Он означает одновременно, как уже указано, наставление не огорчаться, а, напротив, радоваться всякому, наносимому нам самим, земному ущербу, так как он имеет даже благотворное действие для нашей внутренней духовной жизни, помогая нам подыматься и обретать «сокровище на небесах». Но этот евангельский завет не может означать равнодушия к страданиям других, причиняемым злом, отказа от земных активных мер противодействия злу. Напротив, всюду, где мы не можем облегчить нужды наших ближних одним лишь излучением благодатных сил, именно любовь диктует нам обязанность помочь им всеми земными средствами – так же, как, несмотря на сущность заботы о земных благах, мы обязаны накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого. Христианская любовь должна – именно в силу разъясненной выше двойственности нашей человеческой природы – осуществляться одновременно двумя путями: непосредственным излучением благодатных сил любви, поскольку мы им причастны, и исполнением долга любви через земные – и потому иногда обремененные грехом – действия, направленные на облегчение участи наших ближних.[20 - В этой последней части размышления этой главы мне пришлось вкратце повторить мысль, подробно обоснованную мною в книге «Свет во тьме», гл. 4-я.]
7. ПУТЬ КРЕСТА
Теперь мы, наконец, подготовлены к адекватному восприятию того, что может быть признано основой и как бы стержнем христианской веры и что нашло себе полное выражение не в одном только «учении» Христа, но в Его жизни, в конкретном облике Его личности. Это есть то, что можно назвать «путем креста» и что связано со смыслом искупительной жертвы Христовой.
Все три синоптических евангелия передают слова Христа: «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою обречь, тот потеряет ее: а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф 16:24–25, Мк 8:34–35, Лк 9:23–24). Как известно, греческое psyche, переводимое словом «душа», означает также жизнь; и смысл последнего стиха состоит в том, что человек, боязливо охраняющий свою жизнь, руководимый «инстинктом самосохранения», обречен на гибель, тогда как истинный, царственный путь спасения состоит в самопожертвовании, в готовности отдать свою жизнь ради Христа или – что то же – во имя любви. С этим совпадает указание высшей меры любви, в которой она становится, очевидно, причастным существу Христовой любви, и человек подлинно следует пути Христову: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:13).
В этом состоит путь креста. Он есть нечто иное, чем указанный выше путь аскетизма, и образует как бы его завершение. Если выше мы усмотрели специфическое существо христианского аскетизма в единстве самоопределения и любви, то это есть только как бы приближение, шаг на пути к тому последнему осуществлению смысла человеческой жизни, в котором человек уподобляется Христу, – к акту самопожертвования, добровольной жертвенной смерти из любви к людям и миру. Путь христианской жизни есть, в конечном итоге и последнем завершении, не простое следование отвлеченно-общим заветам и заповедям Христа; с полной отчетливостью он открывается нам как путь следования за Христом, подражания Христу. Основная, всеобъемлющая заповедь: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный» – имеет свое иное выражение в завете уподобления Христу, стремления к совершенству Христову.
Это совершенство нашло, как указано, свое последнее высшее выражение в добровольной, жертвенной смерти Христа за мир. Но, прежде чем пытаться уяснить подлинный смысл этого акта, попытаемся в меру возможности уловить основную, определяющую черту общего облика Христа. Указание на нее дано, как мне кажется, в словах: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня; ибо я кроток и смирен сердцем» (Мф 11:29).
Кротость, как основная черта облика Христова, выражена в Новом Завете неоднократно – в цитатах из пророка Исаии, предрекавшего облик и образ жизни избранника Божия: отрок Божий, которого Бог избрал, возлюбленный Божий, на которого Он положил Свой Дух, «не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улице голоса Его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Ис 42, Мф 12:19–20). «Как овца, веден был Он на заклание; и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В унижении Его суд Его совершился» (Ис 53, Деян 8:32–33).
Как известно, в состав заповедей блаженства также входит восхваление кротости. В числе парадоксальных и умиляющих в своей парадоксальности обетовании блаженства всем умаленным, страждущим, отрекшимся от земных благ и личного самоутверждения – обетование «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», имеет, как мне кажется, какую-то совершенно особую выразительность и как-то особенно поражает сердце. Качество, которое здесь имеется в виду, есть – как уже пришлось упоминать выше – конечно, нечто совсем иное, чем простая уступчивость по душевной слабости, по неспособности упорствовать и бороться там, где это нужно. Кротость есть нравственное состояние души, в котором любовное отношение к другим и отказ от самоутверждения образуют совместно неразделимое единство. Кротость есть надмирность – или, употребляя выражение Мейстера Эккарта, «отрешенность» (Abgeschiedenheit) от мира, – вместе с тем любовно обращенная на мир, сочетание радости обладания «сокровищем на небесах», избавляющим от искания земных благ, с благословением, приятием всего земного бытия, с спокойно-радостным движением ему навстречу. Кротость есть готовность терпеливо и даже спокойно переносить страдания и лишения, сочетание страдальческого пути с радостью, даруемой любовью. Это есть прямая противоположность той специфической земной установке души, при которой самоутверждение сочетается с борьбой против врагов и соперников, с отстаиванием против них своих притязаний и интересов. И если вся мудрость житейского, земного опыта говорит, что жизненный успех обеспечен только сильным, борющимся, самоутверждающимся, то здесь бросается вызов всей этой земной мудрости; дается обетование, что именно кроткие «наследуют землю». Нельзя вообразить себе ничего более парадоксального. Кротким обетуется не только небесное блаженство, но и наследование земли. Не гордые, беззастенчивые, хищные и жестокие завоеватели, не сильные и герои, не победители на войне или в жизненной борьбе, не ловкие и хитрые «дети века сего» в конечном итоге будут истинными хозяевами земли, а именно кроткие – те, которые не борются за свои притязания, а без борьбы, любовно все уступают другим, кто уже исполнены тихой радостью обладания «сокровищем на небесах» и ни в чем ином не нуждаются, ничего земного не добиваются. Конечно, это невероятно с точки зрения всей земной мудрости; но правда христианства, будучи подлинной правдой, по самому своему существу парадоксальна, невероятна. И вместе с тем это невероятное упование не только неописуемо сладостно, утешительно; в человеческом сердце есть такая глубина, в которой оно с очевидностью усматривает эту возвещенную ему неслыханную и невозможную правду, именно как последнюю, подлинную, безусловную правду, перед лицом которой все земные истины испаряются, как дым.
Другие электронные книги автора Семен Франк
Непостижимое




 4.67
4.67