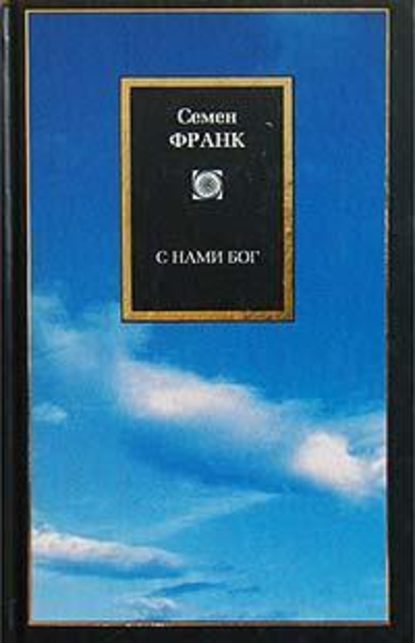По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
С нами Бог
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но и независимо от этого общего, так сказать, формального соображения о несоизмеримости и несказанности и бытия, и существа Бога, можно утверждать и нечто большее. Если вера есть отношение человеческой души к личному Богу, то Бог здесь с самого начала должен мыслиться как нечто большее и иное, чем некая как бы замкнутая в себе, особая и в этом смысле обособленная инстанция бытия. В Евангелии вера в Бога неразрывно связана с верой в то, что называется «Царством Божиим», и притом так, что только обе веры вместе, образуя некое слитное единство, составляют существо истинной веры. Христос принес весть о Боге как любящем Отце; но одновременно и как бы нераздельно с этим Он принес и «благую весть» о Царстве Божием. Его Евангелие – что, как известно, и значит «благая весть» – обозначается как «Евангелие царства». Бог с самого начала мыслится здесь как Царь некоего царства, как средоточие и источник некоего священного и блаженного бытия, выходящего за пределы бытия самого Бога. Если мы должны любить Бога всем нашим сердцем, всеми нашими силами и помышлениями, то мы должны «прежде всего» «искать Царства Божия», чувствовать, сознавать это царство, верить в него. Царство Божие, как его возвещает Христос, не только не есть то, что под ним разумели иудеи – осуществляемое промыслом Божиим чисто земное событие политического возрождения и торжества израильского народа; в своей основе и в первую очередь оно вообще не есть событие, долженствующее наступить во времени – даже если под ним разуметь совершенное преображение и обожение мира. Такое обожение может и должно наступить именно потому, что в каких-то незримых глубинах бытия Царство Божие уже вечно есть, «уготовано от века», так что его можно только обретать, «наследовать». Царство Божие есть в этом смысле вечное достояние и вечная родина человеческой души, оно есть не что иное, как бытие, насквозь пронизанное и просветленное божественными силами, – бытие, в котором Бог есть «все во всем», царство истины, добра, красоты, святости. «Царство Божие» в этом смысле настолько неразрывно связано с Богом, что одно неотделимо от другого. Царство Божие есть как бы сфера бытия, озаренная и пронизанная светом Божиим, – некий ореол света, исходящий от Бога, его окружающий и в этом смысле к нему сопринадлежащий. Никакая вера в Бога не поможет человеку, если он с самого начала не мыслит Бога средоточием и источником «Царства Божия» – если он не ищет этого царства, не сознает себя прикосновенным к нему, не ведает, что владеет этим «сокровищем на небесах», имеет эту родину. Как не всякий, говорящий «Господи, Господи!», войдет в царство небесное, а только исполняющий волю Божию, так и не всякий человек, думающий и убежденный, что где-то «существует Бог», есть «верующий», а только тот, души которого коснулся луч правды Божией, т. е. кто имеет живое ощущение царства Святыни, небесной родины. И притом Царство Божие, о котором говорится, что оно «внутри нас», надо принять, «как дитя» – очевидно, не рассуждая, не обосновывая его отвлеченно, а непосредственно испытывая его и наслаждаясь им.
В том, что идея Царства Божия в указанном смысле есть средоточие и основа всего откровения Христова, что даже вера в существование личного Бога – Бога как любящего Отца – имеет живой смысл и существенное значение только как обоснование реальности «Царства Божия» или, в другом оттенке той же связи, – только как источник божественной силы любви к людям, просветляющей и преображающей наше земное бытие, я вижу ясное свидетельство, что, по Христову откровению, подлинное существо веры состоит не в утверждении, как таковом, «существования личного Бога», а в живом ощущении Бога как средоточия и первоисточника некой выходящей за его пределы, несказанной сферы божественного, просветленного высшими силами бытия.
Иное выражение того же самого дано в понятии «благодати» как дара Святого Духа, как божественной силы и инстанции, проникающей в сердце человека, владеющей им, как инстанции, через которую мы знаем, что Бог пребывает в нас, и мы – в Нем. Наконец, еще иное выражение того же самого соотношения содержится в словах апостола, что так как «Бог есть любовь», то не имеющий любви к ближнему совсем не знает Бога, не верит в Него. Во всех этих оборотах мысли символически раскрывается одно основоположное отношение: Бог не есть некая замкнутая инстанция бытия, Он есть некое солнце, самое существо которого состоит в том, что оно излучает из себя свет и тепло, и потому с самого начала может мыслиться только как центр некой окружающей его, выходящей за его пределы, но все же сопринадлежащей к нему светлой и животворной сферы бытия. Конечно, в плане богословской мысли, т. е. в плане логического отношения между основанием и следствием, эта сфера «небесного бытия» производна от бытия самого Бога, и вера в нее – от веры в Бога. Но надо иметь духовную независимость и прозорливость признать, что в живом религиозном опыте, в самом духовном акте веры имеет силу в каком-то смысле обратное соотношение. Подобно тому как различие между днем и ночью практически в нашем живом ощущении окружающего нас мира состоит совсем не в том, что днем мы видим солнце на небе, а ночью его не видим (мы, в сущности, даже не можем как следует, отчетливо видеть солнце, по крайней мере во всем блеске его света), а просто в различии между светом и тьмой, между пребыванием в среде, в которой все очертания предметов ясно видимы, и пребыванием в некой темной бездне, в которой мы беспомощно бродим, как слепые, – так и основное, решающее различие между верующим и неверующим состоит не в том, «признает» ли человек существование Бога или нет, а в том, имеет ли его душа прикосновение к сокровищу «Царства Божия», к дарам святого Духа, проникает ли в его душу свет, озарена и согрета ли она этим светом божественной любви. Ощущение света и тепла, пребывание в животворящих лучах солнца практически, жизненно важнее, существеннее видения самого солнца. Ибо в порядке жизненно-психологическом только по теплу и свету мы узнаем о существовании самого солнца, только через них мы имеем живую полноту отношения к самому солнцу, а никак не наоборот. Более того, только купаясь в лучах солнца, только видя свет, разлитый по всему миру и его озаряющий, чувствуя тепло, согревающее весь мир, мы подлинно познаем само существо солнца как всеобъемлющего и всепроникающего источника света и тепла, напротив, всецело сосредоточивая взор на самом солнце, стараясь прямо глядеть на него, видеть его одно, мы скорее легко можем ослепнуть и, во всяком случае, легко можем утратить сознание всей безмерной его силы и полноты, его подлинного существа и его значения для нас. Или другой пример: подобно тому как существо отношения ребенка к матери и отцу, живое ощущение их реальности и их значения для него состоит совсем не в ясном, трезвом, интеллектуально выразимом убеждении в их существовании как «личностей», а просто в несказанном ощущении их реальности как некого источника тепла, ласки, обеспеченности, уюта – так и вера в своем первичном существе есть не мысль, не убеждение в существовании трансцендентного личного Бога, как такового, а некоторое внутреннее состояние духа, живая полнота сердца, подобная свободной радостной игре сил в душе ребенка, и это состояние духа определено чувством нашей неразрывной связи с родственной нам божественной стихией бесконечной любви, с неисчерпаемой сокровищницей добра, покоя, блаженства, святости, и только сквозь эту стихию и в неразрывной связи с нею мы прозреваем, чувствуем ее глубочайший первоисточник – живого Бога. Где это не так, где наше сознание как бы противоестественно сосредоточено на одном только Боге, т. е. ощущает Его изолированно от излучаемой Им сферы света и тепла, как некую замкнутую в себе, отделенную от всего иного инстанцию бытия, – там легко наступает какая-то искусственная замкнутость и суженность сознания. Нечто подобное встречается иногда в обычном типе того, что называется «благочестием» или «набожностью». С этим часто связано суровое, морализирующее порицание и осуждение «неверующих» и – что еще хуже – равнодушие к судьбе ближних и мира, безлюбовность, этот строй сознания имеет иногда даже налет некоего скорбного уныния, пониженности и заглушенности темы духовной жизни, – не только скудости сердечного отклика, но и ограниченности умственного горизонта. Все это прямо противоположно тому настроению свободной радости, блаженства, тому дару всеобъемлющей и всепрощающей любви, которое несет истинное откровение Христа – откровение «Царства Божия». Все это противоречит открытым Христом условиям – как обыкновенно говорится, «заповедям» – блаженства, противоречит его наставлению «радуйтесь и веселитесь!», «будьте, как дети!». Этот обычный тип благочестия, определенный сосредоточенностью сознания на отрешенном, трансцендентном бытии Бога, содержит в конечном счете искажение истинной идеи Бога. Он совершенно чужд Христу; именно его Христос отвергает, как «праведность книжников и фарисеев».
В этом смысле мы вправе без самомнения сказать, что понятие веры как живого касания всеобъемлющей и всепронизывающей полноты благодатного бытия – понятие веры, выходящее за пределы признания трансцендентного, обособленного бытия Бога как личности, или понятие веры в Бога не только как в личное существо, но одновременно и как в божественную родину души, в благодатную стихию, в которую погружена наша душа и которой она питается, – что это понятие веры есть более адекватное сознание мыслью того, что образует само существо христианской веры и более или менее всегда преподносилось и преподносится христианской душе. Это сознание Бога как средоточия и первоисточника некой всеобъемлющей и всепроникающей стихии, священного, благодатного бытия равнозначно признанию Бога чем-то иным и большим, чем отрешенной, замкнутой в себе, вне и выше мира пребывающей личности. Поскольку несказанный смысл религиозной веры можно вообще выразить в отвлеченных философских понятиях, следует признать, что существо христианской веры – или, что то же – истинное, адекватное существо религиозной веры есть не отвлеченный теизм, а конкретный панентеизм.
Я перехожу теперь к обратной стороне дела. Как бы то ни было – даже сполна учитывая внесенную мною поправку к обычному, общепринятому представлению о Боге, – остается, конечно, все же совершенно бесспорным, что в состав религиозной веры входит внутреннее личное общение с Богом или – что то же – общение с существом, воспринимаемым как личность или наподобие личности. Я должен теперь ответить на вопрос: как совместимо такое содержание веры с существом веры как непосредственного религиозного опыта?
Ответ на этот вопрос всецело зависит от уяснения другого вопроса: как, собственно, мы познаем ту религиозную реальность, которую мы имеем в виду, говоря о личном Боге? Дело в том, что недоумение проистекает здесь из допущения, что существование личности – по крайней мере, если эта личность нам невидима, удалена от нас – не может быть дана в опыте, и что поэтому признание ее существования может иметь только форму мысленного утверждения некоего трансцендентного предмета. Выше я уже указывал на то, как неадекватно существу религиозной веры ее общепринятое выражение в суждении: «Бог (где-то) существует». Теперь я должен уяснить то же самое подробнее и с другой стороны.
Поскольку под опытом разуметь простое, как бы бесстрастное констатирование объективного факта – чего-то встречающегося в поле нашего зрения, существование Бога, а тем более личного Бога, не может быть предметом опыта. Но опыт есть понятие широкое, допускающее различные виды, и мы не должны исходить из какого-нибудь предвзятого его понятия. Религиозный опыт есть особый вид опыта, существо которого точнее всего можно определить как опыт общения. Он имеет глубокую аналогию с опытом общения между людьми. Как происходит общение между людьми? Легко можно вообразить, что дело происходит здесь так: «встречая» человека, т. е. констатируя его присутствие, его реальное существование вблизи нас перед нашим взором, мы можем потом «войти в общение» с ним, например обменяться с ним словами или даже только взглядами. Но это обычное представление совершенно ложно. Мы не можем вообще «объективно констатировать» присутствие того, что есть для нас живой человек, личность, на тот же лад, как мы констатируем, например, видим присутствие неодушевленного предмета – уже по той простой причине, что нельзя «увидать» чужую «душу», чужое «сознание». Выше я упоминал об общении как одном из видов сверхчувственного опыта. Но как возможен именно этот вид сверхчувственного опыта и в чем он заключается? «Чужая душа» не «дана» нашему духовному взору на манер какого-нибудь мертвого, пассивного предмета, который просто «стоял бы» перед нами и который мы могли бы осмотреть, увидать, констатировать. Чужая душа открывается нам только так, что сама «говорит» нам – если не словами, то взорами. Опыт есть здесь «встреча» – двух пар глаз, взаимно устремленных друг на друга, и – через посредство глаз – встреча двух душ. Это значит: общению не предшествует какое-либо «констатирование», объективное усмотрение, напротив, само общение – и только оно одно – и есть опытное познание. Или, другими словами: общению не предшествует суждение, мысль: «он (другой человек) существует»; оно сразу, совершенно непосредственно осуществляется в форме нашего взаимного соприкосновения, двусторонней встречи с реальностью, которую язык обозначает местоимением второго лица «ты». Лишь позднее и производным образом это «ты» превращается в «он»; только вспоминая о встрече, отдавая себе умственный отчет в ней, мы можем высказать суждение: «Он существует». Не нужно здесь поддаваться влиянию ходячих понятий, по которым мы можем видать и встречать человека задолго до того, как мы «познакомились» с ним, были ему «представлены», вступили в «отношение» к нему; общение может иметь различные стадии, и обычно оно внезапно, толчками, меняет свой характер, углубляется, становится более близким и интимным; но в принципе всякая встреча с человеком, с того момента как он «кинул на нас», хотя бы мельком, взор, и мы – на него, уже есть общение, и вне этого общения нет вообще опытного восприятия человека.
И вот религиозный опыт, в качестве познания личного Бога, есть такая живая встреча с Богом, непосредственное общение с Ним. Бог не есть некий массивный предмет, который мы могли бы «констатировать». Мы узнаем о бытии Бога, потому что в глубине нашей души «слышим его голос», испытываем то несказанное, что мы называем общением с Богом. При этом общении с Богом дело обстоит так, что вся активность – или, по крайней мере, вся инициатива активности – исходит от Него самого; не Он есть объект нашего познания, а мы сами – объект Его действия на нас. Конечно, и мы активно обращаемся к Нему, мы молимся Ему, мы выражаем Ему искание и томление нашей души или нашу благодарную радость; но все это уже предполагает наше знание Его бытия, Его присутствия; а это знание есть не итог нашего любопытства, наших познавательных усилий, а некий дар с Его стороны испытывается, как исходящее от Него самого, Его «явление», Его самооткровение нашей душе, Его призыв к нам. Мы видим, насколько ложно обычное, ходячее описание существа веры. Согласно ему, дело должно происходить примерно так: мы сначала как-то «узнаем о существовании Бога» – очевидно, с чужих слов, потому что сами мы не в состоянии непосредственно в этом удостовериться (но тогда, очевидно, встает вопрос: откуда знает об этом другой и как можем мы быть уверены, что он действительно это знает?); узнав это, мы получаем возможность обращения к Богу и общения с Ним – в благоговении перед Ним, в молитве Ему. Но это есть совершенное искажение подлинного состава веры. Все равно, сказал ли нам кто-нибудь раньше о существовании Бога или нет (по общему правилу, конечно, бывает первое – мы слышим о Боге с чужих слов, еще не зная Его сами), то, что мы вправе назвать верой, впервые начинается именно в момент нашего личного общения с Богом и состоит в этом общении; мы испытываем реальность Бога в момент, когда Он касается нашей души и когда в ответ на это касание в нашей душе загорается обращенное к Нему чувство. Именно в этом смысле вера в личного Бога есть само существо религиозного опыта. И, напротив, ученейший богослов, во всех тонкостях знающий все, что когда-либо было сказано о Боге, остается неверующим, поскольку его души не коснулся сам Бог, и он не ощутил живого общения с Ним.
Теперь мы еще яснее в новом свете видим, насколько неадекватно существу веры ее выражение в суждении «Бог существует». Это суждение совершенно неуместно и не может даже прийти в голову в процессе самого живого общения с Богом, т. е. в состоянии подлинной веры. Встречаясь с любимым человеком, мы не формулируем суждение: «Он существует»; в крайнем случае – именно, если мы до встречи опасались, не умер ли он, – мы восклицаем: «Ты жив!» Говорить в присутствии человека о нем же, что он существует, значит выразить ему величайшую степень неуважения; только об отсутствующем можно вообще говорить в третьем лице. В отношении же Бога было справедливо замечено, что формула «Бог существует» есть, строго говоря, свидетельство неверия; ибо если бы мы действительно сознавали реальность Бога в Его вездесущии, т. е. Его присутствие здесь, сейчас, в непосредственном соседстве с нами, если бы мы действительно ощущали Его взор, вечно на нас обращенный, Его голос, нам говорящий, как могли бы мы дерзнуть говорить о Нем как об отсутствующем? Стоя перед лицом Божиим, можно только говорить с Богом, а не рассуждать о Боге; можно только испытывать Его реальность, только быть исполненным радостным чувством, выразимым в восклицании: «Ты ecu!», но не «утверждать» существование Бога. И единственно истинный религиозный язык есть язык молитвы, обращенной к самому Богу. Бог живой веры есть всегда мой Бог, «Бог-со-мной» – существо, выразимое только в звательном падеже, а не в именительном – «Ты, Боже», а не «Он», не существо, бытие которого мы «признаем», «утверждаем». Но это значит, что исповедание реальности личного Бога не есть мысль о существовании некоего трансцендентного предмета, не есть утверждение некоего «объективного» бытия, сущего в себе, независимо от нас, а есть именно исповедание нашей живой встречи и связи с Ним, нашей обращенности к Нему и Его вечной обращенности к нам.
Проникая в это отношение еще глубже, мы с другой стороны приходим к сознанию, которое я пытался уже разъяснить выше. Бог, будучи существом вечным, всеобъемлющим и вездесущим, от связи с которым я сам неотделим, есть нечто иное и большее, чем то, что мы обычно разумеем под личностью. Он не только есть такая несравненная, единственная личность, которая всегда и всюду находится с нами, в непосредственной близости от нас; Он не только есть, говоря словами немецкого поэта Рильке, «мой вечный сосед». Он есть такое «ты», которое не только находится рядом со мной или передо мной и взор которого вечно обращен на меня; Он еще есть такое «ты», которое вместе с тем есть основа, почва и глубочайший корень моего «я»; и хотя я, с одной стороны, сознаю двойственность и противостояние между мною самим и этим вечным «ты», я в то же время сознаю мое единство, мою слитность с Ним. Эта слитность так интимна, что я не знаю, не вижу отчетливо, где кончается последняя глубина меня самого и где начинается то, что я называю Богом: ибо встреча есть здесь вместе с тем нераздельная связь. Я, правда, могу терять Бога – и как часто это бывает! – и потом снова находить Его; но я имею тогда сознание, что эта потеря была странным недоразумением, в котором повинна только моя собственная небрежность. Как говорит тот же блаженный Августин: «Ты всегда был со мною – только я сам не всегда был у себя»; или – еще короче: «Viderim me – viderim Те» («если бы я видел себя – я видел бы Тебя»).
Это абсолютно единственное отношение, по которому Бог, будучи вне нас, вместе с тем есть и в нас, и, будучи для нас другой личностью, с которой мы встречаемся, – будучи для нас «ты», – одновременно есть основа и корень самого бытия и существа моего «я» – это отношение и есть существо бытия и существа моего – это отношение и есть существо веры как религиозного опыта. Так как мой религиозный опыт есть опыт личного общения, то Бог необходимо есть для меня личность или нечто сходное с личностью, нечто или, вернее, некто, кому я даю имена Отца, Возлюбленного, Друга. Но я одновременно сознаю, что все эти имена не сполна и не точно выражают Его невыразимое существо. Христос, открывая нам, что Бог есть наш «Отец небесный», имел при этом, очевидно, в виду то древнее, утраченное уже нами теперь и рожденное из родового быта понятие отца, по которому отец есть не только любящее, питающее, охраняющее нас существо, но и воплощение нераздельного, коллективного, кровного единства рода или семьи, в составе которого только и возможна моя жизнь – воплощение родного дома, чего-то подобного тому, что мы теперь сознаем в понятии родины, так что уход «блудного сына» от отца есть уход на чужбину, на нужду и скитание. Отец есть здесь существо, кровь которого течет в моих жилах и в единстве с которым состоит сама моя жизнь; отец есть существо, которое живет во мне и которым я живу. И как общение с Богом есть нечто большее, чем общение со всякой другой личностью, именно нераздельное – хотя и неслиянное – единство, так и сам Бог есть нечто еще большее, еще более значительное, чем любящая и любимая личность. По слову апостола, Бог есть любовь; и так же Бог в лице Христа говорит, что Он есть «истина, путь и жизнь»; будучи личностью, Он одновременно есть всеобъемлющее, всепроникающее, животворящее сверхличное начало.
Мы можем выразить это соотношение еще и так. Несказанное и несравненное существо Бога мы воспринимаем как личность, сознавая вместе с тем, что это есть только аналогия, помогающая нам как-то понять Непостижимое или, скорее, почувствовать в Боге то, что нам нужнее и важнее всего. Как мы уже видели, вера в Бога есть сознание, что я сам, моя личность, не есть неведомо откуда и как брошенная в мир реальность, чуждая всему остальному бытию и потому беззащитная и гибнущая в нем, – что, напротив, я сам как личность родился, произошел из неких родственных мне последних глубин бытия, в которых я поэтому имею вечный, безусловный приют и сохранность. Эти несказанные глубины я тем самым воспринимаю как нечто подобное мне – подобное тому, что образует самое существо моего сердца, моей души и что так одиноко и бесприютно в холодном, равнодушном мире, полном слепых, безумных, разрушительных сил. Я знаю, что самые последние глубины бытия таят в себе Реальность, которая близка мне, которую я понимаю и которая понимает меня там, где весь мир меня не понимает, и к которой я могу питать любовь и доверие, как к близкому другу, как отцу или матери. Если Фейербах в известных словах «человек творит Бога по своему образу и подобию» думал дать классическую формулу неверия, то только потому, что слово «творить» здесь должно было значить «выдумывать», «сочинять нечто несуществующее» – т. е. только потому, что для самого Фейербаха, как материалиста, форма бытия мира или материальных вещей и сил казалась единственной подлинной «невыдуманной» реальностью. Стоит только заменить слово «творить» (определенное этой предвзятой и ложной теорией) словом «воспринимать», чтобы это суждение стало точной формулой существа веры. Человек «воспринимает» Бога «по своему образу и подобию» и иначе не может Его воспринимать. Это значит, в Боге он усматривает нечто родное и родственное себе. Это сознание с полной достоверностью дано в религиозном опыте и составляет само его существо. Заблуждение состояло бы только в мысли, что этим сознанием исчерпано, адекватно выражено неисчерпаемое и несказанное существо Божества.
Известны вдохновенные слова, в которых Паскаль записал итог мистического опыта, встречи с Богом: «Радость, радость, радость! Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог философов!» Если под «Богом философов» разуметь некое пантеистическое «Абсолютное», как у Гегеля, – или, что, вероятно, имел в виду Паскаль – Аристотелево или Декартово понятие Бога – «мысль, мыслящую саму себя», «первого двигателя» и «чистую субстанцию», – то Паскаль безусловно прав. Религиозный опыт есть опыт встречи и общения с живым Богом, его содержание поэтому существенно отличается от содержания и «понятия» Бога как философской «гипотезы», необходимой для объяснения мира, или вообще как отвлеченной философской идеи. Именно это отличие я пытался выше выразить в словах, что Бог есть для нас всегда «Ты», а не «Он» (и тем более не «Оно») и что Его реальность выразима скорее в восклицании, в молитве, чем в умственном констатировании и суждении. Но я думаю, что обратная сторона мысли Паскаля – безоговорочное отождествление Бога мистического опыта с «Богом Авраама, Исаака и Иакова» – тоже не вполне точна, носит отпечаток некоего полемического преувеличения. Ибо этот Бог древних еврейских патриархов – при всем величии и всей правде его идеи – есть все же только первый проблеск религиозной правды в сознании первобытных пастухов. Этот Бог был суровым самодержцем, требовавшим рабского подчинения и слепого доверия себе, даже в искушающем приказе Аврааму принести Ему жертву, заколов собственного сына. Он, конечно, далеко не во всем тождествен Богу Иисуса Христа – любящему Отцу, который ищет не рабов, а друзей, поклонников «в духе и истине», – Богу, который пребывает в нас и дал нам от Духа своего, – Богу, который сам «есть любовь». Будучи живым личным Богом, Бог мистического опыта – Бог, при всей его трансцендентности имманентно живущий в глубине человеческого духа, – есть вместе с тем нечто, ни с чем иным не сравнимое – Свет, Жизнь, Истина. Паскаль сам косвенно признает это, записав в отчете о своем мистическом опыте также таинственное слово «огонь!».
5. РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ И ДОГМАТЫ ВЕРЫ
Итак, вера в личного Бога, как и ее христианское выражение – вера в Бога как «Отца небесного», есть не какое-либо теоретическое суждение или допущение о недоступной нам реальности, а итог и как бы кристаллизация живого религиозного опыта – именно опыта как религиозного общения. Как мы видели, здесь нужно остерегаться рационализации этой веры. Эту истину нужно брать не как точное, адекватное выражение собственного существа Бога – существа, которое мы, напротив, воспринимаем как непостижимую и несказанную тайну и которое и должно оставаться для нас таковой. Эта истина есть для нас лишь символ – т. е. знание, выражающее прозреваемое нами существо Бога в такой форме, что это существо одновременно остается для нас непостижимым; мы сознаем существо Бога только через посредство чего-то вроде нашего «впечатления» от Него – нашего отношения к Нему и испытываемого нами Его отношения к нам.
Такой же смысл имеют и все те истины веры, которые принято называть «догматами». Вера в личного Бога как «Отца небесного» и есть не что иное, как основной «догмат» христианской веры. Христос – существо, имевшее (как мы это с некоей очевидностью сознаем) наиболее адекватное знание о Боге и его отношении к миру и человеку, никогда не выражает это знание в точных, как бы «научных понятиях»: он выражает его в «притчах», т. е. образах и сравнениях, в намеках, дающих как-то почувствовать, внутренне испытать содержание этой несказанной тайны. Так, Он прямо говорит о «тайнах Царствия Божия» – той сферы бытия, которая, как мы видели, стоит в теснейшей, неразрывной связи с реальностью Бога, как бы сопринадлежит к ней. Эти тайны можно либо прямо знать – знать неким несказанным, невыразимым знанием (так, по словам Христа Его ученикам: «Вам дано знать тайны Царствия небесного (Мф 13:11; Мк 4:11; Лк 8:10); а кому это не дано знать, тому можно только намекнуть об этом «в притчах»[10 - Соответствующие места Евангелия, очевидно, можно понять только в указанном мною смысле. Буквальный текст их, из которого как будто следует, что Христос умышленно скрывал эти тайны от непосвященных, чтобы они не поняли и не спаслись, очевидно, содержит какое-то искажение.]).
То же самое применимо вообще ко всему остальному содержанию того, что называется «вероучением» или «догматами веры». Я оставляю пока в стороне то, что в составе вероучения принимается верующим за истину на основании доверия к религиозному авторитету или на основании веры в «откровение» в обычном смысле этого понятия; об этом я буду говорить ниже. Здесь я рассматриваю лишь то содержание вероучения, которое непосредственно открывается в личном религиозном опыте. Как я пытался выше показать, религиозный опыт не есть просто ощущение какого-то непосредственного, бесформенного мистического «нечто»; он имеет, напротив, некое положительное содержание; в нем узнается нечто вполне определенное, хотя точно и не выразимое в понятиях. Если религиозный опыт, в качестве опыта внутреннего общения души со Святыней, дает нам испытать реальность Бога как личного существа, то с этим связано или может быть связано и многообразное иное содержание. Так, например, уже пришлось говорить, что опыт реальности Бога есть тем самым опыт нашей неразрывной связи с Ним, нашего богоподобия и нашей вечности. Другая, еще более как бы бросающаяся в глаза и потому более известная сторона того же опыта есть опыт нашей «тварности», т. е. отсутствия в нашем бытии какого-либо собственного, нам самим принадлежащего фундамента, безусловной зависимости от Бога не только всего содержания нашей жизни, но и самого факта нашего бытия. Религиозный опыт содержит, далее, опыт нашей свободы как основоположного существа нашей личности, во всей загадочности этого начала бытия, которое мы испытываем как нашу «свободу». Данный в том же опыте непонятный факт, что мы можем терять Бога, несмотря на Его вечную близость нам, дает нам сознание некоей нашей внутренней слепоты; этот опыт слепоты связан с опытом действия на нашу душу темных, хаотических сил, влекущих нас на путь, который мы сознаем гибельным; это есть опыт греха – некоего непостижимого зарождения зла в нашей душе; и этот опыт легко заостряется в опыт нашей плененности злом, нашего бессилия преодолеть его. С другой стороны, опыт общения с Богом дает нам узнать величие и блаженство любви – не только любви Бога к нам и нашей любви к Богу, но тем самым любви ко всякой человеческой душе и даже ко всякому творению. Этот опыт любви дает нам парадоксальное, противоречащее всему нашему земному опыту сознание всепобеждающей силы любви, ее торжества в некоем внутреннем плане бытия над столь, казалось бы, непобедимо могущественными силами зла в мире. Опыт реальности Бога-Отца дает нам опыт вселенского братства людей как детей Божиих, несмотря на все – в земном плане неодолимые – силы раздора, ненависти и отчужденности между людьми.
Нет надобности продолжать перечень многообразного содержания религиозного опыта, пытаться дать полный инвентарь того богатства духовного знания, которое мы в нем обретаем. Здесь мне существенно только напомнить, что это содержание действительно многообразно и обладает расчлененностью, и притом, что оно касается не только самой реальности, которую мы называем Богом, но и существа нашего собственного бытия и тем самым всяческого бытия вообще.
На первый взгляд кажется даже неуместным, неподходящим называть такого рода знания «догматами веры» – настолько их характер не похож на то, что мы обычно разумеем под этим словом. Когда мы говорим о догматах веры, нашему сознанию невольно преподносится мысль о каких-то даже словесно точно фиксированных формулах, установленных церковным авторитетом и освященных преданием. Подлинный смысл этих формул обычно недоступен нашему личному разумению (многие ли христиане в силах понять, например, смысл догмата о троичности Божества?), тем более недоступна нам проверка их истинности. Вера в догматы в обычном смысле этого понятия неизбежно представляется некой «слепой» верой, определенной преклонением перед непогрешимым церковным авторитетом. Человеку, склонному к свободной, независимой мысли и неспособному на слово верить чужому мнению, хотя бы оно пользовалось всеобщим признанием и претендовало на значение священной неприкосновенной истины, догматическое содержание веры кажется поэтому либо просто набором бессмысленных предрассудков, либо, по меньшей мере, каким-то совершенно произвольным мнением, не допускающим проверки. Оно ощущается как ненужный балласт, только обременяющий и интимно-личную внутреннюю духовную жизнь, и здравое, разумное суждение о существе человеческой жизни и мира. А если при этом еще вспомнить, сколько жестокостей, ненависти и зла породили догматические раздоры, сколько человеческой крови было из-за них пролито, в какой мере под их действием история церкви уклонилась от основного завета христианской веры – завета любви, то легко понять, почему отношение независимого религиозного духа к «догматам веры» становится резко отрицательным; в них не видят ничего, кроме гибельных и позорных для человека заблуждений и суеверий.
Повторяю: я оставляю сейчас в стороне веру в догматы, поскольку она определена верой в церковный авторитет или в «откровение». Надо заранее признать, что обычная критика таких догматов, о которой я сейчас говорил, в значительной мере совершенно справедлива, хотя, как увидим дальше, все же одностороння и не учитывает обратной, положительной стороны дела. Здесь мне существенно только подчеркнуть, что это обычное понимание, разделяемое и сторонниками, и противниками догматического вероучения церкви, смешивает некую (весьма распространенную и выдвинувшуюся на первый план) производную и неадекватную форму догматического сознания, догматического содержания веры, с его первичным, подлинным существом. В сознании современного, образованного человека, выросшего в духовной атмосфере последних веков, т. е. под влиянием критики церкви и ее учения, слово «догмат» стало прямо означать какую-то неподвижную, застывшую, омертвевшую мысль, как бы оторвавшуюся от своего живого корня, от свободного умственного усилия познания и понимания; а слово «догматический» стало синонимом слепого, скованного, неподвижного склада ума. Сколько бы верного ни заключалось в таком представлении и словоупотреблении, полезно все же вспомнить, что по своему первоначальному смыслу греческое слово «догмат» означает просто нечто вроде «учения» или «утверждения»; греки говорили о «догматах» философов, понимая под этим их учения или мнения. Всякий человек, который во что-то верит, что-то утверждает, в чем-то убежден, имеет в этом смысле «догматы»; вера, мысль, познание должны ведь не быть чем-то расплывчатым, неопределенным, бессодержательным, а иметь определенное содержание. Ограничиваясь здесь областью веры, религиозной мысли, религиозного познания, мы должны сказать: всякая вера есть вера во что-то, всякая религиозная мысль должна содержать некое совершенно определенное утверждение. Это содержание веры и религиозной мысли и есть «догмат» в первичном смысле этого слова. Вера без догматов веры есть в этом смысле нечто столь же невозможное, как суждение, которое не высказывало бы чего-либо определенного. Фактически поэтому всякая критика господствующих церковных догматов есть замена их какими-нибудь другими догматами. Что Бог един, есть такой же догмат, как и что Бог троичен в своем единстве; даже убеждение, что Бог непознаваем и непостижим, есть догмат, выражающий совершенно определенное представление о своеобразном существе Бога. В XVIII веке пользовалась огромным влиянием резкая критика церковного вероучения в книге Arnold’a «Kirchen– und Ketzergeschichte»; основная мысль этой книги состояла в том, что люди, гонимые в качестве еретиков, выражали в своей борьбе против церковного вероучения настоящую правду христианской веры; но ведь ясно, что еретики противопоставляли догматам церкви другие догматы. Всякий человек, будь он в религиозном смысле верующий или неверующий, руководится в своей жизни какими-то общими идеями, мыслями и о подлинной природе вещей, и о том, что есть добро и зло, что хорошо и дурно, такие мысли теперь называются «убеждениями» или «принципами». Человек «беспринципный», человек «без убеждений» есть человек, лишенный либо мысли, либо совести – либо того и другого. Но «убеждения» и «принципы» есть лишь другое название для того, что в первичном смысле слова есть «догмат». Вера в достоинство человека, в неприкосновенность человеческой личности, в равенство всех людей есть, по существу, не в меньшей мере вера в догматы, чем вера в первородный грех или в бытие Бога; столь распространенная среди современных людей вера в «прогресс» по общему своему характеру находится на одной плоскости с противоположным ей по содержанию церковно-христианским убеждением, что «весь мир лежит во зле» и что в пределах мира спасение и радикальное исцеление человека от бедствий чисто мирским способом невозможно, то и другое суть лишь разные догматические решения одного и того же вопроса. В этом общем смысле слова «догмат» отрицание догматов вообще невозможно (разве только в смысле утверждения универсального скептицизма, что, однако, в свою очередь, есть тоже некий «догмат»), можно говорить только о замене ложных догматов истинными или произвольных – обоснованными. И при этом, конечно, нетрудно обнаружить, что господствующие «догматы» просвещенных людей, отвергающих церковное вероучение, обычно – как это бывает со всеми ходячими мыслями – тоже произвольны, не проверены, опираются на слепую веру в непогрешимость влиятельных мнений – либо модных, соответствующих «духу времени», либо освященных вековой традицией – и тоже носят часто характер застывших словесных формул, совершенно неадекватных свободному, непредвзятому восприятию конкретной жизни в ее живой правде. Так, чтобы привести только один пример – вера в «прогресс», в беспрерывное, предопределенное умственное, нравственное и материальное совершенствование человеческой жизни стоит в вопиющем противоречии с самыми бесспорными данными исторической науки, знающей многократные эпохи регресса, крушения высокоразвитых цивилизаций и впадения в варварство. Вера в слова и отвлеченные понятия вместо веры в истины, свободно обретаемые из живого опыта, совсем не есть исключительная особенность церковно-верующих людей, а скорее присуща неразмышляющим, несамостоятельным, подражательным умам и потому характерна вообще для того, что называется «общественным мнением». Связанный с этим слепой, несправедливый и жестокий фанатизм есть черта, свойственная атеистам не в меньшей мере, чем «церковникам», исторический опыт, в особенности последнего времени, достаточно ясно об этом свидетельствует. И этот опыт показывает, что по крайней мере некоторые из таких господствующих и почитаемых догматов передовых людей часто ложны и гибельны для жизни в гораздо большей мере, чем когда-либо были какие-либо церковные догматы.
Ясно, что вопрос о смысле, существе и правомерности «догматов» должен быть перенесен из плоскости, в которой он обычно обсуждается, в совершенно иную плоскость. Если всякий догмат вообще имеет тенденцию вырождаться в застывшую словесную формулу, в неподвижную и непродуманную мысль, утверждаемую не через свободное непосредственное усмотрение ее истинности, а в силу следования общественному мнению или преклонения перед традицией и авторитетом, то надо отчетливо различать истинное внутреннее существо догмата от той внешней его формы, в которую он часто облекается. Этим дано оправдание только что намеченного мною понятия догмата. Попытаемся теперь точнее уяснить это понятие.
Прежде всего следует – вопреки распространенному мнению – подчеркнуть, что религиозный догмат не есть нечто вроде метафизической гипотезы, т. е. допущения или утверждения о содержании скрытых, недоступных нам глубин бытия, он не есть утверждение, с помощью которого мы «объяснили» бы видимый состав мира через ссылку на его невидимые основания. По своему первоначальному, неискаженному существу догмат есть, напротив, простое описание состава, имманентно данного нам в религиозном опыте, – умственный отчет в том, что мы воспринимаем. Догмат есть по существу нечто вроде констатирования факта (или обобщения фактов), а никак не гипотетическое их объяснение, которое всегда было бы произвольным из его предполагаемых причин или оснований. Только факты, с которыми мы имеем здесь дело, суть именно факты общего порядка, т. е. означают общий состав, общую структуру бытия. Догматы соответствуют – в области религиозного знания – тому, что современная философия разумеет под «феноменологическим описанием» состава явлений. Здесь не строятся гипотезы, не даются объяснения, а просто и непредвзято описывается то, что есть, – то, что непосредственно предстоит взору (и что «объяснить» мы часто не в силах). Так, вера в Бога как творца и хранителя мира есть, как мы уже видели, выражение непосредственного опыта, Воспринимая внутреннюю безосновность, шаткость моего собственного и мирового бытия, я тем самым воспринимаю его зависимость и производность от некоей абсолютной, вечной, в себе самой утвержденной основы. То, что мир «сотворен Богом», не значит (как это, невольно упрощая, мыслит популярное сознание), что некогда, давным-давно (по церковному счету несколько тысячелетий тому назад, а в связи с новейшими космологическими знаниями – несколько сот миллионов лет тому назад), мир по повелению Бога внезапно «возник», это значит, напротив, нечто совершенно очевидное – именно, что мир не только по своему содержанию, но и по самому своему бытию произведен от некоей абсолютной, уже внемирной или надмирной инстанции, мир не «был сотворен» «когда-то» хотя бы уже по той причине, что «до» его сотворения не могло быть никакого «когда-то», так как само время принадлежит к составу сотворенного бытия «ante tempus non erat tempus» – как это коротко выражает бл. Августин; мир есть «тварное», производное, зависимое бытие. Что при этом мир есть некий «космос», т. е. некоторое стройное, согласованное, подчиненное закономерностям целое, математически или вообще логически-умственно постижимое, есть свидетельство того, что порядок, мысль принадлежат к составу его творческой первоосновы – что есть тоже не гипотеза о характере причины, породившей мир, а простое констатирование первичного, основоположного его имманентного состава. И с другой стороны, имея опыт нашей собственной личности в ее исконности и глубине, мы из него знаем, что абсолютная первооснова бытия должна быть подобна той священной, таинственной глубине, которую мы воспринимаем как фундамент и почву нашего личного бытия, – должна быть как-то сродни ей, и мы одновременно опытно знаем, что эта глубина есть первоисточник того, что мы сознаем как абсолютное Благо, Святыню, Правду. Как бы трудно – или даже невозможно – ни было вполне точное и исчерпывающее умственное формулирование этого сложного состава опытного знания о мире и нас самих, оно в общей форме находит свое выражение именно в сознании или «догмате», что мир есть «творение» Бога. Точно так же, например, догмат «грехопадения» или «первородного греха» по своему подлинному существу совсем не совпадает с мифологическим рассказом, как некогда человек за свое прегрешение был изгнан из рая; этот рассказ лишь облекает догмат грехопадения в наглядную, популярную символическую – именно «мифологическую» форму. Существо самого догмата есть простое описание двух непосредственно очевидных опытных знаний – опыта реальности (укорененной в человеческой природе) силы зла или греха и одновременно опыта святости и совершенства первоосновы человеческого существа – человеческой личности, т. е. опыта ее укорененности в Боге, ее характера и предназначения как «образа Божия»; сочетание этих двух опытов дает самоочевидное знание, что человек (и весь мир) по своей эмпирической природе не таков, каков он есть по своему первозданному существу, и в этом и состоит сознание, что человек и мир «пали». Тем более очевидно, что все «христологические» догматы – как бы отвлеченно-философски некоторые из них ни звучали – суть в конечном итоге не что иное, как интеллектуальное выражение религиозного восприятия личности Иисуса Христа и религиозного опыта, открывающего нам смысл «спасения». То же самое можно было бы показать в отношении всех других догматов веры.
Но так как живое содержание религиозного опыта – как и всякого опыта вообще – в его конкретной полноте невыразимо, то это интеллектуальное его выражение всегда остается лишь приблизительным, неадекватным, оно улавливает лишь то, что нам кажется наиболее важным в составе религиозного опыта, что больше всего нас интересует и чем мы больше всего в нем дорожим. Конкретно-психологически и исторически формулировка догмата веры по большей части определяется мотивом полемическим, желая предупредить или отклонить истолкование религиозного опыта, которое нам представляется ложным, т. е. в котором мы усматриваем искажение – и притом прежде всего практически вредное или опасное искажение его конкретного смысла, мы выражаем религиозный опыт в понятии, которое должно подчеркнуть, отметить какую-либо его черту, незамечаемую или отрицаемую при ложном его истолковании и почитаемую нами существенной. В силу этого живая полнота религиозного опыта всегда богаче, конкретнее, многообразнее того, что выражено в догмате, т. е. в суждении, извлеченном из опыта, примерно так же, как живая полнота нашего восприятия конкретной личности или нашего личного отношения к человеку, например нашей любви, всегда бесконечно богаче, глубже, содержательнее всего того, что мы можем высказать о нем, в чем мы можем отдать себе умственный отчет, – а тем более содержательнее и глубже того, что мы имеем практический повод высказать.
Таково, в сущности, отношение между опытом и мыслью, выраженной в понятиях, во всех областях знания; свободный и проницательный ум, видящий саму реальность, всегда сознает, что все высказывания и суждения о реальности лишь частичны и в этом смысле неадекватны единству живой конкретной полноты самой реальности, т. е. что всякая реальность сама по себе есть всегда нечто большее и иное, чем все, что мы можем знать и высказать о ней.
Но этим здесь и ограничивается аналогия. Так как религиозное познание, как я пытался это уже многократно уяснить, есть совершенно особый, своеобразный вид познания, то и опыт и мысль в нем имеют особый характер, и для понимания подлинного существа религиозного догмата чрезвычайно важно не терять из виду этого своеобразия. Мы можем примерно так резюмировать то, что нам уже уяснилось. Религиозное знание не есть предметное знание, оно не состоит в том, что наш взор направляется на некий внешний, пассивно нам предстоящий объект и «раскрывает», «уясняет» его независимо от нас сущую природу, его «объективное содержание»; религиозное знание не есть итог бесстрастного теоретического созерцания. Религиозный опыт есть живой опыт – опыт, обретаемый во внутреннем переживании реальности, которая нам в нем открывается, в частности, это есть, как мы видели, опыт общения. Поэтому мысль, в которой мы выражаем итог этого опыта – религиозный догмат, – не исчерпывается теоретическим суждением об объективной природе той реальности, с которой мы имеем здесь дело, – реальности Бога. Реальность, которую мы действительно познаем в религиозном опыте и пытаемся выразить, интеллектуально фиксировать в «догматах», есть, строго говоря, реальность совсем иного порядка. Поскольку религиозная мысль остается при этом направленной на Бога, мы познаем «объективное существо» Бога именно в Его отношении к нам, Его действии на нас, Его значении для нашей жизни; или – выражая то же самое в порядке субъективном – мы пытаемся выразить наше впечатление от Бога. Коротко говоря, Бога мы воспринимаем всегда лишь в живом конкретном контексте нашей религиозной жизни, нашего бытия с Богом. Как мы уже видели, Бог живого религиозного опыта не есть предмет, мыслимый в его объективном бытии, не есть «он» или «оно», а есть живое «ты» – «Бог-со-мной», Бог в составе моей жизни или Бог как определяющий составной элемент жизни или бытия вообще. Задача религиозного познания, осуществляемого религиозным опытом и выражаемого в истинах догматического порядка, есть задача верного, осмысленного ориентирования в жизни в свете открывающейся нам ее последней глубины или первоосновы. При этом ввиду непостижимости собственного «существа» Бога – ввиду того, что это существо превосходит наше разумение (что непосредственно дано в самом опыте) и не может само быть выражено в понятиях, – это знание, поскольку в нем соучаствует знание о самом Боге, носит характер символический; оно есть не точное описание, а некое уподобление, некий образный намек на несказанное. Истинный смысл догматов – не теоретический, а практический: они дают нам как бы вехи для правильного пути в жизни. Мы не можем жить, не зная, в чем истинная цель нашей жизни, в чем лежит верный путь к цели. Как мореплаватель нуждается в видении звезд – светящихся точек небосвода, по которым он держит свой путь по темному океану, так мы должны иметь знание некой схематической карты звезд духовного неба, чтобы не заплутаться в жизни. Продолжая аналогию дальше, мы можем сказать: то, что нам нужно, есть не невозможное здесь знание астрономической реальности в ее абсолютном существе, а как бы конкретная космографическая картина, т. е. знание звезд в их отношении к нам, к земному миру. И разница между истиной и заблуждением есть здесь, в конечном счете, именно разница между истинным и ложным путем – между путем, ведущим в гавань, и путем, на котором мы обречены потерпеть кораблекрушение. Религиозная истина есть не «теория», не «доктрина», не бесстрастное, интеллектуальное, наукоподобное описание объективного существа Бога: она по самой своей природе есть «путь и жизнь».
Это понимание дела отнюдь не тождественно какому-либо субъективизму или релятивизму, отнюдь не должно истолковываться «прагматически», как это пыталась делать, например, теория догматов католического «модернизма». Догматы совсем не суть «фикции», ложные или объективно неоправданные идеи, единственный смысл которых состоял бы в том, что они символизируют указание нравственного порядка. Нет, как мы уже видели, мы обретаем в них подлинное и в этом смысле строго объективное знание самой реальности, совершенно так же, как космографическая картина вселенной содержит подлинную истину и только поэтому помогает нам ориентироваться в земной реальности. Существует подлинная, объективно сущая структура духовного бытия, есть строгие, ненарушимые и не зависящие от нашей воли закономерности этого бытия; от точного познания их и руководства ими зависит правильность и разумность нашей жизни, успешность наших стремлений, выражаясь в обычных религиозных терминах, наше «спасение», как и от пренебрежения ими и нарушения их – наша «гибель». Спасение и гибель есть здесь не «награда» или «кара» за истинные или ложные мысли о Боге – Бог во всяком случае не есть тиран, который предписывал бы своим подданным определенные мысли, награждал бы послушных и карал бы тех, кто дерзает иметь иное мнение. Все это есть бессмысленное и рабское представление о религиозной жизни и мысли. Напротив, истина имеет здесь, как и везде, свою имманентную ценность, которая должна свободно усматриваться; здесь, как и всюду, истина нам полезна, ибо дает возможность правильно ориентироваться в бытии и целесообразно жить, и заблуждение вредно, потому что заводит в безвыходный тупик, на край пропасти. Но только реальность, которую мы должны здесь точно воспринимать в ее объективном составе, есть не отрешенное от нас, «объективное», в себе сущее существо Бога, а именно реальность нашей жизни с Богом и в Боге или реальность той духовной вселенной, которая слагается из отношения между Богом и нами самими (или миром). Иначе то же самое выразимо так: при всей объективной ценности религиозной истины она не есть здесь теоретическое, предметное суждение, истинность которого состояла бы только в простом совпадении наших представлений или мыслей с составом предстоящего нам предмета; она состоит в истинной жизни, в истинной надлежащей настроенности души, в направленности нашей воли на истинную цель и ценность нашей жизни. Поскольку вообще правомерно представление о «суде» Божием, мы должны сказать: наши религиозные мысли, как таковые, совершенно безразличны Богу; Бог судит не наши мысли, а наши сердца. Умственное выражение религиозной истины – так сказать, истина сердца, которая должна нам открываться, – существенно не само по себе, не как таковое, а только как форма, в которой нам самим легче всего сохранить чистоту и адекватность необходимого здесь сердечного знания. Чтобы ограничиться здесь указанием на один уже упомянутый выше пример догмата: мысль, что Бог есть наш «Отец небесный», имеет смысл, конечно, не как теоретическое констатирование какого-либо объективного состава – так сказать, не как холодная паспортная регистрация того, кто именно наш отец, или в каком отношении родства мы находимся с Богом; единственный смысл и единственная ценность этого догмата состоит в том, что он содержит некое символическое указание на нашу интимную близость к Богу, на внутреннее сродство нашего духа с Богом, на связь любви, объединяющую нас с Богом, и на вытекающие отсюда последствия для нашего духовного и морального сознания.
Отсюда следует, что при всей необходимости для нас интеллектуальной фиксации живого содержания религиозного опыта, при всей существенности здесь различия между «истинными» и ложными догматами остается все же некая несоизмерность между невыразимой полнотой конкретного, живого опыта и его интеллектуальным выражением в религиозных понятиях и суждениях – примерно такая же, как между живым музыкальным впечатлением и всем, что может рассказать теория музыки или музыкальная критика об его смысле. «Догматы» в их рациональном выражении суть не первичная основа веры, а скорее – отчасти ее осадок, отчасти вехи, схематически отмечающие структуру ее содержания. Догматы сами почерпаются из живого отношения к Богу; в молитвенной обращенности к Богу, в конкретном опыте общения с Богом дана живая полнота восприятия религиозной реальности, неисчерпаемая никакими отвлеченными догматическими формулами. Вообще говоря, литургический момент в религии гораздо более существен, чем ее догматика: в составе веры молитва бесконечно важнее всех суждений и рассуждений о Боге. Но кроме того, можно сказать, что живое и наиболее адекватное самого догматического содержания веры дано не в фиксированных в форме суждений «догматов», а в представлениях и в мыслях, сопутствующих молитвенному обращению к Богу. Эти представления и мысли тоже только «символичны», имеют значение не точных понятий и суждений, а образов и уподоблений; но они обладают большей полнотой, более насыщены конкретным содержанием, чем отвлеченные догматические формулы. Молитвенное, литургическое выражение веры имеет, таким образом, и в отношении ее подлинного догматического содержания, ее осмысления значение более первичное и определяющее, чем догматические богословские учения.
Есть какой-то парадокс в том, что именно христианская вера – религия, которая по своему существу есть par excellence религия живого личного общения с Богом, религия интимной близости и сродства между человеческой душой и Богом, – облеклась, пожалуй, в большей мере, чем другие религии, в жесткую, неподвижную броню застывших догматических формул. Помимо общей роковой тенденции всего живого постепенно застывать, костенеть, превращать гибкую, пластическую форму, необходимую всему живому, в форму омертвевшую, на которую переносится благоговейное почитание, первоначально относящееся к творческому, пульсирующему содержанию жизни, – помимо этой общей тенденции здесь, очевидно, имеет силу соотношение, выраженное в известной формуле: corruptio optimi pessima
.
Именно богатство, полнота конкретного религиозного знания, открывающегося христианской религиозной установке, влечет в особенной мере к осмыслению ее содержания в догматических суждениях; вместе с тем парадоксальность христианской веры перед лицом обычных жизненных и моральных воззрений, неся в себе опасность упрощенного, ложного, искажающего и потому гибельного ее истолкования, вызывает здесь потребность в точном фиксировании нюансов истины. К этому общему соотношению присоединился еще ряд случайных исторических оснований. Главными историческими носителями и выразителями христианской веры в века ее формирования были греки и римляне; при этом склонность греческого ума к утонченному философскому умозрению сочеталась со склонностью римского ума к отчетливому, трезвому, логически фиксированному, рационалистически упрощенному выражению мыслей и потому к превращению живой морально-духовной истины в рационально общую, твердую правовую норму. И к этому, наконец, присоединилось еще и то, что среди политической анархии первых веков христианской эры утверждение правового порядка и единства государственной власти было возможно лишь через единство веры; отсюда возникла потребность противоестественного принудительного рационального нормирования содержания веры. Новое пробуждение истинно христианского духа личной, непосредственной связи человеческой души с Богом выразилось сначала, в эпоху Реформации, в силу исторической привычки к застывшим догматическим формулам, менее в оживлении догматического сознания, чем в ожесточенной борьбе разных догматических формулировок (и вместе с тем в противопоставлении одного религиозного авторитета другому); а позднейшее пробуждение тоже истинно христианского духа свободы совпало с бунтом против веры вообще, с возникновением духа неверия, с прославлением самочинной свободы человека, с утратой понимания самого существа веры. Европейскому христианскому человечеству нужно было пройти через все эти испытания и шатания, прежде чем стало психологически возможно вернуться к пониманию истинного существа веры и тем самым к пониманию положительного значения догматов веры как интеллектуального выражения живых истин, открывающихся в религиозном опыте.
Как бы то ни было, но, раз сделав здесь усилие преодоления обычного, ходячего словоупотребления и всех связанных с ним мыслей, мы приходим к сознанию, что догматы в единственно существенном для нашей религиозной жизни смысле суть не освященные церковным авторитетом, непонятные нам формулы и теоретические суждения, а просто не что иное, как наши живые религиозные убеждения. Для ответственного и правдивого религиозного сознания – например, в моменты религиозного напряжения духа перед лицом тяжких испытаний или перед близостью смерти – существенно не то, повторяем ли мы слова символа веры, и даже не то, сознаем ли мы наше внутреннее согласие с мыслями, в них выраженными, – существенно лишь то, что мы знаем, испытываем и внутренне исповедаем как наши религиозные убеждения – как истины, которые открываются нашему сердцу. Мерило таких живых догматов есть их практическое руководящее значение в нашей жизни. Если, в силу греховности и слабости нашей воли, в силу власти над ней чувственных представлений и побуждений, мы далеко не всегда фактически действуем, живем и чувствуем в согласии с этими убеждениями, то все же они остаются мерилом, которым мы, по крайней мере, судим самих себя, оцениваем нашу жизнь и наше поведение и пытаемся их исправить и совершенствовать. Дело идет здесь не о простом различии между истиной и заблуждением в теоретическом смысле слова, а о неизмеримо более существенном различии между правдой и грехом – между просветленностью нашей души и ее погруженностью во тьму. Догматы веры относятся ближайшим образом и непосредственно к совсем иной области бытия, чем теоретические суждения о внешнем мире, – чем та житейская мудрость, которая дает нам возможность правильно ориентироваться в мире и преуспевать в нем. Истины веры суть истины сердца – плоды сердечного, живого опыта, утверждаемые вопреки всем «ума холодным наблюденьям»; они всегда кажутся безумием «мудрости века сего» и обладают для верующего своей имманентной, внутренней очевидностью.
При этом не нужно ни преувеличивать, ни преуменьшать значение точного догматического знания. С одной стороны, вера есть не мысль, а сердечный опыт; и в этом смысле можно сказать, что догматы суть не умственные убеждения, а убеждения, определяющие строй души и мотивацию нашего поведения (как мы это уже говорили выше). Умственно неверующий, но человек самоотверженный, горящий любовью к людям, полный жажды правды и добра, в сущности – сам того не сознавая – верует, что Бог есть любовь и что нужно потерять свою душу, чтобы сохранить ее, т. е. фактически исповедует основной догмат христианской веры. А так называемый «верующий», убежденно повторяющий все содержание символа веры, есть в сущности неверующий, т. е. фактически отвергает догматы веры, если он – черствый, бездушный эгоист, если его сердце способно видеть и ценить только земные блага, т. е. на деле отрицает Бога и царство Божие. О таких верующих Ницше верно сказал: «Они говорят, что веруют в Бога, но на самом деле верят только в полицию». Догмат по самому своему существу есть оценочное суждение – утверждение ценности чего-либо. Поэтому его исповедание узнается по тому, какими побуждениями мы руководимся в нашей практической жизни. Повторяю еще раз: Бог судит не наши мысли, а наши сердца. Евангельская правда о двух сыновьях, из которых один выразил послушание воле отца, но не исполнил ее, другой же, выразив непокорность, фактически выполнил волю отца, или евангельское слово, что мытари и блудницы войдут в царство небесное раньше «книжников и фарисеев», т. е. богословов, знатоков писания и умственных исповедников веры, – достаточно отчетливо это выражают.
Но вместе с тем не нужно здесь впадать в обратную крайность и преуменьшать значение осознания догматов, т. е. осмысленного понимания существа веры, которою мы должны руководиться в жизни. Здесь, как и всюду, знание полезнее исповедания. При этом настоящая духовная умудренность, которую выражает живое догматическое сознание, хотя, с одной стороны, и противоречит «мудрости века сего», есть, с другой стороны, единственно прочное основание подлинной жизненной мудрости. Открывающееся в религиозном опыте духовное бытие в его существе и закономерностях есть все же в конечном счете единственная, подлинно определяющая сила всей человеческой жизни вообще; кто несведущ в этой области, тот неизбежно строит свою жизнь «на песке», гонится за призраками, рискует погубить свою жизнь. Поэтому нельзя иметь, строго говоря, настоящего знания человеческого сердца и – тем самым – даже трезвого знания жизни и мира, оставаясь слепым в отношении строения духовного бытия, т. е. не имея истинных «догматов» веры. Кто не прозревает глубин бытия, тот пребывает в иллюзиях и в отношении его земного, поверхностного слоя. Таково умственное состояние людей духовно поверхностных, лишенных религиозного опыта и знаний: вся их жизненная мудрость даже в обычном смысле часто обличается как наивная глупость. В этом смысле Достоевский метко говорит, что настоящая правда всегда неправдоподобна, т. е. не совпадает с той «правдой», в которую верят люди, прикованные к внешней, видимой поверхности вещей. Настоящие гениальные государственные деятели – подлинные мастера жизни, люди типа Кромвеля, Наполеона, Бисмарка – были всегда и религиозно мудрыми людьми (как, впрочем, и все настоящие гениальные ученые) – все равно, почерпали ли они свою жизненную мудрость из религиозных убеждений или, наоборот, приходили к религиозным убеждениям на основании понимания жизни.[12 - Классический образец этого последнего соотношения есть суждение Наполеона о Христе: «Я хорошо знаю людей, – сказал он однажды, – вы можете поверить мне: Иисус не был простым человеком».] И, напротив, господствующие политические доктрины и верования последних веков – веков неверия – были самим историческим опытом обличены как жалкие, смешные иллюзии, как плод наивного неведения подлинного существа человеческого сердца. Так европейское человечество расплачивается теперь тяжкими страданиями за то, что не видело и не учитывало реальности и силы греха, которая открывается только религиозному опыту. Можно сказать, что трагическая история европейского человечества начиная с эпохи Просвещения XVIII века всецело определена одним догматическим заблуждением – именно отрицанием догмата грехопадения.
В этом заключается подлинное насущное значение различия между истинными догматами и «ересями». В истории христианской мысли и жизни бесконечно злоупотребляли этими понятиями истинной веры и ереси; людей истязали и убивали, человеческую жизнь калечили, проливали реки крови из-за признания или отрицания буквы догматов, подлинный смысл которых часто оставался непонятным обеим борющимся сторонам. Не говоря здесь уже о страшном, противохристианском грехе насилия над совестью, принуждения к вере, мы теперь ясно сознаем, что многие из этих ожесточенных споров были спорами о букве, не имеющими никакого реального религиозного значения. Еще Григорий Нисский рассказывает с юмором, как в его время, в IV веке, базарные торговки Константинополя, вместо того чтобы заниматься своим делом, яростно спорили о христологических формулах. Но это сознание болезненной гипертрофии омертвевшей догматической мысли не должно нас делать слепыми в отношении существенного, жизненного значения различия между религиозной истиной и религиозным заблуждением. Надо только при этом обратиться от буквы догматов к их духу и подлинному смыслу. Приведу пример. Карлейль говорил, что спор ортодоксии с арианством был «спором о полугласной» (homoousia или homoiousia). Но когда слепым стариком незадолго до смерти он слушал чтение Евангелия, он однажды с горечью воскликнул: «Да, если Ты действительно Бог, то все это – правда; но если Ты только человек – что знаешь ты больше, чем я?» Спор о «полугласной» – спор о том, был ли Иисус Христос тварным человеческим существом, только «подобным» Богу, или в Нем присутствовало реально подлинное существо Бога, – этот спор оказался, таким образом, не спором о пустой мелочи, а спором, от решения которого зависело, может ли наша душа найти покой истинного знания или обречена на безвыходное беспокойство неведения и сомнения. Точно так же, если, например, спор о «filioque», разделяющий исповедания западной и восточной церкви, остается нам совершенно непонятным и перед лицом непредвзятой религиозной мысли обнаруживается едва ли не как совершенно беспредметный спор, определенный суеверным благоговением перед той или иной привычной словесной формулой, – то, с другой стороны, религиозно-исторический опыт свидетельствует, что, например, вопрос об истинном отношении между «благодатью» и «природой», или спор Лютера с Эразмом о совместимости христианской веры с признанием человеческой свободы, или спор о том, есть ли цель христианской жизни индивидуальное, одиночное «спасение души», или соучастие в деле общего спасения мира, или спор об истинном смысле эсхатологических верований – что все эти и многие другие догматические проблемы имеют решающее значение для общего религиозного понимания жизни, для определения правильного жизненного пути. Часто при этом наиболее насущные и острые догматические проблемы, от решения которых зависит все наше религиозное самосознание, наше общее отношение к миру и жизни, совсем не были еще сформулированы богословской мыслью или, по крайней мере, не были отчеканены в освященных церковным авторитетом незыблемых формулах; и, напротив, по крайней мере, некоторые из таких освященных зафиксированных формул были итогом спора, основанного на недоразумении.
При этом следует еще отметить, что, хотя основные, подлинно существенные догматы веры имеют вечный смысл и потому постоянное значение для человеческой духовной жизни, все же с историческим изменением общих духовных перспектив, так сказать, общей философской атмосферы жизни, ее духовно-нравственной конъюнктуры определенные догматические вопросы могут – в плане коллективной человеческой жизни – терять то существенно-жизненное значение, которое они имели при других исторических условиях, так сказать, переставать быть религиозно-актуальными. Так, например, борьба против «монофизитства», некогда имевшая первостепенное религиозное значение в качестве борьбы против восточного отвлеченного спиритуализма, в настоящее время, при господстве воззрений, вообще отвергающих начало духа, потеряла ту актуальность и тот жизненный смысл, которые она когда-то имела. В нашу эпоху обоготворения человека догмат о реальности человеческой природы Христа отчасти вообще потерял актуальность просто потому, что стал самоочевидной истиной, отчасти имеет иную практическую ценность, чем в древнем восточном мире. Я уже не говорю о том, что в эпоху, когда отвергаются или подвергаются сомнению самые основоположные догматы христианской и даже вообще религиозной веры, спор о более детальных догматических вопросах очевидно перестает быть актуальным и отходит на задний план в перспективе общей духовной жизни. Мы имеем здесь полную аналогию, например, с политическими воззрениями и лозунгами, которые с изменением условий и насущных задач коллективной человеческой жизни могут терять свое актуальное значение и даже могут в одну историческую эпоху быть благотворными, а в другую – вредными (хотя общие нравственно-политические начала в более широкой перспективе, конечно, сохраняют вечный смысл и постоянную ценность).
Коротко говоря, проблематика догматов веры как живых религиозных убеждений, почерпаемых из религиозного опыта и определяющих наше духовное самосознание и нравственное направление нашей жизни, – эта проблематика зарождается и должна разрешаться так же свободно и правдиво, из усмотрения живой правды, как вся вообще проблематика религиозной жизни, существо которой есть свободное общение души с божественной реальностью.
6. РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ, АВТОРИТЕТ И ОТКРОВЕНИЕ
Теперь мы подготовлены, наконец, к ответу на основное из упомянутых выше возражений, которые сторонники того, что называется «положительной религией», противопоставляют намеченному мною понятию личного религиозного опыта как основоположного существа веры. Возражение это состоит в том, что религиозная вера есть признание некой объективной, для всех одинаково обязательной истины вероучения, а это признание, как обычно думают, возможно только через подчинение личных религиозных суждений и мнений учению, истинность которого гарантирована неким высшим безапелляционным авторитетом и опирается на положительное откровение – на истины, превышающие наше личное разумение и возвещенные нам самим Богом. В первой главе этого размышления я пытался показать, что эта обычная религиозно-философская установка страдает недоговоренностью, содержит petitio principii, так как вера-доверие в конечном счете должна сама всегда опираться на веру-достоверность. Теперь, в свете того, что нам уже уяснилось, можно полнее и еще с другой стороны понять это соотношение, и это вместе с тем дает нам возможность оценить элемент правды, содержащийся в обычном понимании существа веры.
Это возражение исходит, как я уже упоминал, из молчаливого допущения, что религиозный опыт есть нечто чисто субъективное и что поэтому на его пути вообще нельзя достигнуть объективной общеобязательной религиозной истины, именно этим определяется мысль, что объективная религиозная истина обретается только через признание учения, истинность которого гарантирована некой высшей, сверхчеловеческой, безусловно авторитетной инстанцией. Мы должны начать с усмотрения ложности самой этой предпосылки, психологически она проистекает из утраты живого чувства реальности или подлинной истинности содержания религиозного опыта. Сравним, прежде всего, религиозный опыт с опытом в других областях знания. Опыт всюду и всегда подвержен некоторому риску субъективной ограниченности и даже субъективного искажения в восприятии подлинной реальности. Возьмем, например, зрительный опыт – опыт восприятия цветов и внешних геометрических форм явлений, как и пространственных соотношений между ними. Отдельные люди отличаются друг от друга по точности и остроте зрительных восприятий, и здесь всегда возможны и простая невозможность увидать что-нибудь (например, слишком удаленное от нас или слабо освещенное), и всякого рода зрительные иллюзии. Тем не менее мы не сомневаемся, что в общем и целом все люди видят, зрительно воспринимают одну и ту же, именно объективно сущую картину реальности и что все возможные здесь разногласия между суждениями разных наблюдателей практически легко разрешимы, вопреки всем ухищренным сомнениям отвлеченного философского скептицизма на практике здесь нетрудно отличить – по крайней мере в общих чертах – подлинную истину от заблуждения, и эта объективная истина в принципе совпадает с опытным суждением большинства людей, обладающих нормальным зрением.
Возьмем теперь опыт, более близкий к религиозному опыту, таков, как мы видели, опыт эстетический, например опыт музыкального восприятия. Здесь, конечно, различие между опытом разных людей гораздо больше, чем в области зрительного и всякого вообще чувственного опыта. Есть люди музыкальные и немузыкальные, и есть люди весьма разных музыкальных «вкусов». Безусловно, немузыкальные люди здесь так же мало идут в счет, как глухие. Что касается различия между музыкальными вкусами, то, с одной стороны, мы имеем возможность их объективной расценки: мы можем весьма точно различать между «хорошим» и «плохим» вкусом, между вкусом острым и утонченным, улавливающим подлинную музыкальную красоту, и вкусом банальным или вульгарным, руководимым, в сущности, критериями не чисто музыкального порядка. И, с другой стороны, существует и вполне законное многообразие индивидуальных музыкальных вкусов, как бы лежащих на одном объективном уровне, т. е. одинаково правомерных, но это различие музыкальных вкусов – того, какая именно музыка кому больше по «сердцу», – ничуть не препятствует наличию общепризнанных, для всех одинаково обязательных закономерностей музыкальной красоты, эти закономерности обнаруживаются здесь наукой, теорией музыки, которая в известной мере обладает точностью математических знаний, и хотя и здесь возможны и некоторые разногласия, и прогрессивное развитие, это не мешает, однако, теории музыки оставаться общеобязательной наукой – точной, в меру возможной вообще точности человеческих знаний. И человек, который оценивает, например, простую песенку или банальный фокстрот выше фуги Баха или симфонии Бетховена, так же очевидно свидетельствует о своей некомпетентности, как в области зрения – слепой или близорукий. Не иначе по существу обстоит дело в области религиозного опыта. Конечно, религиозный опыт есть, как мы видели, своеобразный род знания, отличный от обычного типа восприятия – все равно, чувственного или сверхчувственного. Ибо он есть не предметное знание – не уловление взором реальности, как бы пассивно и неподвижно стоящей перед нами, а знание-переживание, знание-общение. Истина здесь некоторым образом открывается нам изнутри, как бы проникая в нас из некой глубины, ее познание требует от нас особой внутренней сосредоточенности души; и сама реальность, которая здесь открывается, будучи вездесущей и всеобъемлющей, не имеет тех вполне отчетливых, «бросающихся в глаза» очертаний, которые присущи частной, ограниченной реальности. Поэтому познание истины здесь – дело более сложное, чем в обычном типе познания. Оно подобно не познанию отдельного предмета, а скорее ориентированию в сложном целом. Знание Бога есть, как мы видели, знание отношения между Ним и человеческой душой или между Ним и миром – знание Его как центра и первоисточника сложных закономерностей духовного мира. Естественно, что здесь, как во всяком сложном многообразном знании, субъективный элемент, определяющий различие между людьми и по остроте их духовного взора, и по направлению их внимания и интереса, может играть большую роль, чем когда дело идет о восприятии определенного частного предмета. И тем не менее в принципе мы имеем здесь все же подлинное знание, подлинный опыт, т. е. усмотрение объективной, подлинной и потому общеобязательной истины.
Это совершенно отчетливо обнаруживается на практике религиозного знания. Люди, чуждые этой области знания, обычно воображают, что это есть поле безграничных и безнадежных субъективных разногласий – и притом разногласий, не допускающих никакого объективного критерия для их разрешения. В противоположность этому распространенному мнению все, кто ближе знакомы с этой областью жизни опыта – хотя бы далее только извне, через изучение религиозной литературы, т. е. свидетельств и суждений религиозных людей, – всегда поражаются изумительному сходству, согласию в основном суждений людей самых разнообразных эпох и культурных кругов. Людей, обладающих острым самостоятельным религиозным восприятием, называют обычно «мистиками» (в широком, общем смысле этого понятия). И вот мистическая литература всех времен и народов, а также формально разных исповеданий с неопровержимой убедительностью свидетельствует, что суждения здесь в основном необычайно сходны, иногда тождественны вплоть до словесного выражения – и притом там, где взаимозависимость и влияние заранее исключены. Можно привести множество примеров, когда, например, восточные мистики – Лао Цзе, или индусские мудрецы Упанишад, или арабско-персидские суфии – высказывают суждения, почти буквально совпадающие с суждениями Дионисия Ареопагита, Мейстера Эккарта, Катерины Сиенской, Ангела Силезского или испанских мистиков – Святой Терезы или Иоанна от Креста. В религиозных утверждениях философского усмотрения встречается такое же поразительное единогласие, Гегель признает, что подписывает каждое слово древнегреческого мистического философа Гераклита, интуиции Платона и Плотина (которые сами во многих отношениях близки к восточной мистике) образуют некий запас религиозных знаний, которые постоянно заново пробуждаются в умах религиозных мудрецов всех эпох и народов – в средние века, в эпоху ренессанса, в английском платонизме XVII века, у Гёте, Шеллинга и Баадера, вплоть до нашего времени (Бергсон, Рильке); и было бы в высшей степени поверхностно и ложно видеть здесь простое влияние и заимствование. Мы получаем, напротив, явственное впечатление, что мистика и религиозные мудрецы всех веков и народов образуют некое невидимое братство «посвященных» – умов, видящих одну и ту же истину. Конечно, наряду с этой солидарностью здесь есть и многообразия и разногласия, но ведь это встречается и считается естественным и во всяком другом опыте, в реальности которого никто не сомневается. И при ближайшем рассмотрении к тому же оказывается, что разногласие здесь только мнимое и что многообразие легко согласимо и сводится к отношению взаимного дополнения.
Это сходство или тождество поразительно, в сущности, только для того, кто полагает, что здесь дело идет о субъективных измышлениях и фантазиях. Если мы имеем здесь нечто вроде снов, которые снятся разным людям – и притом людям разных веков, разных понятий и жизненных складов, разного воспитания, – то действительно можно удивляться, почему эти сны так сходны между собой. Но если мы имеем дело с подлинным опытом, т. е. восприятием объективной реальности, то сходство или тождество в основных чертах суждений здесь так же естественно и понятно, как сходство показаний свидетелей одного и того же объективного состава. Никто не удивится сходству в простой жизненной мудрости людей разных народов и эпох. Если, например, псалмопевец и Гомер говорят почти в одинаковых словах о краткости и шаткости человеческой жизни, уподобляя ее то быстро увядающей траве, то листьям дерева, сменяющимся каждой весной и осенью, или если у мыслителей всех народов встречается сравнение жизни с кратким сном, струей дыма или тенью – то всем понятно, что тождество впечатления определено здесь тождеством самой реальности. Но такая жизненная мудрость уже сама содержит элемент религиозного опыта. В принципе от этого не отличается тождество или сходство положительного религиозного опыта – и оно имеет характер сходства свидетельств об одном и том же составе реальности. Возможность при этом, с другой стороны, многообразия и расхождения свидетельств отчасти объясняется так же, как обычные противоречия свидетельских показаний в отношении даже самых явственных и простых событий земной реальности – именно тем, что к точному восприятию реальности присоединяется момент субъективных иллюзий, ошибок памяти и т. д. Отчасти же и главным образом здесь дело сводится к тому, что внимание свидетелей направлено на разные части, моменты, стороны общего объективного состава, т. е. что разным людям в этом объективном составе интересно и существенно разное. Это вполне законно, и поэтому истина религиозного опыта, будучи, с одной стороны, одинаковой для всех, с другой стороны, оказывается для каждого в известной мере своей особой истиной, в зависимости от того, что он в ней ищет и чем дорожит. Религиозная истина – как всякая духовная истина вообще – сочетает общность и общеобязательность с индивидуальностью или, точнее, персональностью: ибо она дает каждому то, что нужно именно ему, обращается к каждому той своей стороной, которая удовлетворяет своеобразную сердечную потребность каждого. Откровение Христа выражает это соотношение, в котором единство истины сочетается с ее многообразием и многоликостью, в простых, многознаменательных словах. «В доме Отца Моего обителей много». Многообразие «обителей» не противоречит тому, что это все же – единый «дом», что «Царство Божие» – одно и то же для всех, как и сам Бог есть единый Бог для всех.
Но именно из этой природы религиозного опыта явствует, что обретение веры из личного опыта не только не противоречит ее обретению из обучения, из внимания к показаниям других, но даже этого прямо требует – и вместе с тем делает возможным. Во всех областях знания мы восполняем собственный опыт опытом других людей, и прежде всего опытом людей более сведущих. Мы научаемся непосредственно из видения самой реальности, но мы научаемся и тому, что видели и узнали другие. Ввиду ограниченности и нашей жизни, и наших познавательных сил, и самих возможностей индивидуального опыта – девять десятых или даже 99 сотых мы обретаем из усвоения опыта других людей, которым мы можем доверять. В этом состоит смысл всякого обучения – все равно, в школе, через беседы с людьми или через чтение книг и газет. Какую ничтожную долю наших географических знаний – знаний, достоверность которых для нас бесспорна, – составляет то, что мы сами видали в наших путешествиях. Все остальное – вся наша географическая картина мира – основано на опыте других, которым мы имеем основание доверять. Такова же относительная роль чужого опыта во всех вообще областях знания – не только у профана, но даже у научного специалиста. Знание по существу соборно, его может иметь только человечество как коллективное целое, и каждый отдельный человек есть соучастник этого коллективного знания.
Конечно, мы стараемся, в меру возможности, проверить чужой опыт собственным, мы не всегда и не при всех условиях доверяем чужому мнению. Но именно потому, что возможность проверки собственным личным опытом весьма ограниченна, мы должны – чтобы не верить сразу и слепо всему, что нам говорят или о чем написано в книге и газетах, – иметь еще иной критерий доверия к чужим показаниям. В чем он заключается? Отчасти, конечно, в том, что эти показания согласуются с нашим собственным опытом, укладываются с ним в некую непротиворечивую, понятную, естественную для нас картину мира. Но если бы мы руководились одним этим мерилом или, точнее говоря, брали его только в узком ближайшем его смысле, мы ушли бы недалеко, мы никогда не узнали бы ничего принципиально нового, неожиданного, не встречавшегося в нашем опыте; известен анекдот о жителе тропических стран, который не мог поверить, что есть страны, в которых вода становится твердой, как камень, так что по ней можно ходить и ездить, как по земле. Совершенствование и пополнение знания из обучения необходимо требует и перемены, исправления понятий, обретаемых из личного опыта, а это предполагает необходимость и готовность при известных условиях поверить и тому, что выходит за пределы крута наших привычных знаний и не сразу в него укладывается. Мы вынуждены – и считаем вполне естественным – руководиться и верой-доверием, но доверие при этом совсем не должно быть «слепым». Здесь мы наталкиваемся на неизбежность и законность момента авторитета в деле познания. Сознание авторитетности чужого свидетельства или наставления – т. е. сознания, что мы имеем основание ему довериться, в него поверить, – есть само некоторого рода непосредственно очевидное знание (как это было указано уже в первой главе этого размышления). Это знание слагается из двух моментов: из неразложимого далее, но внутренне убедительного впечатления, субъективной правдивости человека, нас поучающего, и из непосредственного впечатления основательности его утверждений, т. е. из убеждения, что мы имеем здесь дело с подлинным знанием, обретенным из опыта. Оба эти момента косвенной достоверности могут иногда оказаться ошибочными, ввести нас в заблуждение; и здесь нет никаких внешних, как бы механических мерил, которые давали бы возможность заранее и с абсолютной точностью отличить истину от заблуждения. И все же наше доверие здесь отнюдь не слепо. Что касается правдивости человека, сообщающего нам знания, то она устанавливается с достоверностью не меньшей, чем та, с которой мы интуитивно знаем, что наш верный друг не убьет, не ограбит, не предаст нас; это есть та особая достоверность, с которой мы знаем, по крайней мере, в общих чертах, чужую душу: мы имеем для такого рода знания как бы особый орган восприятия – именно психологическое или моральное восприятие. Центр тяжести лежит, однако, здесь в восприятии основательности чужого знания – «компетентности» человека, нас поучающего. Это восприятие носит отчасти также характер неразложимого далее психологического впечатления, отчасти же – и это здесь самое главное – основано на том, что чужие слова, сообщения о чужом опыте, пробуждают в нас самих как бы дремавшие, неосознанные, неактуализованные до того собственные знания; чужое указание вызывает в нашей душе некий отклик, в силу которого мы сознаем: «Да, так оно и есть на самом деле». Другой, более опытный, более сведущий человек помогает нам достигнуть собственного знания, осуществить опыт, который был бы невозможен без его содействия. Как говорил Сократ, учитель есть акушер, помогающий ученику родить плод, в нем уже созревший. В этом своеобразном соотношении внутреннего сродства чужого опыта с нашим собственным потенциальным опытом заключается основание нашего доверия к наставнику – чувство достоверности, с которым мы воспринимаем его сообщения или наставления. Именно в этом состоит существо и положительное значение того, что в первичном смысле есть авторитет: достоверность для нас компетентности наставника, его подлинной посвященности в истину. Знание как личный опыт и знание, обретаемое из учения, – знание-достоверность и знание, опирающееся на доверие к чужому знанию, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга. Последнее помогает первому; первое делает впервые возможным последнее.
Так обстоит дело во всех областях знания; и не иначе оно обстоит и в знании религиозном. В знании религиозном, как и во всяком другом познании, психологически и педагогически первой, как бы зачаточной формой авторитета бывает авторитет внешний – инстанция, принудительно требующая послушания и доверия себе; и в младенческом состоянии человеческая душа подчиняется этому требованию. Но, с другой стороны, в религиозном познании не менее, чем во всяком другом, истинный авторитет есть только авторитет, свободно признанный через усмотрение его компетентности; а это усмотрение, как указано, опирается само на некий личный опыт – на опыт, что истина, извне нам сообщенная, совпадает с истиной, дремавшей в нас самих и пробужденной под этим внешним влиянием. Подлинный авторитет в этом смысле не порабощает нас, не содержит ни малейшего принуждения, он есть такой же итог свободного признания в силу внутренней достоверности, как истина, усмотренная из личного опыта.
Эти два рода авторитета, внешне сходные и обозначаемые одним и тем же словом, но внутренне глубоко различные, надо отчетливо различать друг от друга. Какова бы ни была педагогическая и дисциплинарная ценность и необходимость внешнего принудительного авторитета (об этом придется говорить в другом месте) – нужно недвусмысленно и раз навсегда признать, что в отношении самого существа акта веры как религиозного знания может иметь силу только свободно признанный авторитет, только с достоверностью усмотренная компетентность инстанции, от которой мы получаем знание. Так как религиозная вера (как и всякое знание) по самому своему существу мыслима только как акт свободы, как живая внутренне убедительная встреча души с реальностью, то другой человек – кто бы он ни был – может нам при этом только помогать и советовать, но не может принуждать и предписывать. Дело идет здесь о свободном учении и наставлении, о руководстве в деле усмотрения истины, а не о приказе и слепом повиновении. Мы не можем здесь отказаться от свободы проверки и критики, от свободного сопоставления чужого указания с голосом нашего собственного сознания – ибо в непринужденной, непроизвольной гармонии между тем и другим заключается здесь само существо убедительности, авторитетности для нас чужого наставления. Эта свобода сохраняется и при величайшей личной скромности, при самом остром сознании личной слабости, несовершенства личного опыта и потому готовности учиться у более сведущих и посвященных.
Отсюда следует, что соответствующая слепому послушанию и его определяющая идея непогрешимого религиозного авторитета должна быть здесь принципиально отстранена; она содержит внутреннее противоречие, предполагая отказ от личного суждения, согласие на слепую веру, тогда как вера и зрячесть, вера и внутренняя убежденность есть, по существу, одно и то же. Можно повиноваться чужому приказу действия, и такого рода повиновение, без критики и проверки, есть в известной мере необходимое условие упорядоченной, разумной совместной человеческой жизни, но повиноваться чужому суждению есть contradictio in adjecto. Есть люди духовно слабые и духовно сильные, неопытные и опытные, близорукие и зоркие, люди, едва усвоившие первые зачатки знания, и мастера, достигшие максимального совершенства знания. Но нет ни людей, абсолютно неспособных научиться и лишенных дара суждения, ни людей непогрешимых. Ни папа римский, ни соборы, ни отцы и учителя церкви, ни первохристиане и апостолы не непогрешимы; нельзя считать непогрешимым и боговдохновенным и буквальный текст Священного писания, составленный, как бы то ни было, людьми, в своем существе подобными нам (не говоря уже о том, что дошедший до нас текст Писания есть не оригинал, а копия, обремененная возможными ошибками переписчиков и поправками позднейших редакторов). Идея inspiratio verbalis есть бессмысленное идолопоклонство; она прямо противоречит наставлению самого Писания, что мы должны быть служителями не его буквы, а духа. Каким бы ореолом святости ни было обвеяно для нас религиозное прошлое, историческое начато и исторический источник нашей веры, мы сохраняем сознание, что люди всегда были людьми, что и в героические эпохи высшего расцвета, святости и религиозной умудренности они были обременены греховностью, духовной слабостью, не были чужды заблуждениям. Новый Завет полон указаний не только на грехи интриг, властолюбия, нравственной распущенности, эгоизма уже среди первохристианских общин, на человеческие слабости самих апостолов и непосредственных учеников Христа (эпизод с апостолом Петром в Антиохии, обличаемый апостолом Павлом!), но и на обилие религиозных недоумений и заблуждений, которым они были подвержены. Эти недоумения, шатания, заблуждения имели при этом место не только при жизни Христа, когда смысл Его откровения еще оставался неясным, но и после завершения Его откровения и события «сошествия Св. Духа», которое, очевидно, тоже не даровало апостолам как бы автоматической гарантии непогрешимости религиозных суждений. Не обладает абсолютной непогрешимостью и то, что называется «соборным преданием всей церкви». Конечно, солидарность с утверждением людей, которых мы признаем компетентными знатоками религиозной истины, имеет для нас большой вес, – подобно communis opinio doctorum
в науке; если мы с ними расходимся, то мы сознаем в особой мере вероятность, что наше собственное мнение односторонне или содержит заблуждение. Но усмотрение непогрешимой истинности в том, что выражено в знаменитой формуле «quod semper, quod ubique, quod ad omnibus»,[14 - «Всегда, везде и по отношению ко всем» (лат.).] с одной стороны, невозможно уже по той простой причине, что нельзя найти ни одного догмата, ни одной истины веры, к которым было бы фактически применимо это мерило, и, с другой стороны, даже если бы нечто подобное встречалось, единодушие общего мнения нигде и никогда не есть автоматическая гарантия его истины. История коллективного, церковно-религиозного сознания – совершенно так же, как история всякой мысли и всякого познания, – есть история борьбы между истиной и заблуждением, история подъемов и упадков религиозной мысли, великих озарений и сумерек света. Самой церкви приходилось признавать заблуждениями воззрения, господствовавшие в ней десятилетия, если не целые века (арианские тенденции, иконоборчество и многое другое). В великом деле коллективного искания правды каждый из нас, каждая человеческая душа есть в принципе равноправный участник, каждый из нас имеет больше, чем право – имеет обязанность самостоятельно искать правду; и чужие достижения – достижения умов и духов даже неизмеримо более сильных, богатых и умудренных, чем мы сами, – ценны для нас, должны быть предметом чуткого благоговейного внимания именно потому – и только потому, – что они помогают нам в нашем собственном искании правды. Если мы не можем обойтись без них, обойтись нашим слабым, одиночным опытом, если неразумно и дерзновенно предаваться гордыне удовлетворенности своими личными достижениями значит предаваться самодовольству, граничащему с верой в собственную непогрешимость, – то и самоуничижение, некое духовное пораженчество, отказ от воли искать правду – а это значит: самому искать ее – есть великий грех, великая неправда, неисполнение основного завета Христа: «Ищите и дастся вам». Всегда остается в принципе возможным положение, когда мы обязаны повторить слова Сократа, исполненные сознания личной ответственности: «даже если все согласятся, я один не соглашусь».
Так религиозный авторитет есть не более – но и не менее! – чем необходимый составной элемент религиозного опыта – момент, в силу которого чужой опыт внутренне усваивается нами, входит как бы в неразложимое химическое соединение с нашим собственным опытом – и в конечном итоге становится сам нашим личным опытом. Религиозный авторитет не есть принципиально иной источник веры, чем религиозный опыт; таковым он представляется только в порядке психологическом и педагогическом; в порядке существа дела он есть не что иное, как косвенный, обходный путь для расширения, обогащения, углубления, уточнения нашего собственного религиозного опыта.
Этим мы подведены к уяснению истинного смысла понятия откровения. Мы видели в начале нашего размышления, что по своему первичному, основоположному существу откровение есть непосредственное явление Божией правды, реальности Бога нашему духу. В этом смысле откровение просто совпадает с религиозным опытом; этот опыт носит характер некой «встречи» с Богом. Истина, обретаемая в религиозном опыте, испытывается нами так, что при этом нашей души касается, в нее проникает некая высшая, объективная реальность, с которой мы вступаем в общение в глубинах нашего духа. Еще иначе говоря, то, что мы при этом переживаем, мы можем на нашем человеческом языке выразить так, что нашего внутреннего слуха достигает при этом голос Божий. Словом, подлинное существо откровения есть всегда теофания, богоявление.
В том, что идея Царства Божия в указанном смысле есть средоточие и основа всего откровения Христова, что даже вера в существование личного Бога – Бога как любящего Отца – имеет живой смысл и существенное значение только как обоснование реальности «Царства Божия» или, в другом оттенке той же связи, – только как источник божественной силы любви к людям, просветляющей и преображающей наше земное бытие, я вижу ясное свидетельство, что, по Христову откровению, подлинное существо веры состоит не в утверждении, как таковом, «существования личного Бога», а в живом ощущении Бога как средоточия и первоисточника некой выходящей за его пределы, несказанной сферы божественного, просветленного высшими силами бытия.
Иное выражение того же самого дано в понятии «благодати» как дара Святого Духа, как божественной силы и инстанции, проникающей в сердце человека, владеющей им, как инстанции, через которую мы знаем, что Бог пребывает в нас, и мы – в Нем. Наконец, еще иное выражение того же самого соотношения содержится в словах апостола, что так как «Бог есть любовь», то не имеющий любви к ближнему совсем не знает Бога, не верит в Него. Во всех этих оборотах мысли символически раскрывается одно основоположное отношение: Бог не есть некая замкнутая инстанция бытия, Он есть некое солнце, самое существо которого состоит в том, что оно излучает из себя свет и тепло, и потому с самого начала может мыслиться только как центр некой окружающей его, выходящей за его пределы, но все же сопринадлежащей к нему светлой и животворной сферы бытия. Конечно, в плане богословской мысли, т. е. в плане логического отношения между основанием и следствием, эта сфера «небесного бытия» производна от бытия самого Бога, и вера в нее – от веры в Бога. Но надо иметь духовную независимость и прозорливость признать, что в живом религиозном опыте, в самом духовном акте веры имеет силу в каком-то смысле обратное соотношение. Подобно тому как различие между днем и ночью практически в нашем живом ощущении окружающего нас мира состоит совсем не в том, что днем мы видим солнце на небе, а ночью его не видим (мы, в сущности, даже не можем как следует, отчетливо видеть солнце, по крайней мере во всем блеске его света), а просто в различии между светом и тьмой, между пребыванием в среде, в которой все очертания предметов ясно видимы, и пребыванием в некой темной бездне, в которой мы беспомощно бродим, как слепые, – так и основное, решающее различие между верующим и неверующим состоит не в том, «признает» ли человек существование Бога или нет, а в том, имеет ли его душа прикосновение к сокровищу «Царства Божия», к дарам святого Духа, проникает ли в его душу свет, озарена и согрета ли она этим светом божественной любви. Ощущение света и тепла, пребывание в животворящих лучах солнца практически, жизненно важнее, существеннее видения самого солнца. Ибо в порядке жизненно-психологическом только по теплу и свету мы узнаем о существовании самого солнца, только через них мы имеем живую полноту отношения к самому солнцу, а никак не наоборот. Более того, только купаясь в лучах солнца, только видя свет, разлитый по всему миру и его озаряющий, чувствуя тепло, согревающее весь мир, мы подлинно познаем само существо солнца как всеобъемлющего и всепроникающего источника света и тепла, напротив, всецело сосредоточивая взор на самом солнце, стараясь прямо глядеть на него, видеть его одно, мы скорее легко можем ослепнуть и, во всяком случае, легко можем утратить сознание всей безмерной его силы и полноты, его подлинного существа и его значения для нас. Или другой пример: подобно тому как существо отношения ребенка к матери и отцу, живое ощущение их реальности и их значения для него состоит совсем не в ясном, трезвом, интеллектуально выразимом убеждении в их существовании как «личностей», а просто в несказанном ощущении их реальности как некого источника тепла, ласки, обеспеченности, уюта – так и вера в своем первичном существе есть не мысль, не убеждение в существовании трансцендентного личного Бога, как такового, а некоторое внутреннее состояние духа, живая полнота сердца, подобная свободной радостной игре сил в душе ребенка, и это состояние духа определено чувством нашей неразрывной связи с родственной нам божественной стихией бесконечной любви, с неисчерпаемой сокровищницей добра, покоя, блаженства, святости, и только сквозь эту стихию и в неразрывной связи с нею мы прозреваем, чувствуем ее глубочайший первоисточник – живого Бога. Где это не так, где наше сознание как бы противоестественно сосредоточено на одном только Боге, т. е. ощущает Его изолированно от излучаемой Им сферы света и тепла, как некую замкнутую в себе, отделенную от всего иного инстанцию бытия, – там легко наступает какая-то искусственная замкнутость и суженность сознания. Нечто подобное встречается иногда в обычном типе того, что называется «благочестием» или «набожностью». С этим часто связано суровое, морализирующее порицание и осуждение «неверующих» и – что еще хуже – равнодушие к судьбе ближних и мира, безлюбовность, этот строй сознания имеет иногда даже налет некоего скорбного уныния, пониженности и заглушенности темы духовной жизни, – не только скудости сердечного отклика, но и ограниченности умственного горизонта. Все это прямо противоположно тому настроению свободной радости, блаженства, тому дару всеобъемлющей и всепрощающей любви, которое несет истинное откровение Христа – откровение «Царства Божия». Все это противоречит открытым Христом условиям – как обыкновенно говорится, «заповедям» – блаженства, противоречит его наставлению «радуйтесь и веселитесь!», «будьте, как дети!». Этот обычный тип благочестия, определенный сосредоточенностью сознания на отрешенном, трансцендентном бытии Бога, содержит в конечном счете искажение истинной идеи Бога. Он совершенно чужд Христу; именно его Христос отвергает, как «праведность книжников и фарисеев».
В этом смысле мы вправе без самомнения сказать, что понятие веры как живого касания всеобъемлющей и всепронизывающей полноты благодатного бытия – понятие веры, выходящее за пределы признания трансцендентного, обособленного бытия Бога как личности, или понятие веры в Бога не только как в личное существо, но одновременно и как в божественную родину души, в благодатную стихию, в которую погружена наша душа и которой она питается, – что это понятие веры есть более адекватное сознание мыслью того, что образует само существо христианской веры и более или менее всегда преподносилось и преподносится христианской душе. Это сознание Бога как средоточия и первоисточника некой всеобъемлющей и всепроникающей стихии, священного, благодатного бытия равнозначно признанию Бога чем-то иным и большим, чем отрешенной, замкнутой в себе, вне и выше мира пребывающей личности. Поскольку несказанный смысл религиозной веры можно вообще выразить в отвлеченных философских понятиях, следует признать, что существо христианской веры – или, что то же – истинное, адекватное существо религиозной веры есть не отвлеченный теизм, а конкретный панентеизм.
Я перехожу теперь к обратной стороне дела. Как бы то ни было – даже сполна учитывая внесенную мною поправку к обычному, общепринятому представлению о Боге, – остается, конечно, все же совершенно бесспорным, что в состав религиозной веры входит внутреннее личное общение с Богом или – что то же – общение с существом, воспринимаемым как личность или наподобие личности. Я должен теперь ответить на вопрос: как совместимо такое содержание веры с существом веры как непосредственного религиозного опыта?
Ответ на этот вопрос всецело зависит от уяснения другого вопроса: как, собственно, мы познаем ту религиозную реальность, которую мы имеем в виду, говоря о личном Боге? Дело в том, что недоумение проистекает здесь из допущения, что существование личности – по крайней мере, если эта личность нам невидима, удалена от нас – не может быть дана в опыте, и что поэтому признание ее существования может иметь только форму мысленного утверждения некоего трансцендентного предмета. Выше я уже указывал на то, как неадекватно существу религиозной веры ее общепринятое выражение в суждении: «Бог (где-то) существует». Теперь я должен уяснить то же самое подробнее и с другой стороны.
Поскольку под опытом разуметь простое, как бы бесстрастное констатирование объективного факта – чего-то встречающегося в поле нашего зрения, существование Бога, а тем более личного Бога, не может быть предметом опыта. Но опыт есть понятие широкое, допускающее различные виды, и мы не должны исходить из какого-нибудь предвзятого его понятия. Религиозный опыт есть особый вид опыта, существо которого точнее всего можно определить как опыт общения. Он имеет глубокую аналогию с опытом общения между людьми. Как происходит общение между людьми? Легко можно вообразить, что дело происходит здесь так: «встречая» человека, т. е. констатируя его присутствие, его реальное существование вблизи нас перед нашим взором, мы можем потом «войти в общение» с ним, например обменяться с ним словами или даже только взглядами. Но это обычное представление совершенно ложно. Мы не можем вообще «объективно констатировать» присутствие того, что есть для нас живой человек, личность, на тот же лад, как мы констатируем, например, видим присутствие неодушевленного предмета – уже по той простой причине, что нельзя «увидать» чужую «душу», чужое «сознание». Выше я упоминал об общении как одном из видов сверхчувственного опыта. Но как возможен именно этот вид сверхчувственного опыта и в чем он заключается? «Чужая душа» не «дана» нашему духовному взору на манер какого-нибудь мертвого, пассивного предмета, который просто «стоял бы» перед нами и который мы могли бы осмотреть, увидать, констатировать. Чужая душа открывается нам только так, что сама «говорит» нам – если не словами, то взорами. Опыт есть здесь «встреча» – двух пар глаз, взаимно устремленных друг на друга, и – через посредство глаз – встреча двух душ. Это значит: общению не предшествует какое-либо «констатирование», объективное усмотрение, напротив, само общение – и только оно одно – и есть опытное познание. Или, другими словами: общению не предшествует суждение, мысль: «он (другой человек) существует»; оно сразу, совершенно непосредственно осуществляется в форме нашего взаимного соприкосновения, двусторонней встречи с реальностью, которую язык обозначает местоимением второго лица «ты». Лишь позднее и производным образом это «ты» превращается в «он»; только вспоминая о встрече, отдавая себе умственный отчет в ней, мы можем высказать суждение: «Он существует». Не нужно здесь поддаваться влиянию ходячих понятий, по которым мы можем видать и встречать человека задолго до того, как мы «познакомились» с ним, были ему «представлены», вступили в «отношение» к нему; общение может иметь различные стадии, и обычно оно внезапно, толчками, меняет свой характер, углубляется, становится более близким и интимным; но в принципе всякая встреча с человеком, с того момента как он «кинул на нас», хотя бы мельком, взор, и мы – на него, уже есть общение, и вне этого общения нет вообще опытного восприятия человека.
И вот религиозный опыт, в качестве познания личного Бога, есть такая живая встреча с Богом, непосредственное общение с Ним. Бог не есть некий массивный предмет, который мы могли бы «констатировать». Мы узнаем о бытии Бога, потому что в глубине нашей души «слышим его голос», испытываем то несказанное, что мы называем общением с Богом. При этом общении с Богом дело обстоит так, что вся активность – или, по крайней мере, вся инициатива активности – исходит от Него самого; не Он есть объект нашего познания, а мы сами – объект Его действия на нас. Конечно, и мы активно обращаемся к Нему, мы молимся Ему, мы выражаем Ему искание и томление нашей души или нашу благодарную радость; но все это уже предполагает наше знание Его бытия, Его присутствия; а это знание есть не итог нашего любопытства, наших познавательных усилий, а некий дар с Его стороны испытывается, как исходящее от Него самого, Его «явление», Его самооткровение нашей душе, Его призыв к нам. Мы видим, насколько ложно обычное, ходячее описание существа веры. Согласно ему, дело должно происходить примерно так: мы сначала как-то «узнаем о существовании Бога» – очевидно, с чужих слов, потому что сами мы не в состоянии непосредственно в этом удостовериться (но тогда, очевидно, встает вопрос: откуда знает об этом другой и как можем мы быть уверены, что он действительно это знает?); узнав это, мы получаем возможность обращения к Богу и общения с Ним – в благоговении перед Ним, в молитве Ему. Но это есть совершенное искажение подлинного состава веры. Все равно, сказал ли нам кто-нибудь раньше о существовании Бога или нет (по общему правилу, конечно, бывает первое – мы слышим о Боге с чужих слов, еще не зная Его сами), то, что мы вправе назвать верой, впервые начинается именно в момент нашего личного общения с Богом и состоит в этом общении; мы испытываем реальность Бога в момент, когда Он касается нашей души и когда в ответ на это касание в нашей душе загорается обращенное к Нему чувство. Именно в этом смысле вера в личного Бога есть само существо религиозного опыта. И, напротив, ученейший богослов, во всех тонкостях знающий все, что когда-либо было сказано о Боге, остается неверующим, поскольку его души не коснулся сам Бог, и он не ощутил живого общения с Ним.
Теперь мы еще яснее в новом свете видим, насколько неадекватно существу веры ее выражение в суждении «Бог существует». Это суждение совершенно неуместно и не может даже прийти в голову в процессе самого живого общения с Богом, т. е. в состоянии подлинной веры. Встречаясь с любимым человеком, мы не формулируем суждение: «Он существует»; в крайнем случае – именно, если мы до встречи опасались, не умер ли он, – мы восклицаем: «Ты жив!» Говорить в присутствии человека о нем же, что он существует, значит выразить ему величайшую степень неуважения; только об отсутствующем можно вообще говорить в третьем лице. В отношении же Бога было справедливо замечено, что формула «Бог существует» есть, строго говоря, свидетельство неверия; ибо если бы мы действительно сознавали реальность Бога в Его вездесущии, т. е. Его присутствие здесь, сейчас, в непосредственном соседстве с нами, если бы мы действительно ощущали Его взор, вечно на нас обращенный, Его голос, нам говорящий, как могли бы мы дерзнуть говорить о Нем как об отсутствующем? Стоя перед лицом Божиим, можно только говорить с Богом, а не рассуждать о Боге; можно только испытывать Его реальность, только быть исполненным радостным чувством, выразимым в восклицании: «Ты ecu!», но не «утверждать» существование Бога. И единственно истинный религиозный язык есть язык молитвы, обращенной к самому Богу. Бог живой веры есть всегда мой Бог, «Бог-со-мной» – существо, выразимое только в звательном падеже, а не в именительном – «Ты, Боже», а не «Он», не существо, бытие которого мы «признаем», «утверждаем». Но это значит, что исповедание реальности личного Бога не есть мысль о существовании некоего трансцендентного предмета, не есть утверждение некоего «объективного» бытия, сущего в себе, независимо от нас, а есть именно исповедание нашей живой встречи и связи с Ним, нашей обращенности к Нему и Его вечной обращенности к нам.
Проникая в это отношение еще глубже, мы с другой стороны приходим к сознанию, которое я пытался уже разъяснить выше. Бог, будучи существом вечным, всеобъемлющим и вездесущим, от связи с которым я сам неотделим, есть нечто иное и большее, чем то, что мы обычно разумеем под личностью. Он не только есть такая несравненная, единственная личность, которая всегда и всюду находится с нами, в непосредственной близости от нас; Он не только есть, говоря словами немецкого поэта Рильке, «мой вечный сосед». Он есть такое «ты», которое не только находится рядом со мной или передо мной и взор которого вечно обращен на меня; Он еще есть такое «ты», которое вместе с тем есть основа, почва и глубочайший корень моего «я»; и хотя я, с одной стороны, сознаю двойственность и противостояние между мною самим и этим вечным «ты», я в то же время сознаю мое единство, мою слитность с Ним. Эта слитность так интимна, что я не знаю, не вижу отчетливо, где кончается последняя глубина меня самого и где начинается то, что я называю Богом: ибо встреча есть здесь вместе с тем нераздельная связь. Я, правда, могу терять Бога – и как часто это бывает! – и потом снова находить Его; но я имею тогда сознание, что эта потеря была странным недоразумением, в котором повинна только моя собственная небрежность. Как говорит тот же блаженный Августин: «Ты всегда был со мною – только я сам не всегда был у себя»; или – еще короче: «Viderim me – viderim Те» («если бы я видел себя – я видел бы Тебя»).
Это абсолютно единственное отношение, по которому Бог, будучи вне нас, вместе с тем есть и в нас, и, будучи для нас другой личностью, с которой мы встречаемся, – будучи для нас «ты», – одновременно есть основа и корень самого бытия и существа моего «я» – это отношение и есть существо бытия и существа моего – это отношение и есть существо веры как религиозного опыта. Так как мой религиозный опыт есть опыт личного общения, то Бог необходимо есть для меня личность или нечто сходное с личностью, нечто или, вернее, некто, кому я даю имена Отца, Возлюбленного, Друга. Но я одновременно сознаю, что все эти имена не сполна и не точно выражают Его невыразимое существо. Христос, открывая нам, что Бог есть наш «Отец небесный», имел при этом, очевидно, в виду то древнее, утраченное уже нами теперь и рожденное из родового быта понятие отца, по которому отец есть не только любящее, питающее, охраняющее нас существо, но и воплощение нераздельного, коллективного, кровного единства рода или семьи, в составе которого только и возможна моя жизнь – воплощение родного дома, чего-то подобного тому, что мы теперь сознаем в понятии родины, так что уход «блудного сына» от отца есть уход на чужбину, на нужду и скитание. Отец есть здесь существо, кровь которого течет в моих жилах и в единстве с которым состоит сама моя жизнь; отец есть существо, которое живет во мне и которым я живу. И как общение с Богом есть нечто большее, чем общение со всякой другой личностью, именно нераздельное – хотя и неслиянное – единство, так и сам Бог есть нечто еще большее, еще более значительное, чем любящая и любимая личность. По слову апостола, Бог есть любовь; и так же Бог в лице Христа говорит, что Он есть «истина, путь и жизнь»; будучи личностью, Он одновременно есть всеобъемлющее, всепроникающее, животворящее сверхличное начало.
Мы можем выразить это соотношение еще и так. Несказанное и несравненное существо Бога мы воспринимаем как личность, сознавая вместе с тем, что это есть только аналогия, помогающая нам как-то понять Непостижимое или, скорее, почувствовать в Боге то, что нам нужнее и важнее всего. Как мы уже видели, вера в Бога есть сознание, что я сам, моя личность, не есть неведомо откуда и как брошенная в мир реальность, чуждая всему остальному бытию и потому беззащитная и гибнущая в нем, – что, напротив, я сам как личность родился, произошел из неких родственных мне последних глубин бытия, в которых я поэтому имею вечный, безусловный приют и сохранность. Эти несказанные глубины я тем самым воспринимаю как нечто подобное мне – подобное тому, что образует самое существо моего сердца, моей души и что так одиноко и бесприютно в холодном, равнодушном мире, полном слепых, безумных, разрушительных сил. Я знаю, что самые последние глубины бытия таят в себе Реальность, которая близка мне, которую я понимаю и которая понимает меня там, где весь мир меня не понимает, и к которой я могу питать любовь и доверие, как к близкому другу, как отцу или матери. Если Фейербах в известных словах «человек творит Бога по своему образу и подобию» думал дать классическую формулу неверия, то только потому, что слово «творить» здесь должно было значить «выдумывать», «сочинять нечто несуществующее» – т. е. только потому, что для самого Фейербаха, как материалиста, форма бытия мира или материальных вещей и сил казалась единственной подлинной «невыдуманной» реальностью. Стоит только заменить слово «творить» (определенное этой предвзятой и ложной теорией) словом «воспринимать», чтобы это суждение стало точной формулой существа веры. Человек «воспринимает» Бога «по своему образу и подобию» и иначе не может Его воспринимать. Это значит, в Боге он усматривает нечто родное и родственное себе. Это сознание с полной достоверностью дано в религиозном опыте и составляет само его существо. Заблуждение состояло бы только в мысли, что этим сознанием исчерпано, адекватно выражено неисчерпаемое и несказанное существо Божества.
Известны вдохновенные слова, в которых Паскаль записал итог мистического опыта, встречи с Богом: «Радость, радость, радость! Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог философов!» Если под «Богом философов» разуметь некое пантеистическое «Абсолютное», как у Гегеля, – или, что, вероятно, имел в виду Паскаль – Аристотелево или Декартово понятие Бога – «мысль, мыслящую саму себя», «первого двигателя» и «чистую субстанцию», – то Паскаль безусловно прав. Религиозный опыт есть опыт встречи и общения с живым Богом, его содержание поэтому существенно отличается от содержания и «понятия» Бога как философской «гипотезы», необходимой для объяснения мира, или вообще как отвлеченной философской идеи. Именно это отличие я пытался выше выразить в словах, что Бог есть для нас всегда «Ты», а не «Он» (и тем более не «Оно») и что Его реальность выразима скорее в восклицании, в молитве, чем в умственном констатировании и суждении. Но я думаю, что обратная сторона мысли Паскаля – безоговорочное отождествление Бога мистического опыта с «Богом Авраама, Исаака и Иакова» – тоже не вполне точна, носит отпечаток некоего полемического преувеличения. Ибо этот Бог древних еврейских патриархов – при всем величии и всей правде его идеи – есть все же только первый проблеск религиозной правды в сознании первобытных пастухов. Этот Бог был суровым самодержцем, требовавшим рабского подчинения и слепого доверия себе, даже в искушающем приказе Аврааму принести Ему жертву, заколов собственного сына. Он, конечно, далеко не во всем тождествен Богу Иисуса Христа – любящему Отцу, который ищет не рабов, а друзей, поклонников «в духе и истине», – Богу, который пребывает в нас и дал нам от Духа своего, – Богу, который сам «есть любовь». Будучи живым личным Богом, Бог мистического опыта – Бог, при всей его трансцендентности имманентно живущий в глубине человеческого духа, – есть вместе с тем нечто, ни с чем иным не сравнимое – Свет, Жизнь, Истина. Паскаль сам косвенно признает это, записав в отчете о своем мистическом опыте также таинственное слово «огонь!».
5. РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ И ДОГМАТЫ ВЕРЫ
Итак, вера в личного Бога, как и ее христианское выражение – вера в Бога как «Отца небесного», есть не какое-либо теоретическое суждение или допущение о недоступной нам реальности, а итог и как бы кристаллизация живого религиозного опыта – именно опыта как религиозного общения. Как мы видели, здесь нужно остерегаться рационализации этой веры. Эту истину нужно брать не как точное, адекватное выражение собственного существа Бога – существа, которое мы, напротив, воспринимаем как непостижимую и несказанную тайну и которое и должно оставаться для нас таковой. Эта истина есть для нас лишь символ – т. е. знание, выражающее прозреваемое нами существо Бога в такой форме, что это существо одновременно остается для нас непостижимым; мы сознаем существо Бога только через посредство чего-то вроде нашего «впечатления» от Него – нашего отношения к Нему и испытываемого нами Его отношения к нам.
Такой же смысл имеют и все те истины веры, которые принято называть «догматами». Вера в личного Бога как «Отца небесного» и есть не что иное, как основной «догмат» христианской веры. Христос – существо, имевшее (как мы это с некоей очевидностью сознаем) наиболее адекватное знание о Боге и его отношении к миру и человеку, никогда не выражает это знание в точных, как бы «научных понятиях»: он выражает его в «притчах», т. е. образах и сравнениях, в намеках, дающих как-то почувствовать, внутренне испытать содержание этой несказанной тайны. Так, Он прямо говорит о «тайнах Царствия Божия» – той сферы бытия, которая, как мы видели, стоит в теснейшей, неразрывной связи с реальностью Бога, как бы сопринадлежит к ней. Эти тайны можно либо прямо знать – знать неким несказанным, невыразимым знанием (так, по словам Христа Его ученикам: «Вам дано знать тайны Царствия небесного (Мф 13:11; Мк 4:11; Лк 8:10); а кому это не дано знать, тому можно только намекнуть об этом «в притчах»[10 - Соответствующие места Евангелия, очевидно, можно понять только в указанном мною смысле. Буквальный текст их, из которого как будто следует, что Христос умышленно скрывал эти тайны от непосвященных, чтобы они не поняли и не спаслись, очевидно, содержит какое-то искажение.]).
То же самое применимо вообще ко всему остальному содержанию того, что называется «вероучением» или «догматами веры». Я оставляю пока в стороне то, что в составе вероучения принимается верующим за истину на основании доверия к религиозному авторитету или на основании веры в «откровение» в обычном смысле этого понятия; об этом я буду говорить ниже. Здесь я рассматриваю лишь то содержание вероучения, которое непосредственно открывается в личном религиозном опыте. Как я пытался выше показать, религиозный опыт не есть просто ощущение какого-то непосредственного, бесформенного мистического «нечто»; он имеет, напротив, некое положительное содержание; в нем узнается нечто вполне определенное, хотя точно и не выразимое в понятиях. Если религиозный опыт, в качестве опыта внутреннего общения души со Святыней, дает нам испытать реальность Бога как личного существа, то с этим связано или может быть связано и многообразное иное содержание. Так, например, уже пришлось говорить, что опыт реальности Бога есть тем самым опыт нашей неразрывной связи с Ним, нашего богоподобия и нашей вечности. Другая, еще более как бы бросающаяся в глаза и потому более известная сторона того же опыта есть опыт нашей «тварности», т. е. отсутствия в нашем бытии какого-либо собственного, нам самим принадлежащего фундамента, безусловной зависимости от Бога не только всего содержания нашей жизни, но и самого факта нашего бытия. Религиозный опыт содержит, далее, опыт нашей свободы как основоположного существа нашей личности, во всей загадочности этого начала бытия, которое мы испытываем как нашу «свободу». Данный в том же опыте непонятный факт, что мы можем терять Бога, несмотря на Его вечную близость нам, дает нам сознание некоей нашей внутренней слепоты; этот опыт слепоты связан с опытом действия на нашу душу темных, хаотических сил, влекущих нас на путь, который мы сознаем гибельным; это есть опыт греха – некоего непостижимого зарождения зла в нашей душе; и этот опыт легко заостряется в опыт нашей плененности злом, нашего бессилия преодолеть его. С другой стороны, опыт общения с Богом дает нам узнать величие и блаженство любви – не только любви Бога к нам и нашей любви к Богу, но тем самым любви ко всякой человеческой душе и даже ко всякому творению. Этот опыт любви дает нам парадоксальное, противоречащее всему нашему земному опыту сознание всепобеждающей силы любви, ее торжества в некоем внутреннем плане бытия над столь, казалось бы, непобедимо могущественными силами зла в мире. Опыт реальности Бога-Отца дает нам опыт вселенского братства людей как детей Божиих, несмотря на все – в земном плане неодолимые – силы раздора, ненависти и отчужденности между людьми.
Нет надобности продолжать перечень многообразного содержания религиозного опыта, пытаться дать полный инвентарь того богатства духовного знания, которое мы в нем обретаем. Здесь мне существенно только напомнить, что это содержание действительно многообразно и обладает расчлененностью, и притом, что оно касается не только самой реальности, которую мы называем Богом, но и существа нашего собственного бытия и тем самым всяческого бытия вообще.
На первый взгляд кажется даже неуместным, неподходящим называть такого рода знания «догматами веры» – настолько их характер не похож на то, что мы обычно разумеем под этим словом. Когда мы говорим о догматах веры, нашему сознанию невольно преподносится мысль о каких-то даже словесно точно фиксированных формулах, установленных церковным авторитетом и освященных преданием. Подлинный смысл этих формул обычно недоступен нашему личному разумению (многие ли христиане в силах понять, например, смысл догмата о троичности Божества?), тем более недоступна нам проверка их истинности. Вера в догматы в обычном смысле этого понятия неизбежно представляется некой «слепой» верой, определенной преклонением перед непогрешимым церковным авторитетом. Человеку, склонному к свободной, независимой мысли и неспособному на слово верить чужому мнению, хотя бы оно пользовалось всеобщим признанием и претендовало на значение священной неприкосновенной истины, догматическое содержание веры кажется поэтому либо просто набором бессмысленных предрассудков, либо, по меньшей мере, каким-то совершенно произвольным мнением, не допускающим проверки. Оно ощущается как ненужный балласт, только обременяющий и интимно-личную внутреннюю духовную жизнь, и здравое, разумное суждение о существе человеческой жизни и мира. А если при этом еще вспомнить, сколько жестокостей, ненависти и зла породили догматические раздоры, сколько человеческой крови было из-за них пролито, в какой мере под их действием история церкви уклонилась от основного завета христианской веры – завета любви, то легко понять, почему отношение независимого религиозного духа к «догматам веры» становится резко отрицательным; в них не видят ничего, кроме гибельных и позорных для человека заблуждений и суеверий.
Повторяю: я оставляю сейчас в стороне веру в догматы, поскольку она определена верой в церковный авторитет или в «откровение». Надо заранее признать, что обычная критика таких догматов, о которой я сейчас говорил, в значительной мере совершенно справедлива, хотя, как увидим дальше, все же одностороння и не учитывает обратной, положительной стороны дела. Здесь мне существенно только подчеркнуть, что это обычное понимание, разделяемое и сторонниками, и противниками догматического вероучения церкви, смешивает некую (весьма распространенную и выдвинувшуюся на первый план) производную и неадекватную форму догматического сознания, догматического содержания веры, с его первичным, подлинным существом. В сознании современного, образованного человека, выросшего в духовной атмосфере последних веков, т. е. под влиянием критики церкви и ее учения, слово «догмат» стало прямо означать какую-то неподвижную, застывшую, омертвевшую мысль, как бы оторвавшуюся от своего живого корня, от свободного умственного усилия познания и понимания; а слово «догматический» стало синонимом слепого, скованного, неподвижного склада ума. Сколько бы верного ни заключалось в таком представлении и словоупотреблении, полезно все же вспомнить, что по своему первоначальному смыслу греческое слово «догмат» означает просто нечто вроде «учения» или «утверждения»; греки говорили о «догматах» философов, понимая под этим их учения или мнения. Всякий человек, который во что-то верит, что-то утверждает, в чем-то убежден, имеет в этом смысле «догматы»; вера, мысль, познание должны ведь не быть чем-то расплывчатым, неопределенным, бессодержательным, а иметь определенное содержание. Ограничиваясь здесь областью веры, религиозной мысли, религиозного познания, мы должны сказать: всякая вера есть вера во что-то, всякая религиозная мысль должна содержать некое совершенно определенное утверждение. Это содержание веры и религиозной мысли и есть «догмат» в первичном смысле этого слова. Вера без догматов веры есть в этом смысле нечто столь же невозможное, как суждение, которое не высказывало бы чего-либо определенного. Фактически поэтому всякая критика господствующих церковных догматов есть замена их какими-нибудь другими догматами. Что Бог един, есть такой же догмат, как и что Бог троичен в своем единстве; даже убеждение, что Бог непознаваем и непостижим, есть догмат, выражающий совершенно определенное представление о своеобразном существе Бога. В XVIII веке пользовалась огромным влиянием резкая критика церковного вероучения в книге Arnold’a «Kirchen– und Ketzergeschichte»; основная мысль этой книги состояла в том, что люди, гонимые в качестве еретиков, выражали в своей борьбе против церковного вероучения настоящую правду христианской веры; но ведь ясно, что еретики противопоставляли догматам церкви другие догматы. Всякий человек, будь он в религиозном смысле верующий или неверующий, руководится в своей жизни какими-то общими идеями, мыслями и о подлинной природе вещей, и о том, что есть добро и зло, что хорошо и дурно, такие мысли теперь называются «убеждениями» или «принципами». Человек «беспринципный», человек «без убеждений» есть человек, лишенный либо мысли, либо совести – либо того и другого. Но «убеждения» и «принципы» есть лишь другое название для того, что в первичном смысле слова есть «догмат». Вера в достоинство человека, в неприкосновенность человеческой личности, в равенство всех людей есть, по существу, не в меньшей мере вера в догматы, чем вера в первородный грех или в бытие Бога; столь распространенная среди современных людей вера в «прогресс» по общему своему характеру находится на одной плоскости с противоположным ей по содержанию церковно-христианским убеждением, что «весь мир лежит во зле» и что в пределах мира спасение и радикальное исцеление человека от бедствий чисто мирским способом невозможно, то и другое суть лишь разные догматические решения одного и того же вопроса. В этом общем смысле слова «догмат» отрицание догматов вообще невозможно (разве только в смысле утверждения универсального скептицизма, что, однако, в свою очередь, есть тоже некий «догмат»), можно говорить только о замене ложных догматов истинными или произвольных – обоснованными. И при этом, конечно, нетрудно обнаружить, что господствующие «догматы» просвещенных людей, отвергающих церковное вероучение, обычно – как это бывает со всеми ходячими мыслями – тоже произвольны, не проверены, опираются на слепую веру в непогрешимость влиятельных мнений – либо модных, соответствующих «духу времени», либо освященных вековой традицией – и тоже носят часто характер застывших словесных формул, совершенно неадекватных свободному, непредвзятому восприятию конкретной жизни в ее живой правде. Так, чтобы привести только один пример – вера в «прогресс», в беспрерывное, предопределенное умственное, нравственное и материальное совершенствование человеческой жизни стоит в вопиющем противоречии с самыми бесспорными данными исторической науки, знающей многократные эпохи регресса, крушения высокоразвитых цивилизаций и впадения в варварство. Вера в слова и отвлеченные понятия вместо веры в истины, свободно обретаемые из живого опыта, совсем не есть исключительная особенность церковно-верующих людей, а скорее присуща неразмышляющим, несамостоятельным, подражательным умам и потому характерна вообще для того, что называется «общественным мнением». Связанный с этим слепой, несправедливый и жестокий фанатизм есть черта, свойственная атеистам не в меньшей мере, чем «церковникам», исторический опыт, в особенности последнего времени, достаточно ясно об этом свидетельствует. И этот опыт показывает, что по крайней мере некоторые из таких господствующих и почитаемых догматов передовых людей часто ложны и гибельны для жизни в гораздо большей мере, чем когда-либо были какие-либо церковные догматы.
Ясно, что вопрос о смысле, существе и правомерности «догматов» должен быть перенесен из плоскости, в которой он обычно обсуждается, в совершенно иную плоскость. Если всякий догмат вообще имеет тенденцию вырождаться в застывшую словесную формулу, в неподвижную и непродуманную мысль, утверждаемую не через свободное непосредственное усмотрение ее истинности, а в силу следования общественному мнению или преклонения перед традицией и авторитетом, то надо отчетливо различать истинное внутреннее существо догмата от той внешней его формы, в которую он часто облекается. Этим дано оправдание только что намеченного мною понятия догмата. Попытаемся теперь точнее уяснить это понятие.
Прежде всего следует – вопреки распространенному мнению – подчеркнуть, что религиозный догмат не есть нечто вроде метафизической гипотезы, т. е. допущения или утверждения о содержании скрытых, недоступных нам глубин бытия, он не есть утверждение, с помощью которого мы «объяснили» бы видимый состав мира через ссылку на его невидимые основания. По своему первоначальному, неискаженному существу догмат есть, напротив, простое описание состава, имманентно данного нам в религиозном опыте, – умственный отчет в том, что мы воспринимаем. Догмат есть по существу нечто вроде констатирования факта (или обобщения фактов), а никак не гипотетическое их объяснение, которое всегда было бы произвольным из его предполагаемых причин или оснований. Только факты, с которыми мы имеем здесь дело, суть именно факты общего порядка, т. е. означают общий состав, общую структуру бытия. Догматы соответствуют – в области религиозного знания – тому, что современная философия разумеет под «феноменологическим описанием» состава явлений. Здесь не строятся гипотезы, не даются объяснения, а просто и непредвзято описывается то, что есть, – то, что непосредственно предстоит взору (и что «объяснить» мы часто не в силах). Так, вера в Бога как творца и хранителя мира есть, как мы уже видели, выражение непосредственного опыта, Воспринимая внутреннюю безосновность, шаткость моего собственного и мирового бытия, я тем самым воспринимаю его зависимость и производность от некоей абсолютной, вечной, в себе самой утвержденной основы. То, что мир «сотворен Богом», не значит (как это, невольно упрощая, мыслит популярное сознание), что некогда, давным-давно (по церковному счету несколько тысячелетий тому назад, а в связи с новейшими космологическими знаниями – несколько сот миллионов лет тому назад), мир по повелению Бога внезапно «возник», это значит, напротив, нечто совершенно очевидное – именно, что мир не только по своему содержанию, но и по самому своему бытию произведен от некоей абсолютной, уже внемирной или надмирной инстанции, мир не «был сотворен» «когда-то» хотя бы уже по той причине, что «до» его сотворения не могло быть никакого «когда-то», так как само время принадлежит к составу сотворенного бытия «ante tempus non erat tempus» – как это коротко выражает бл. Августин; мир есть «тварное», производное, зависимое бытие. Что при этом мир есть некий «космос», т. е. некоторое стройное, согласованное, подчиненное закономерностям целое, математически или вообще логически-умственно постижимое, есть свидетельство того, что порядок, мысль принадлежат к составу его творческой первоосновы – что есть тоже не гипотеза о характере причины, породившей мир, а простое констатирование первичного, основоположного его имманентного состава. И с другой стороны, имея опыт нашей собственной личности в ее исконности и глубине, мы из него знаем, что абсолютная первооснова бытия должна быть подобна той священной, таинственной глубине, которую мы воспринимаем как фундамент и почву нашего личного бытия, – должна быть как-то сродни ей, и мы одновременно опытно знаем, что эта глубина есть первоисточник того, что мы сознаем как абсолютное Благо, Святыню, Правду. Как бы трудно – или даже невозможно – ни было вполне точное и исчерпывающее умственное формулирование этого сложного состава опытного знания о мире и нас самих, оно в общей форме находит свое выражение именно в сознании или «догмате», что мир есть «творение» Бога. Точно так же, например, догмат «грехопадения» или «первородного греха» по своему подлинному существу совсем не совпадает с мифологическим рассказом, как некогда человек за свое прегрешение был изгнан из рая; этот рассказ лишь облекает догмат грехопадения в наглядную, популярную символическую – именно «мифологическую» форму. Существо самого догмата есть простое описание двух непосредственно очевидных опытных знаний – опыта реальности (укорененной в человеческой природе) силы зла или греха и одновременно опыта святости и совершенства первоосновы человеческого существа – человеческой личности, т. е. опыта ее укорененности в Боге, ее характера и предназначения как «образа Божия»; сочетание этих двух опытов дает самоочевидное знание, что человек (и весь мир) по своей эмпирической природе не таков, каков он есть по своему первозданному существу, и в этом и состоит сознание, что человек и мир «пали». Тем более очевидно, что все «христологические» догматы – как бы отвлеченно-философски некоторые из них ни звучали – суть в конечном итоге не что иное, как интеллектуальное выражение религиозного восприятия личности Иисуса Христа и религиозного опыта, открывающего нам смысл «спасения». То же самое можно было бы показать в отношении всех других догматов веры.
Но так как живое содержание религиозного опыта – как и всякого опыта вообще – в его конкретной полноте невыразимо, то это интеллектуальное его выражение всегда остается лишь приблизительным, неадекватным, оно улавливает лишь то, что нам кажется наиболее важным в составе религиозного опыта, что больше всего нас интересует и чем мы больше всего в нем дорожим. Конкретно-психологически и исторически формулировка догмата веры по большей части определяется мотивом полемическим, желая предупредить или отклонить истолкование религиозного опыта, которое нам представляется ложным, т. е. в котором мы усматриваем искажение – и притом прежде всего практически вредное или опасное искажение его конкретного смысла, мы выражаем религиозный опыт в понятии, которое должно подчеркнуть, отметить какую-либо его черту, незамечаемую или отрицаемую при ложном его истолковании и почитаемую нами существенной. В силу этого живая полнота религиозного опыта всегда богаче, конкретнее, многообразнее того, что выражено в догмате, т. е. в суждении, извлеченном из опыта, примерно так же, как живая полнота нашего восприятия конкретной личности или нашего личного отношения к человеку, например нашей любви, всегда бесконечно богаче, глубже, содержательнее всего того, что мы можем высказать о нем, в чем мы можем отдать себе умственный отчет, – а тем более содержательнее и глубже того, что мы имеем практический повод высказать.
Таково, в сущности, отношение между опытом и мыслью, выраженной в понятиях, во всех областях знания; свободный и проницательный ум, видящий саму реальность, всегда сознает, что все высказывания и суждения о реальности лишь частичны и в этом смысле неадекватны единству живой конкретной полноты самой реальности, т. е. что всякая реальность сама по себе есть всегда нечто большее и иное, чем все, что мы можем знать и высказать о ней.
Но этим здесь и ограничивается аналогия. Так как религиозное познание, как я пытался это уже многократно уяснить, есть совершенно особый, своеобразный вид познания, то и опыт и мысль в нем имеют особый характер, и для понимания подлинного существа религиозного догмата чрезвычайно важно не терять из виду этого своеобразия. Мы можем примерно так резюмировать то, что нам уже уяснилось. Религиозное знание не есть предметное знание, оно не состоит в том, что наш взор направляется на некий внешний, пассивно нам предстоящий объект и «раскрывает», «уясняет» его независимо от нас сущую природу, его «объективное содержание»; религиозное знание не есть итог бесстрастного теоретического созерцания. Религиозный опыт есть живой опыт – опыт, обретаемый во внутреннем переживании реальности, которая нам в нем открывается, в частности, это есть, как мы видели, опыт общения. Поэтому мысль, в которой мы выражаем итог этого опыта – религиозный догмат, – не исчерпывается теоретическим суждением об объективной природе той реальности, с которой мы имеем здесь дело, – реальности Бога. Реальность, которую мы действительно познаем в религиозном опыте и пытаемся выразить, интеллектуально фиксировать в «догматах», есть, строго говоря, реальность совсем иного порядка. Поскольку религиозная мысль остается при этом направленной на Бога, мы познаем «объективное существо» Бога именно в Его отношении к нам, Его действии на нас, Его значении для нашей жизни; или – выражая то же самое в порядке субъективном – мы пытаемся выразить наше впечатление от Бога. Коротко говоря, Бога мы воспринимаем всегда лишь в живом конкретном контексте нашей религиозной жизни, нашего бытия с Богом. Как мы уже видели, Бог живого религиозного опыта не есть предмет, мыслимый в его объективном бытии, не есть «он» или «оно», а есть живое «ты» – «Бог-со-мной», Бог в составе моей жизни или Бог как определяющий составной элемент жизни или бытия вообще. Задача религиозного познания, осуществляемого религиозным опытом и выражаемого в истинах догматического порядка, есть задача верного, осмысленного ориентирования в жизни в свете открывающейся нам ее последней глубины или первоосновы. При этом ввиду непостижимости собственного «существа» Бога – ввиду того, что это существо превосходит наше разумение (что непосредственно дано в самом опыте) и не может само быть выражено в понятиях, – это знание, поскольку в нем соучаствует знание о самом Боге, носит характер символический; оно есть не точное описание, а некое уподобление, некий образный намек на несказанное. Истинный смысл догматов – не теоретический, а практический: они дают нам как бы вехи для правильного пути в жизни. Мы не можем жить, не зная, в чем истинная цель нашей жизни, в чем лежит верный путь к цели. Как мореплаватель нуждается в видении звезд – светящихся точек небосвода, по которым он держит свой путь по темному океану, так мы должны иметь знание некой схематической карты звезд духовного неба, чтобы не заплутаться в жизни. Продолжая аналогию дальше, мы можем сказать: то, что нам нужно, есть не невозможное здесь знание астрономической реальности в ее абсолютном существе, а как бы конкретная космографическая картина, т. е. знание звезд в их отношении к нам, к земному миру. И разница между истиной и заблуждением есть здесь, в конечном счете, именно разница между истинным и ложным путем – между путем, ведущим в гавань, и путем, на котором мы обречены потерпеть кораблекрушение. Религиозная истина есть не «теория», не «доктрина», не бесстрастное, интеллектуальное, наукоподобное описание объективного существа Бога: она по самой своей природе есть «путь и жизнь».
Это понимание дела отнюдь не тождественно какому-либо субъективизму или релятивизму, отнюдь не должно истолковываться «прагматически», как это пыталась делать, например, теория догматов католического «модернизма». Догматы совсем не суть «фикции», ложные или объективно неоправданные идеи, единственный смысл которых состоял бы в том, что они символизируют указание нравственного порядка. Нет, как мы уже видели, мы обретаем в них подлинное и в этом смысле строго объективное знание самой реальности, совершенно так же, как космографическая картина вселенной содержит подлинную истину и только поэтому помогает нам ориентироваться в земной реальности. Существует подлинная, объективно сущая структура духовного бытия, есть строгие, ненарушимые и не зависящие от нашей воли закономерности этого бытия; от точного познания их и руководства ими зависит правильность и разумность нашей жизни, успешность наших стремлений, выражаясь в обычных религиозных терминах, наше «спасение», как и от пренебрежения ими и нарушения их – наша «гибель». Спасение и гибель есть здесь не «награда» или «кара» за истинные или ложные мысли о Боге – Бог во всяком случае не есть тиран, который предписывал бы своим подданным определенные мысли, награждал бы послушных и карал бы тех, кто дерзает иметь иное мнение. Все это есть бессмысленное и рабское представление о религиозной жизни и мысли. Напротив, истина имеет здесь, как и везде, свою имманентную ценность, которая должна свободно усматриваться; здесь, как и всюду, истина нам полезна, ибо дает возможность правильно ориентироваться в бытии и целесообразно жить, и заблуждение вредно, потому что заводит в безвыходный тупик, на край пропасти. Но только реальность, которую мы должны здесь точно воспринимать в ее объективном составе, есть не отрешенное от нас, «объективное», в себе сущее существо Бога, а именно реальность нашей жизни с Богом и в Боге или реальность той духовной вселенной, которая слагается из отношения между Богом и нами самими (или миром). Иначе то же самое выразимо так: при всей объективной ценности религиозной истины она не есть здесь теоретическое, предметное суждение, истинность которого состояла бы только в простом совпадении наших представлений или мыслей с составом предстоящего нам предмета; она состоит в истинной жизни, в истинной надлежащей настроенности души, в направленности нашей воли на истинную цель и ценность нашей жизни. Поскольку вообще правомерно представление о «суде» Божием, мы должны сказать: наши религиозные мысли, как таковые, совершенно безразличны Богу; Бог судит не наши мысли, а наши сердца. Умственное выражение религиозной истины – так сказать, истина сердца, которая должна нам открываться, – существенно не само по себе, не как таковое, а только как форма, в которой нам самим легче всего сохранить чистоту и адекватность необходимого здесь сердечного знания. Чтобы ограничиться здесь указанием на один уже упомянутый выше пример догмата: мысль, что Бог есть наш «Отец небесный», имеет смысл, конечно, не как теоретическое констатирование какого-либо объективного состава – так сказать, не как холодная паспортная регистрация того, кто именно наш отец, или в каком отношении родства мы находимся с Богом; единственный смысл и единственная ценность этого догмата состоит в том, что он содержит некое символическое указание на нашу интимную близость к Богу, на внутреннее сродство нашего духа с Богом, на связь любви, объединяющую нас с Богом, и на вытекающие отсюда последствия для нашего духовного и морального сознания.
Отсюда следует, что при всей необходимости для нас интеллектуальной фиксации живого содержания религиозного опыта, при всей существенности здесь различия между «истинными» и ложными догматами остается все же некая несоизмерность между невыразимой полнотой конкретного, живого опыта и его интеллектуальным выражением в религиозных понятиях и суждениях – примерно такая же, как между живым музыкальным впечатлением и всем, что может рассказать теория музыки или музыкальная критика об его смысле. «Догматы» в их рациональном выражении суть не первичная основа веры, а скорее – отчасти ее осадок, отчасти вехи, схематически отмечающие структуру ее содержания. Догматы сами почерпаются из живого отношения к Богу; в молитвенной обращенности к Богу, в конкретном опыте общения с Богом дана живая полнота восприятия религиозной реальности, неисчерпаемая никакими отвлеченными догматическими формулами. Вообще говоря, литургический момент в религии гораздо более существен, чем ее догматика: в составе веры молитва бесконечно важнее всех суждений и рассуждений о Боге. Но кроме того, можно сказать, что живое и наиболее адекватное самого догматического содержания веры дано не в фиксированных в форме суждений «догматов», а в представлениях и в мыслях, сопутствующих молитвенному обращению к Богу. Эти представления и мысли тоже только «символичны», имеют значение не точных понятий и суждений, а образов и уподоблений; но они обладают большей полнотой, более насыщены конкретным содержанием, чем отвлеченные догматические формулы. Молитвенное, литургическое выражение веры имеет, таким образом, и в отношении ее подлинного догматического содержания, ее осмысления значение более первичное и определяющее, чем догматические богословские учения.
Есть какой-то парадокс в том, что именно христианская вера – религия, которая по своему существу есть par excellence религия живого личного общения с Богом, религия интимной близости и сродства между человеческой душой и Богом, – облеклась, пожалуй, в большей мере, чем другие религии, в жесткую, неподвижную броню застывших догматических формул. Помимо общей роковой тенденции всего живого постепенно застывать, костенеть, превращать гибкую, пластическую форму, необходимую всему живому, в форму омертвевшую, на которую переносится благоговейное почитание, первоначально относящееся к творческому, пульсирующему содержанию жизни, – помимо этой общей тенденции здесь, очевидно, имеет силу соотношение, выраженное в известной формуле: corruptio optimi pessima
.
Именно богатство, полнота конкретного религиозного знания, открывающегося христианской религиозной установке, влечет в особенной мере к осмыслению ее содержания в догматических суждениях; вместе с тем парадоксальность христианской веры перед лицом обычных жизненных и моральных воззрений, неся в себе опасность упрощенного, ложного, искажающего и потому гибельного ее истолкования, вызывает здесь потребность в точном фиксировании нюансов истины. К этому общему соотношению присоединился еще ряд случайных исторических оснований. Главными историческими носителями и выразителями христианской веры в века ее формирования были греки и римляне; при этом склонность греческого ума к утонченному философскому умозрению сочеталась со склонностью римского ума к отчетливому, трезвому, логически фиксированному, рационалистически упрощенному выражению мыслей и потому к превращению живой морально-духовной истины в рационально общую, твердую правовую норму. И к этому, наконец, присоединилось еще и то, что среди политической анархии первых веков христианской эры утверждение правового порядка и единства государственной власти было возможно лишь через единство веры; отсюда возникла потребность противоестественного принудительного рационального нормирования содержания веры. Новое пробуждение истинно христианского духа личной, непосредственной связи человеческой души с Богом выразилось сначала, в эпоху Реформации, в силу исторической привычки к застывшим догматическим формулам, менее в оживлении догматического сознания, чем в ожесточенной борьбе разных догматических формулировок (и вместе с тем в противопоставлении одного религиозного авторитета другому); а позднейшее пробуждение тоже истинно христианского духа свободы совпало с бунтом против веры вообще, с возникновением духа неверия, с прославлением самочинной свободы человека, с утратой понимания самого существа веры. Европейскому христианскому человечеству нужно было пройти через все эти испытания и шатания, прежде чем стало психологически возможно вернуться к пониманию истинного существа веры и тем самым к пониманию положительного значения догматов веры как интеллектуального выражения живых истин, открывающихся в религиозном опыте.
Как бы то ни было, но, раз сделав здесь усилие преодоления обычного, ходячего словоупотребления и всех связанных с ним мыслей, мы приходим к сознанию, что догматы в единственно существенном для нашей религиозной жизни смысле суть не освященные церковным авторитетом, непонятные нам формулы и теоретические суждения, а просто не что иное, как наши живые религиозные убеждения. Для ответственного и правдивого религиозного сознания – например, в моменты религиозного напряжения духа перед лицом тяжких испытаний или перед близостью смерти – существенно не то, повторяем ли мы слова символа веры, и даже не то, сознаем ли мы наше внутреннее согласие с мыслями, в них выраженными, – существенно лишь то, что мы знаем, испытываем и внутренне исповедаем как наши религиозные убеждения – как истины, которые открываются нашему сердцу. Мерило таких живых догматов есть их практическое руководящее значение в нашей жизни. Если, в силу греховности и слабости нашей воли, в силу власти над ней чувственных представлений и побуждений, мы далеко не всегда фактически действуем, живем и чувствуем в согласии с этими убеждениями, то все же они остаются мерилом, которым мы, по крайней мере, судим самих себя, оцениваем нашу жизнь и наше поведение и пытаемся их исправить и совершенствовать. Дело идет здесь не о простом различии между истиной и заблуждением в теоретическом смысле слова, а о неизмеримо более существенном различии между правдой и грехом – между просветленностью нашей души и ее погруженностью во тьму. Догматы веры относятся ближайшим образом и непосредственно к совсем иной области бытия, чем теоретические суждения о внешнем мире, – чем та житейская мудрость, которая дает нам возможность правильно ориентироваться в мире и преуспевать в нем. Истины веры суть истины сердца – плоды сердечного, живого опыта, утверждаемые вопреки всем «ума холодным наблюденьям»; они всегда кажутся безумием «мудрости века сего» и обладают для верующего своей имманентной, внутренней очевидностью.
При этом не нужно ни преувеличивать, ни преуменьшать значение точного догматического знания. С одной стороны, вера есть не мысль, а сердечный опыт; и в этом смысле можно сказать, что догматы суть не умственные убеждения, а убеждения, определяющие строй души и мотивацию нашего поведения (как мы это уже говорили выше). Умственно неверующий, но человек самоотверженный, горящий любовью к людям, полный жажды правды и добра, в сущности – сам того не сознавая – верует, что Бог есть любовь и что нужно потерять свою душу, чтобы сохранить ее, т. е. фактически исповедует основной догмат христианской веры. А так называемый «верующий», убежденно повторяющий все содержание символа веры, есть в сущности неверующий, т. е. фактически отвергает догматы веры, если он – черствый, бездушный эгоист, если его сердце способно видеть и ценить только земные блага, т. е. на деле отрицает Бога и царство Божие. О таких верующих Ницше верно сказал: «Они говорят, что веруют в Бога, но на самом деле верят только в полицию». Догмат по самому своему существу есть оценочное суждение – утверждение ценности чего-либо. Поэтому его исповедание узнается по тому, какими побуждениями мы руководимся в нашей практической жизни. Повторяю еще раз: Бог судит не наши мысли, а наши сердца. Евангельская правда о двух сыновьях, из которых один выразил послушание воле отца, но не исполнил ее, другой же, выразив непокорность, фактически выполнил волю отца, или евангельское слово, что мытари и блудницы войдут в царство небесное раньше «книжников и фарисеев», т. е. богословов, знатоков писания и умственных исповедников веры, – достаточно отчетливо это выражают.
Но вместе с тем не нужно здесь впадать в обратную крайность и преуменьшать значение осознания догматов, т. е. осмысленного понимания существа веры, которою мы должны руководиться в жизни. Здесь, как и всюду, знание полезнее исповедания. При этом настоящая духовная умудренность, которую выражает живое догматическое сознание, хотя, с одной стороны, и противоречит «мудрости века сего», есть, с другой стороны, единственно прочное основание подлинной жизненной мудрости. Открывающееся в религиозном опыте духовное бытие в его существе и закономерностях есть все же в конечном счете единственная, подлинно определяющая сила всей человеческой жизни вообще; кто несведущ в этой области, тот неизбежно строит свою жизнь «на песке», гонится за призраками, рискует погубить свою жизнь. Поэтому нельзя иметь, строго говоря, настоящего знания человеческого сердца и – тем самым – даже трезвого знания жизни и мира, оставаясь слепым в отношении строения духовного бытия, т. е. не имея истинных «догматов» веры. Кто не прозревает глубин бытия, тот пребывает в иллюзиях и в отношении его земного, поверхностного слоя. Таково умственное состояние людей духовно поверхностных, лишенных религиозного опыта и знаний: вся их жизненная мудрость даже в обычном смысле часто обличается как наивная глупость. В этом смысле Достоевский метко говорит, что настоящая правда всегда неправдоподобна, т. е. не совпадает с той «правдой», в которую верят люди, прикованные к внешней, видимой поверхности вещей. Настоящие гениальные государственные деятели – подлинные мастера жизни, люди типа Кромвеля, Наполеона, Бисмарка – были всегда и религиозно мудрыми людьми (как, впрочем, и все настоящие гениальные ученые) – все равно, почерпали ли они свою жизненную мудрость из религиозных убеждений или, наоборот, приходили к религиозным убеждениям на основании понимания жизни.[12 - Классический образец этого последнего соотношения есть суждение Наполеона о Христе: «Я хорошо знаю людей, – сказал он однажды, – вы можете поверить мне: Иисус не был простым человеком».] И, напротив, господствующие политические доктрины и верования последних веков – веков неверия – были самим историческим опытом обличены как жалкие, смешные иллюзии, как плод наивного неведения подлинного существа человеческого сердца. Так европейское человечество расплачивается теперь тяжкими страданиями за то, что не видело и не учитывало реальности и силы греха, которая открывается только религиозному опыту. Можно сказать, что трагическая история европейского человечества начиная с эпохи Просвещения XVIII века всецело определена одним догматическим заблуждением – именно отрицанием догмата грехопадения.
В этом заключается подлинное насущное значение различия между истинными догматами и «ересями». В истории христианской мысли и жизни бесконечно злоупотребляли этими понятиями истинной веры и ереси; людей истязали и убивали, человеческую жизнь калечили, проливали реки крови из-за признания или отрицания буквы догматов, подлинный смысл которых часто оставался непонятным обеим борющимся сторонам. Не говоря здесь уже о страшном, противохристианском грехе насилия над совестью, принуждения к вере, мы теперь ясно сознаем, что многие из этих ожесточенных споров были спорами о букве, не имеющими никакого реального религиозного значения. Еще Григорий Нисский рассказывает с юмором, как в его время, в IV веке, базарные торговки Константинополя, вместо того чтобы заниматься своим делом, яростно спорили о христологических формулах. Но это сознание болезненной гипертрофии омертвевшей догматической мысли не должно нас делать слепыми в отношении существенного, жизненного значения различия между религиозной истиной и религиозным заблуждением. Надо только при этом обратиться от буквы догматов к их духу и подлинному смыслу. Приведу пример. Карлейль говорил, что спор ортодоксии с арианством был «спором о полугласной» (homoousia или homoiousia). Но когда слепым стариком незадолго до смерти он слушал чтение Евангелия, он однажды с горечью воскликнул: «Да, если Ты действительно Бог, то все это – правда; но если Ты только человек – что знаешь ты больше, чем я?» Спор о «полугласной» – спор о том, был ли Иисус Христос тварным человеческим существом, только «подобным» Богу, или в Нем присутствовало реально подлинное существо Бога, – этот спор оказался, таким образом, не спором о пустой мелочи, а спором, от решения которого зависело, может ли наша душа найти покой истинного знания или обречена на безвыходное беспокойство неведения и сомнения. Точно так же, если, например, спор о «filioque», разделяющий исповедания западной и восточной церкви, остается нам совершенно непонятным и перед лицом непредвзятой религиозной мысли обнаруживается едва ли не как совершенно беспредметный спор, определенный суеверным благоговением перед той или иной привычной словесной формулой, – то, с другой стороны, религиозно-исторический опыт свидетельствует, что, например, вопрос об истинном отношении между «благодатью» и «природой», или спор Лютера с Эразмом о совместимости христианской веры с признанием человеческой свободы, или спор о том, есть ли цель христианской жизни индивидуальное, одиночное «спасение души», или соучастие в деле общего спасения мира, или спор об истинном смысле эсхатологических верований – что все эти и многие другие догматические проблемы имеют решающее значение для общего религиозного понимания жизни, для определения правильного жизненного пути. Часто при этом наиболее насущные и острые догматические проблемы, от решения которых зависит все наше религиозное самосознание, наше общее отношение к миру и жизни, совсем не были еще сформулированы богословской мыслью или, по крайней мере, не были отчеканены в освященных церковным авторитетом незыблемых формулах; и, напротив, по крайней мере, некоторые из таких освященных зафиксированных формул были итогом спора, основанного на недоразумении.
При этом следует еще отметить, что, хотя основные, подлинно существенные догматы веры имеют вечный смысл и потому постоянное значение для человеческой духовной жизни, все же с историческим изменением общих духовных перспектив, так сказать, общей философской атмосферы жизни, ее духовно-нравственной конъюнктуры определенные догматические вопросы могут – в плане коллективной человеческой жизни – терять то существенно-жизненное значение, которое они имели при других исторических условиях, так сказать, переставать быть религиозно-актуальными. Так, например, борьба против «монофизитства», некогда имевшая первостепенное религиозное значение в качестве борьбы против восточного отвлеченного спиритуализма, в настоящее время, при господстве воззрений, вообще отвергающих начало духа, потеряла ту актуальность и тот жизненный смысл, которые она когда-то имела. В нашу эпоху обоготворения человека догмат о реальности человеческой природы Христа отчасти вообще потерял актуальность просто потому, что стал самоочевидной истиной, отчасти имеет иную практическую ценность, чем в древнем восточном мире. Я уже не говорю о том, что в эпоху, когда отвергаются или подвергаются сомнению самые основоположные догматы христианской и даже вообще религиозной веры, спор о более детальных догматических вопросах очевидно перестает быть актуальным и отходит на задний план в перспективе общей духовной жизни. Мы имеем здесь полную аналогию, например, с политическими воззрениями и лозунгами, которые с изменением условий и насущных задач коллективной человеческой жизни могут терять свое актуальное значение и даже могут в одну историческую эпоху быть благотворными, а в другую – вредными (хотя общие нравственно-политические начала в более широкой перспективе, конечно, сохраняют вечный смысл и постоянную ценность).
Коротко говоря, проблематика догматов веры как живых религиозных убеждений, почерпаемых из религиозного опыта и определяющих наше духовное самосознание и нравственное направление нашей жизни, – эта проблематика зарождается и должна разрешаться так же свободно и правдиво, из усмотрения живой правды, как вся вообще проблематика религиозной жизни, существо которой есть свободное общение души с божественной реальностью.
6. РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ, АВТОРИТЕТ И ОТКРОВЕНИЕ
Теперь мы подготовлены, наконец, к ответу на основное из упомянутых выше возражений, которые сторонники того, что называется «положительной религией», противопоставляют намеченному мною понятию личного религиозного опыта как основоположного существа веры. Возражение это состоит в том, что религиозная вера есть признание некой объективной, для всех одинаково обязательной истины вероучения, а это признание, как обычно думают, возможно только через подчинение личных религиозных суждений и мнений учению, истинность которого гарантирована неким высшим безапелляционным авторитетом и опирается на положительное откровение – на истины, превышающие наше личное разумение и возвещенные нам самим Богом. В первой главе этого размышления я пытался показать, что эта обычная религиозно-философская установка страдает недоговоренностью, содержит petitio principii, так как вера-доверие в конечном счете должна сама всегда опираться на веру-достоверность. Теперь, в свете того, что нам уже уяснилось, можно полнее и еще с другой стороны понять это соотношение, и это вместе с тем дает нам возможность оценить элемент правды, содержащийся в обычном понимании существа веры.
Это возражение исходит, как я уже упоминал, из молчаливого допущения, что религиозный опыт есть нечто чисто субъективное и что поэтому на его пути вообще нельзя достигнуть объективной общеобязательной религиозной истины, именно этим определяется мысль, что объективная религиозная истина обретается только через признание учения, истинность которого гарантирована некой высшей, сверхчеловеческой, безусловно авторитетной инстанцией. Мы должны начать с усмотрения ложности самой этой предпосылки, психологически она проистекает из утраты живого чувства реальности или подлинной истинности содержания религиозного опыта. Сравним, прежде всего, религиозный опыт с опытом в других областях знания. Опыт всюду и всегда подвержен некоторому риску субъективной ограниченности и даже субъективного искажения в восприятии подлинной реальности. Возьмем, например, зрительный опыт – опыт восприятия цветов и внешних геометрических форм явлений, как и пространственных соотношений между ними. Отдельные люди отличаются друг от друга по точности и остроте зрительных восприятий, и здесь всегда возможны и простая невозможность увидать что-нибудь (например, слишком удаленное от нас или слабо освещенное), и всякого рода зрительные иллюзии. Тем не менее мы не сомневаемся, что в общем и целом все люди видят, зрительно воспринимают одну и ту же, именно объективно сущую картину реальности и что все возможные здесь разногласия между суждениями разных наблюдателей практически легко разрешимы, вопреки всем ухищренным сомнениям отвлеченного философского скептицизма на практике здесь нетрудно отличить – по крайней мере в общих чертах – подлинную истину от заблуждения, и эта объективная истина в принципе совпадает с опытным суждением большинства людей, обладающих нормальным зрением.
Возьмем теперь опыт, более близкий к религиозному опыту, таков, как мы видели, опыт эстетический, например опыт музыкального восприятия. Здесь, конечно, различие между опытом разных людей гораздо больше, чем в области зрительного и всякого вообще чувственного опыта. Есть люди музыкальные и немузыкальные, и есть люди весьма разных музыкальных «вкусов». Безусловно, немузыкальные люди здесь так же мало идут в счет, как глухие. Что касается различия между музыкальными вкусами, то, с одной стороны, мы имеем возможность их объективной расценки: мы можем весьма точно различать между «хорошим» и «плохим» вкусом, между вкусом острым и утонченным, улавливающим подлинную музыкальную красоту, и вкусом банальным или вульгарным, руководимым, в сущности, критериями не чисто музыкального порядка. И, с другой стороны, существует и вполне законное многообразие индивидуальных музыкальных вкусов, как бы лежащих на одном объективном уровне, т. е. одинаково правомерных, но это различие музыкальных вкусов – того, какая именно музыка кому больше по «сердцу», – ничуть не препятствует наличию общепризнанных, для всех одинаково обязательных закономерностей музыкальной красоты, эти закономерности обнаруживаются здесь наукой, теорией музыки, которая в известной мере обладает точностью математических знаний, и хотя и здесь возможны и некоторые разногласия, и прогрессивное развитие, это не мешает, однако, теории музыки оставаться общеобязательной наукой – точной, в меру возможной вообще точности человеческих знаний. И человек, который оценивает, например, простую песенку или банальный фокстрот выше фуги Баха или симфонии Бетховена, так же очевидно свидетельствует о своей некомпетентности, как в области зрения – слепой или близорукий. Не иначе по существу обстоит дело в области религиозного опыта. Конечно, религиозный опыт есть, как мы видели, своеобразный род знания, отличный от обычного типа восприятия – все равно, чувственного или сверхчувственного. Ибо он есть не предметное знание – не уловление взором реальности, как бы пассивно и неподвижно стоящей перед нами, а знание-переживание, знание-общение. Истина здесь некоторым образом открывается нам изнутри, как бы проникая в нас из некой глубины, ее познание требует от нас особой внутренней сосредоточенности души; и сама реальность, которая здесь открывается, будучи вездесущей и всеобъемлющей, не имеет тех вполне отчетливых, «бросающихся в глаза» очертаний, которые присущи частной, ограниченной реальности. Поэтому познание истины здесь – дело более сложное, чем в обычном типе познания. Оно подобно не познанию отдельного предмета, а скорее ориентированию в сложном целом. Знание Бога есть, как мы видели, знание отношения между Ним и человеческой душой или между Ним и миром – знание Его как центра и первоисточника сложных закономерностей духовного мира. Естественно, что здесь, как во всяком сложном многообразном знании, субъективный элемент, определяющий различие между людьми и по остроте их духовного взора, и по направлению их внимания и интереса, может играть большую роль, чем когда дело идет о восприятии определенного частного предмета. И тем не менее в принципе мы имеем здесь все же подлинное знание, подлинный опыт, т. е. усмотрение объективной, подлинной и потому общеобязательной истины.
Это совершенно отчетливо обнаруживается на практике религиозного знания. Люди, чуждые этой области знания, обычно воображают, что это есть поле безграничных и безнадежных субъективных разногласий – и притом разногласий, не допускающих никакого объективного критерия для их разрешения. В противоположность этому распространенному мнению все, кто ближе знакомы с этой областью жизни опыта – хотя бы далее только извне, через изучение религиозной литературы, т. е. свидетельств и суждений религиозных людей, – всегда поражаются изумительному сходству, согласию в основном суждений людей самых разнообразных эпох и культурных кругов. Людей, обладающих острым самостоятельным религиозным восприятием, называют обычно «мистиками» (в широком, общем смысле этого понятия). И вот мистическая литература всех времен и народов, а также формально разных исповеданий с неопровержимой убедительностью свидетельствует, что суждения здесь в основном необычайно сходны, иногда тождественны вплоть до словесного выражения – и притом там, где взаимозависимость и влияние заранее исключены. Можно привести множество примеров, когда, например, восточные мистики – Лао Цзе, или индусские мудрецы Упанишад, или арабско-персидские суфии – высказывают суждения, почти буквально совпадающие с суждениями Дионисия Ареопагита, Мейстера Эккарта, Катерины Сиенской, Ангела Силезского или испанских мистиков – Святой Терезы или Иоанна от Креста. В религиозных утверждениях философского усмотрения встречается такое же поразительное единогласие, Гегель признает, что подписывает каждое слово древнегреческого мистического философа Гераклита, интуиции Платона и Плотина (которые сами во многих отношениях близки к восточной мистике) образуют некий запас религиозных знаний, которые постоянно заново пробуждаются в умах религиозных мудрецов всех эпох и народов – в средние века, в эпоху ренессанса, в английском платонизме XVII века, у Гёте, Шеллинга и Баадера, вплоть до нашего времени (Бергсон, Рильке); и было бы в высшей степени поверхностно и ложно видеть здесь простое влияние и заимствование. Мы получаем, напротив, явственное впечатление, что мистика и религиозные мудрецы всех веков и народов образуют некое невидимое братство «посвященных» – умов, видящих одну и ту же истину. Конечно, наряду с этой солидарностью здесь есть и многообразия и разногласия, но ведь это встречается и считается естественным и во всяком другом опыте, в реальности которого никто не сомневается. И при ближайшем рассмотрении к тому же оказывается, что разногласие здесь только мнимое и что многообразие легко согласимо и сводится к отношению взаимного дополнения.
Это сходство или тождество поразительно, в сущности, только для того, кто полагает, что здесь дело идет о субъективных измышлениях и фантазиях. Если мы имеем здесь нечто вроде снов, которые снятся разным людям – и притом людям разных веков, разных понятий и жизненных складов, разного воспитания, – то действительно можно удивляться, почему эти сны так сходны между собой. Но если мы имеем дело с подлинным опытом, т. е. восприятием объективной реальности, то сходство или тождество в основных чертах суждений здесь так же естественно и понятно, как сходство показаний свидетелей одного и того же объективного состава. Никто не удивится сходству в простой жизненной мудрости людей разных народов и эпох. Если, например, псалмопевец и Гомер говорят почти в одинаковых словах о краткости и шаткости человеческой жизни, уподобляя ее то быстро увядающей траве, то листьям дерева, сменяющимся каждой весной и осенью, или если у мыслителей всех народов встречается сравнение жизни с кратким сном, струей дыма или тенью – то всем понятно, что тождество впечатления определено здесь тождеством самой реальности. Но такая жизненная мудрость уже сама содержит элемент религиозного опыта. В принципе от этого не отличается тождество или сходство положительного религиозного опыта – и оно имеет характер сходства свидетельств об одном и том же составе реальности. Возможность при этом, с другой стороны, многообразия и расхождения свидетельств отчасти объясняется так же, как обычные противоречия свидетельских показаний в отношении даже самых явственных и простых событий земной реальности – именно тем, что к точному восприятию реальности присоединяется момент субъективных иллюзий, ошибок памяти и т. д. Отчасти же и главным образом здесь дело сводится к тому, что внимание свидетелей направлено на разные части, моменты, стороны общего объективного состава, т. е. что разным людям в этом объективном составе интересно и существенно разное. Это вполне законно, и поэтому истина религиозного опыта, будучи, с одной стороны, одинаковой для всех, с другой стороны, оказывается для каждого в известной мере своей особой истиной, в зависимости от того, что он в ней ищет и чем дорожит. Религиозная истина – как всякая духовная истина вообще – сочетает общность и общеобязательность с индивидуальностью или, точнее, персональностью: ибо она дает каждому то, что нужно именно ему, обращается к каждому той своей стороной, которая удовлетворяет своеобразную сердечную потребность каждого. Откровение Христа выражает это соотношение, в котором единство истины сочетается с ее многообразием и многоликостью, в простых, многознаменательных словах. «В доме Отца Моего обителей много». Многообразие «обителей» не противоречит тому, что это все же – единый «дом», что «Царство Божие» – одно и то же для всех, как и сам Бог есть единый Бог для всех.
Но именно из этой природы религиозного опыта явствует, что обретение веры из личного опыта не только не противоречит ее обретению из обучения, из внимания к показаниям других, но даже этого прямо требует – и вместе с тем делает возможным. Во всех областях знания мы восполняем собственный опыт опытом других людей, и прежде всего опытом людей более сведущих. Мы научаемся непосредственно из видения самой реальности, но мы научаемся и тому, что видели и узнали другие. Ввиду ограниченности и нашей жизни, и наших познавательных сил, и самих возможностей индивидуального опыта – девять десятых или даже 99 сотых мы обретаем из усвоения опыта других людей, которым мы можем доверять. В этом состоит смысл всякого обучения – все равно, в школе, через беседы с людьми или через чтение книг и газет. Какую ничтожную долю наших географических знаний – знаний, достоверность которых для нас бесспорна, – составляет то, что мы сами видали в наших путешествиях. Все остальное – вся наша географическая картина мира – основано на опыте других, которым мы имеем основание доверять. Такова же относительная роль чужого опыта во всех вообще областях знания – не только у профана, но даже у научного специалиста. Знание по существу соборно, его может иметь только человечество как коллективное целое, и каждый отдельный человек есть соучастник этого коллективного знания.
Конечно, мы стараемся, в меру возможности, проверить чужой опыт собственным, мы не всегда и не при всех условиях доверяем чужому мнению. Но именно потому, что возможность проверки собственным личным опытом весьма ограниченна, мы должны – чтобы не верить сразу и слепо всему, что нам говорят или о чем написано в книге и газетах, – иметь еще иной критерий доверия к чужим показаниям. В чем он заключается? Отчасти, конечно, в том, что эти показания согласуются с нашим собственным опытом, укладываются с ним в некую непротиворечивую, понятную, естественную для нас картину мира. Но если бы мы руководились одним этим мерилом или, точнее говоря, брали его только в узком ближайшем его смысле, мы ушли бы недалеко, мы никогда не узнали бы ничего принципиально нового, неожиданного, не встречавшегося в нашем опыте; известен анекдот о жителе тропических стран, который не мог поверить, что есть страны, в которых вода становится твердой, как камень, так что по ней можно ходить и ездить, как по земле. Совершенствование и пополнение знания из обучения необходимо требует и перемены, исправления понятий, обретаемых из личного опыта, а это предполагает необходимость и готовность при известных условиях поверить и тому, что выходит за пределы крута наших привычных знаний и не сразу в него укладывается. Мы вынуждены – и считаем вполне естественным – руководиться и верой-доверием, но доверие при этом совсем не должно быть «слепым». Здесь мы наталкиваемся на неизбежность и законность момента авторитета в деле познания. Сознание авторитетности чужого свидетельства или наставления – т. е. сознания, что мы имеем основание ему довериться, в него поверить, – есть само некоторого рода непосредственно очевидное знание (как это было указано уже в первой главе этого размышления). Это знание слагается из двух моментов: из неразложимого далее, но внутренне убедительного впечатления, субъективной правдивости человека, нас поучающего, и из непосредственного впечатления основательности его утверждений, т. е. из убеждения, что мы имеем здесь дело с подлинным знанием, обретенным из опыта. Оба эти момента косвенной достоверности могут иногда оказаться ошибочными, ввести нас в заблуждение; и здесь нет никаких внешних, как бы механических мерил, которые давали бы возможность заранее и с абсолютной точностью отличить истину от заблуждения. И все же наше доверие здесь отнюдь не слепо. Что касается правдивости человека, сообщающего нам знания, то она устанавливается с достоверностью не меньшей, чем та, с которой мы интуитивно знаем, что наш верный друг не убьет, не ограбит, не предаст нас; это есть та особая достоверность, с которой мы знаем, по крайней мере, в общих чертах, чужую душу: мы имеем для такого рода знания как бы особый орган восприятия – именно психологическое или моральное восприятие. Центр тяжести лежит, однако, здесь в восприятии основательности чужого знания – «компетентности» человека, нас поучающего. Это восприятие носит отчасти также характер неразложимого далее психологического впечатления, отчасти же – и это здесь самое главное – основано на том, что чужие слова, сообщения о чужом опыте, пробуждают в нас самих как бы дремавшие, неосознанные, неактуализованные до того собственные знания; чужое указание вызывает в нашей душе некий отклик, в силу которого мы сознаем: «Да, так оно и есть на самом деле». Другой, более опытный, более сведущий человек помогает нам достигнуть собственного знания, осуществить опыт, который был бы невозможен без его содействия. Как говорил Сократ, учитель есть акушер, помогающий ученику родить плод, в нем уже созревший. В этом своеобразном соотношении внутреннего сродства чужого опыта с нашим собственным потенциальным опытом заключается основание нашего доверия к наставнику – чувство достоверности, с которым мы воспринимаем его сообщения или наставления. Именно в этом состоит существо и положительное значение того, что в первичном смысле есть авторитет: достоверность для нас компетентности наставника, его подлинной посвященности в истину. Знание как личный опыт и знание, обретаемое из учения, – знание-достоверность и знание, опирающееся на доверие к чужому знанию, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга. Последнее помогает первому; первое делает впервые возможным последнее.
Так обстоит дело во всех областях знания; и не иначе оно обстоит и в знании религиозном. В знании религиозном, как и во всяком другом познании, психологически и педагогически первой, как бы зачаточной формой авторитета бывает авторитет внешний – инстанция, принудительно требующая послушания и доверия себе; и в младенческом состоянии человеческая душа подчиняется этому требованию. Но, с другой стороны, в религиозном познании не менее, чем во всяком другом, истинный авторитет есть только авторитет, свободно признанный через усмотрение его компетентности; а это усмотрение, как указано, опирается само на некий личный опыт – на опыт, что истина, извне нам сообщенная, совпадает с истиной, дремавшей в нас самих и пробужденной под этим внешним влиянием. Подлинный авторитет в этом смысле не порабощает нас, не содержит ни малейшего принуждения, он есть такой же итог свободного признания в силу внутренней достоверности, как истина, усмотренная из личного опыта.
Эти два рода авторитета, внешне сходные и обозначаемые одним и тем же словом, но внутренне глубоко различные, надо отчетливо различать друг от друга. Какова бы ни была педагогическая и дисциплинарная ценность и необходимость внешнего принудительного авторитета (об этом придется говорить в другом месте) – нужно недвусмысленно и раз навсегда признать, что в отношении самого существа акта веры как религиозного знания может иметь силу только свободно признанный авторитет, только с достоверностью усмотренная компетентность инстанции, от которой мы получаем знание. Так как религиозная вера (как и всякое знание) по самому своему существу мыслима только как акт свободы, как живая внутренне убедительная встреча души с реальностью, то другой человек – кто бы он ни был – может нам при этом только помогать и советовать, но не может принуждать и предписывать. Дело идет здесь о свободном учении и наставлении, о руководстве в деле усмотрения истины, а не о приказе и слепом повиновении. Мы не можем здесь отказаться от свободы проверки и критики, от свободного сопоставления чужого указания с голосом нашего собственного сознания – ибо в непринужденной, непроизвольной гармонии между тем и другим заключается здесь само существо убедительности, авторитетности для нас чужого наставления. Эта свобода сохраняется и при величайшей личной скромности, при самом остром сознании личной слабости, несовершенства личного опыта и потому готовности учиться у более сведущих и посвященных.
Отсюда следует, что соответствующая слепому послушанию и его определяющая идея непогрешимого религиозного авторитета должна быть здесь принципиально отстранена; она содержит внутреннее противоречие, предполагая отказ от личного суждения, согласие на слепую веру, тогда как вера и зрячесть, вера и внутренняя убежденность есть, по существу, одно и то же. Можно повиноваться чужому приказу действия, и такого рода повиновение, без критики и проверки, есть в известной мере необходимое условие упорядоченной, разумной совместной человеческой жизни, но повиноваться чужому суждению есть contradictio in adjecto. Есть люди духовно слабые и духовно сильные, неопытные и опытные, близорукие и зоркие, люди, едва усвоившие первые зачатки знания, и мастера, достигшие максимального совершенства знания. Но нет ни людей, абсолютно неспособных научиться и лишенных дара суждения, ни людей непогрешимых. Ни папа римский, ни соборы, ни отцы и учителя церкви, ни первохристиане и апостолы не непогрешимы; нельзя считать непогрешимым и боговдохновенным и буквальный текст Священного писания, составленный, как бы то ни было, людьми, в своем существе подобными нам (не говоря уже о том, что дошедший до нас текст Писания есть не оригинал, а копия, обремененная возможными ошибками переписчиков и поправками позднейших редакторов). Идея inspiratio verbalis есть бессмысленное идолопоклонство; она прямо противоречит наставлению самого Писания, что мы должны быть служителями не его буквы, а духа. Каким бы ореолом святости ни было обвеяно для нас религиозное прошлое, историческое начато и исторический источник нашей веры, мы сохраняем сознание, что люди всегда были людьми, что и в героические эпохи высшего расцвета, святости и религиозной умудренности они были обременены греховностью, духовной слабостью, не были чужды заблуждениям. Новый Завет полон указаний не только на грехи интриг, властолюбия, нравственной распущенности, эгоизма уже среди первохристианских общин, на человеческие слабости самих апостолов и непосредственных учеников Христа (эпизод с апостолом Петром в Антиохии, обличаемый апостолом Павлом!), но и на обилие религиозных недоумений и заблуждений, которым они были подвержены. Эти недоумения, шатания, заблуждения имели при этом место не только при жизни Христа, когда смысл Его откровения еще оставался неясным, но и после завершения Его откровения и события «сошествия Св. Духа», которое, очевидно, тоже не даровало апостолам как бы автоматической гарантии непогрешимости религиозных суждений. Не обладает абсолютной непогрешимостью и то, что называется «соборным преданием всей церкви». Конечно, солидарность с утверждением людей, которых мы признаем компетентными знатоками религиозной истины, имеет для нас большой вес, – подобно communis opinio doctorum
в науке; если мы с ними расходимся, то мы сознаем в особой мере вероятность, что наше собственное мнение односторонне или содержит заблуждение. Но усмотрение непогрешимой истинности в том, что выражено в знаменитой формуле «quod semper, quod ubique, quod ad omnibus»,[14 - «Всегда, везде и по отношению ко всем» (лат.).] с одной стороны, невозможно уже по той простой причине, что нельзя найти ни одного догмата, ни одной истины веры, к которым было бы фактически применимо это мерило, и, с другой стороны, даже если бы нечто подобное встречалось, единодушие общего мнения нигде и никогда не есть автоматическая гарантия его истины. История коллективного, церковно-религиозного сознания – совершенно так же, как история всякой мысли и всякого познания, – есть история борьбы между истиной и заблуждением, история подъемов и упадков религиозной мысли, великих озарений и сумерек света. Самой церкви приходилось признавать заблуждениями воззрения, господствовавшие в ней десятилетия, если не целые века (арианские тенденции, иконоборчество и многое другое). В великом деле коллективного искания правды каждый из нас, каждая человеческая душа есть в принципе равноправный участник, каждый из нас имеет больше, чем право – имеет обязанность самостоятельно искать правду; и чужие достижения – достижения умов и духов даже неизмеримо более сильных, богатых и умудренных, чем мы сами, – ценны для нас, должны быть предметом чуткого благоговейного внимания именно потому – и только потому, – что они помогают нам в нашем собственном искании правды. Если мы не можем обойтись без них, обойтись нашим слабым, одиночным опытом, если неразумно и дерзновенно предаваться гордыне удовлетворенности своими личными достижениями значит предаваться самодовольству, граничащему с верой в собственную непогрешимость, – то и самоуничижение, некое духовное пораженчество, отказ от воли искать правду – а это значит: самому искать ее – есть великий грех, великая неправда, неисполнение основного завета Христа: «Ищите и дастся вам». Всегда остается в принципе возможным положение, когда мы обязаны повторить слова Сократа, исполненные сознания личной ответственности: «даже если все согласятся, я один не соглашусь».
Так религиозный авторитет есть не более – но и не менее! – чем необходимый составной элемент религиозного опыта – момент, в силу которого чужой опыт внутренне усваивается нами, входит как бы в неразложимое химическое соединение с нашим собственным опытом – и в конечном итоге становится сам нашим личным опытом. Религиозный авторитет не есть принципиально иной источник веры, чем религиозный опыт; таковым он представляется только в порядке психологическом и педагогическом; в порядке существа дела он есть не что иное, как косвенный, обходный путь для расширения, обогащения, углубления, уточнения нашего собственного религиозного опыта.
Этим мы подведены к уяснению истинного смысла понятия откровения. Мы видели в начале нашего размышления, что по своему первичному, основоположному существу откровение есть непосредственное явление Божией правды, реальности Бога нашему духу. В этом смысле откровение просто совпадает с религиозным опытом; этот опыт носит характер некой «встречи» с Богом. Истина, обретаемая в религиозном опыте, испытывается нами так, что при этом нашей души касается, в нее проникает некая высшая, объективная реальность, с которой мы вступаем в общение в глубинах нашего духа. Еще иначе говоря, то, что мы при этом переживаем, мы можем на нашем человеческом языке выразить так, что нашего внутреннего слуха достигает при этом голос Божий. Словом, подлинное существо откровения есть всегда теофания, богоявление.
Другие электронные книги автора Семен Франк
Непостижимое




 4.67
4.67