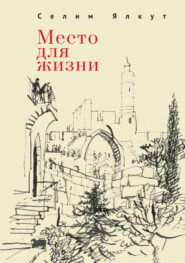По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Художник и его окружение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Соседкин ухажер – высокий, костлявый, немного сутулый парень в постоянно расстегнутой до живота белой рубахе и с сигаретной пачкой за брючным поясом захаживал во двор почти ежедневно. Вера, которая относилась к мужчинам строже, чем к женщинам, по видимому не находя в их облике достаточной эстетической глубины, тем не менее определила его зрительно как человека доброго и хорошего. Очевидно, так оно и было, потому что соседка легко оставляла на него колыбель, а сама отправлялась проводить подружек, снимавшихся в поход на огни городских развлечений. Она мельком, последним движением заглядывала в зеркало, разглаживала на бедрах джинсовую полоску и уносилась следом за подругами, на доносившееся из глубины подворотни цоканье подбитых металлом каблучков. Так отставший боец догоняет уходящий на рысях эскадрон. Темнело. Вера откладывала бумагу и карандаш. А парень терпеливо сидел, карауля спящего младенца, и раскачивался, будто у него внутри что-то болело.
У подворотни и дальше под желтым домом постоянно толклись кофеманы. С улицы, как раз через стенку от Вериной квартиры, располагалось бойкое кафе. Очередь тянулась наружу, как хвост забравшегося в нору фокстерьера. Народа по улице сновало много. Скромные размеры заведения позволяли всего лишь получить драгоценный напиток и выбраться с ним на улицу. Пить шли во двор или пристраивались на подоконнике Вериного окна. И это был лучший вариант, позволяющий расположиться с комфортом. Лица и фигуры разлетались и мелькали, белая кисея отделяла Веру от любовных романов и интриг. Страстей и коварства у облезлого подоконника выплескивалось не меньше, чем на средневековой площади. Но к улице Вера была равнодушна, ее притягивал двор. Сюда забредали компаниями, расставляли чашки на металлических листах, прикрывавших от дождя подвальные окна, и пировали беззаботно. Мелькали персонажи отрешенного вида, шаткой походкой, с расширенными дурманом зрачками. Знали, что искать. А вообще, было шумно, весело, и в целом обстановка сравнительно интеллигентная (по оценке знатоков таких сборищ) с множеством молодых хорошеньких женщин и атмосферой некоторой галантности. Люди расслаблялись и начинали отдыхать еще до получения заветной чашки. А потом и подавно.
Двор принимал всех. Но наступили перемены. Их осознание пришло внезапно, как первый вражеский авианалет. Время вдруг напряглось, что-то должно было случиться…
Переживание
Прямо перед домом убили соседкиного ухажера. Быстро, ножом, во внезапной схватке. Жертва не издала ни звука. Было именно так, Вера в это время находилась в кухне, услышала разбойничий свист и топот. Потом свист повторился уже с улицы, все улеглось и беззвучно застыло. Удивленная Вера открыла дверь и выглянула. Было безлюдно. В желтом доме разом погасли несколько окон. Вера постояла на пороге и даже оставила дверь открытой, в квартире ей показалось душно. Спустя час она заперлась, и уже сквозь сон расслышала, как въехала во двор машина, и увидела бегущие по потолку огоньки, принятые за начало счастливого сновидения.
Милиционер вяло расхаживал по двору, присаживался на скамейку, смотрел на соседку, неприкаянно бродившую тут же с отекшим зареванным лицом, пощелкивал пальцами по дермантиновой папке и молчал. На место, где лежал убитый, соседка, не обращая внимания на органы следствия, положила белую гвоздику. Рядом с цветком тут же улеглась рыжая кошка, доставшаяся двору в наследство от Марфуши – худой, порывисто подвижной женщины с обобщенным для пагубных пристрастий прозвищем синька, Марфуша погибла, выпив какой-то странной жидкости, но та смерть была признана двором естественной и не вызвала смятения. А теперь соседка гнала кошку, но та упрямо возвращалась, устраивалась рядом с гвоздикой, будто имела к месту особенное кармическое отношение. Если милиция и могла задержать кого-то, то именно кошку. Впрочем, и она, и увядшая гвоздика быстро исчезли, и двор зажил прежней безалаберной жизнью. Недолго уже оставалось.
Однажды Вера успешно разняла вспыхнувшую во дворе драку. Тогда она забралась в самое ее месиво и выговаривала изнутри громким скрипучим голосом, пока не утихомирила драчунов. Было загадкой, что, не будучи искушенной в обыденном суетном общении, Вера всегда находила нужную интонацию. Поэтому она так остро пережила убийство, потрясенная его будничной жестокостью.
– Только бы успеть, – терзалась Вера, – и она остановила бы руку негодяя… Но этого, увы, не случилось. Вера написала картину Сцена во дворе, и потом еще возвращалась к этой теме.
Зоя Лерман. Автопортрет
Среди клубящегося мрака две мужские фигуры поднимали третью – с безжизненно раскинутыми руками, выделенными вспышками белил и полосками золота. Условность сюжета напоминала балет, к которому Вера была крайне неравнодушна. Сгущение тьмы к краям картины, и таинственное движение, в глубине, вбирало в себя лунный свет и создавало скорбную мелодию жертвы. Эти двое вполне могли быть злодеями, раздевающими пьяного, могильщиками или даже друзьями, оплакивающими гибель товарища. Понимайте, как хотите, но была в картине особая выразительность, которая придает последнему часу пафос и позволяет перевести факт завершенной биографии на язык искусства. Может быть, именно состояние, порожденное тем страшным вечером, не позволило Вере закончить работу. Все было выплеснуто одним махом, без продуманной композиции и сложившегося загодя сюжета. Взрыв, протест против насилия и жестокости. Вырвавшись наружу, он отзвучал раньше, чем картина была закончена. Она нашла свое место на кухонной стене рядом с бабушкиной вышивкой – красным попугаем. Творец и просто человек (надеюсь, никто не обижается) далеко не всегда уживаются в одном организме, доводя его до крайности и нервного истощения. Разного хватает. Но дар все объясняет. Вера Самсоновна представляла собой именно такой, не охваченный статистикой, случай.
Голос художницы
Дедушка мой был кранодеревщиком, делал мебель на заказ. Он много разъезжал, а бабушка с детьми жила в Иванкове, Во время гражданской войны к ним во двор наведался местный атаман Отру к и увел единственную корову. Бабушка отправилась к Струку, потребовала вернуть корову, Струк бабушку выслушал (она красивая была), велел идти домой и дожидаться его – Струка, Вечером он будет. Но бабушка вечера дожидаться не стала, сосед – украинец погрузил их всех на телегу, забросал сверху соломой и вывез из Иванкова,
Дедушка умер после гражданской войны, кажется, от тифа. Нужно было кормить детей, и бабушка стала печь пирожки. Пекла прямо в квартире, где они жили, на улице Михайловской, и продавала через окно. Жили они на первом этаже, это было удобно, А на втором этаже до революции жил некто Киселев, С ним дружил писатель Александр Куприн, когда он приезжал в Киев, они с Киселевым крепко выпивали и шли по веселым домам. Старики хорошо их помнили. Это была местная легенда.
Я еще застала тетушку из тех давних времен. Ей было уже за восемьдесят, но она ярко красилась, делала прическу, бантики завязывала, и выходила на улицу. Сидела часами на тумбе рядом с воротами. Прохожие с ней раскланивались, немного иронически, но по-доброму. Если мальчишки начинали приставать, моя бабушка высовывалась из окна и ее защищала. Во дворе к ней относились хорошо. А мне она нравилась.
Мама до войны закончила три курса киноинститута, пока не влюбилась в папу. Его отправили служить в Ленинград, и она поехала за ним, бросила институт. Но успела обучиться стенографии. Поэтому ее очень ценили как секретаршу.
Потом началась война. Бабушка нас собрала и стала вывозить из Киева. Нас – четырех двоюродных сестер, почти ровесниц. Мужчин с нами не было, все ушли на фронт. В общем, я запомнила только бабушку. Из Киева мы выбрались на машине, потом долго ехали поездом на грузовой платформе. Так мы добрались до Перми. Первая зима была очень холодной, мы еще не обжились. Я отморозила пальцы на руках, на ногах. На улицу мы почти не выходили, сидели в бараке и очень страдали от холода и голода. Какая-то женщина подарила бабушке коробку от шляпы, наполовину заполненную горохом. Бабушка поставила коробку на шкаф, боялась, что мы найдем, съедим и подавимся. Бабушка разбивала горох молотком и несколько часов варила. А потом стала собирать рябину, мы ее все время ели.
Потом стало легче. Мама стала работать секретарем у директора нефтекомбината Тагиева. И после войны мама с ними дружила – с Тагиевым и его женой. Они тогда уже в Москве жили. Во время войны директор завода не имел права отлучаться с рабочего места. А работали непрерывно. Раз в несколько дней Тагиев уезжал ночевать домой, мама оставалась вместо него на дежурстве. По ночам заводы обзванивал Ааврентий Берия. Первый раз, услышав мамин голос, подробно расспросил, кто такая, где директор. И дальше иногда с ней общался, но уже только по делу. Я думаю, что претензий к маме не было, иначе бы всем нагорело – и Тагиеву, и ей.
Во время войны папе сильно досталось. Его даже расстреливали. Сначала он попал в окружение возле Киева. В плену их выстроили, приказали евреям сделать шаг вперед… Папа хотел шагнуть, но человек рядом взял его за рукав и удержал. Папа даже лица его не видел.
Потом он из лагеря вышел, кто-то за него поручился. Его направили на подпольную работу. По паспорту он был Николай Васильевич Свистун. Работал парикмахером в райцентре. Ему приносили сведения, и он их передавал по назначению. К нему приходил бриться немец. И говорит папе во время бритья: – Вот, Николай, есть сведения, что ты на партизан работаешь. И что ты – еврей… Папа усики отпустил, на еврея не был похож. Есть фотография того времени. И, наконец, на него прямо донесли. Папу забрали, пытали. Я будто видела эту комнату, где его били. Папа отказывался, но это бы не помогло. Но тут в управу, где его держали, пришла баптистка, папа у них жил. Всегда ходила чисто одетая, в белой одежде. Принесла ему передачу в белой тряпочке. Иза папу поручилась. Его выпустили. А потом опять забрали, донос подтвердился. Их избили, вывели и заставили копать себе могилу. Рядом стояли с винтовками. А они копали. Он запомнил, был яркий день, солнце и песок. Потом они швырнули песок охранникам в лицо, сговорились заранее. И бежали. Стреляли вслед. Пуля скользнула по голове, шрам остался. Все это после войны проверяли. Были свидетели, документы. О нем в книге писали. Тогда это не казалось невероятным. Эти баптисты часто приезжали в Киев и всегда останавливались у нас. Я их хорошо помню. А мама из эвакуации стала наводить справки. Получила извещение – папа пропал без вести. Все ей сочувствовали, но она отказывалась верить. Говорила: – Он жив и вернется. Бог поможет… Так и вышло. Бог помог.
После войны папа работал парикмахером на площади Калинина, там их было человек шесть. Я часто к нему забегала после школы, у них было весело. Шутки, смех. Помню, как он стоит и правит бритву о ремень.
Мама после войны работала референтом у министра культуры Аитвина. Он ее очень ценил, и всегда просил точно стенографировать. Иногда даже условный знак подавал. Особенно, когда премии распределяли, звания, награды. Чтобы не переиначили. Потом Аитвина сменил Бабийчук. Просил маму остаться, но она не захотела. Ушла и долго работала билетером в филармонии. Папа приходил с работы после семи вечера, бросался обнимать маму, они ужинали и отправлялись гулять. Под ручку. Их во дворе так и называли всю жизнь – молодожены. Папа вел альбомы для мамы – писал, рисовал. А в свой выходной обязательно делал обход книжных магазинов. Покупал книги по искусству, у нас была целая библиотека.
Бабушку я много писала, А мамин – один большой портрет, Я уже в институте занималась. Поехали куда-то отдыхать. Мама говорит: – Нарисуй меня, а то я скоро постарею.
Она была в сарафане, Я писала один сеанс, но долго. Рука так и осталась незаконченной,,
Баламут и царевич
Стояла ровная волшебная погода осени. Каждый день шли неторопливые торжественные перемены. Привычный пейзаж лета раскрывался веером, обнаруживая удивительное богатство цвета. Золотисто-желтого. Пьяно-багряного. Ржавого, похожего на засохшую кровь. Наконец, цвета мертвых, собранных в кучи, листьев, назначенных к сожжению. Вслед за утренним туманом приходил неожиданно яркий день, чтобы смениться тихим лампадным светом ранних сумерек. Пейзаж не терпел весеннего легкомыслия и веселья. Настроения лета. И само лето ушло.
Как недавно это было. Но будоражащий ветерок – вкрадчивый предвестник социальных перемен ощущался с каждым днем все сильнее. Поутихла беззаботная тусовка молодых людей, любителей поразвлечься. Гуще замелькали тусклые безрадостные лица страждущих. Больше стало каких-то деловых. Просачивались румыны с дешевой косметикой, кроссовками и полиэтиленовыми сумками. Беспокойные персонажи шныряли по ночам в поисках горячительных напитков, трезвонили в двери, мешали спать законопослушным гражданам, наивно рассчитывающим перебыть трудные времена в глубинах собственного жилья. Отчаянно болтался на бельевой веревке сохнущий американский флаг, подаренный передовой учительнице во время путешествия по Миссисипи (в общем, где-то там) и залитый тропическим повидлом из лопнувшего а багаже пакета. Даже сладкое не всегда к месту… Потом во двор заезжало такси, из желтого дома с бешеной скоростью сносили чемоданы, выводили под руки древнего старика или древнюю старуху, будто погребенных в этих стенах, а теперь объявившихся заново.
И вся компания: детей, стариков, озабоченных мужчин и женщин застывала на миг, прощаясь с прошлым, и, салютуя ему, хлопала дверцами нетерпеливых машин. Быстрее, быстрее…
Двор привыкал. Из глубин неслась без начала и конца заунывная мелодия, и сладкий голос пел про любовь. Не зная слов, можно было догадаться. Два года в славянской семье счастливо жил Мухамед. Однажды он забрел во двор, был обласкан, и выглядывал теперь из окна в черной фирменной маечке с узкими шлейками на богатырских плечах. И для наших женщин эти маечки были впору, может, даже более всего. По крайней мере, шли они нарасхват. Иностранцами, кстати, теперь никого было не удивить, летом больше попадалась молодежь, но теперь встречались и постарше. Местные красавицы приводили кавалеров, посидеть. Сговаривались на вечер. Мелькали украдкой денежные знаки с иностранными париками. Были и наши, но реже, эти вид имели новый, недавний, в дело шли и те, и другие, хоть к чужим, пусть даже затертым, уважения было много больше. Теперь экономисты вещали, казалось, из всех щелей, по радио и вживую, отвечали на вопросы, глядели прямо и честно, что называется, выкладывали товар. Это было их время. И, действительно, на слух получалось хорошо, осталось немного потерпеть, и с накопленным капиталом броситься в рынок. Слова были пока новые, непривычные, зато грели душу. Скоро все сбудется.
Девица
При рассказе о жизни Веры Самсоновны этих подробностей не избежать, хотя волновали они ее мало. Но реальность – не клуб по интересам и распространяется на всех сразу, даже уехавших на такси. Просто из одной реальности в другую. Только и всего…
А во дворе пока собирались, отходили в сторонку, что-то обсуждая, пили кофе, трясли над кофейными чашками бутылкой, стряхивая с горлышка последние капли. И не обращали внимание на малозаметный особнячок, выше по улице, отгороженный от двора трехметровой каменной стенкой, по верху которой (мало того) тянулась волнистая проволочная сеть. Как значилось на фасаде (с улицы), особнячок представлял собой Главное управление по ценам, был строг и не имел ничего общего с разгулявшимся рядом Вавилоном. В уютном домике всю ночь молочно разливался свет, серебрились верхушки елей, дикий виноград плелся по проволоке, шевелился под сквознячком из подворотни. В причудливом колыхании зеленого занавеса впечатлительной Вере увиделись странные узоры и сплетения, мускулистая рука с указующим перстом и причудливой татуировкой, загадочные письмена. При знании древнехалдейского (Вера такого не знала) можно было прочесть: Мене. Перес. Упарсин. Ты взвешен и найден слишком легким… Кому такое понравится? Неудивительно, что среди нынешней толкучки знамение не было отмечено. Где тут понять даже с толмачем? Знаки судьбы ненавязчивы…
Именно в эти дни Лиля Александровна, вернувшись из прогулки по магазинам, объявила: – Ты знаешь, Верочка. По-моему, Николай вернулся…
Это известие вызвало у Веры, легко откликавшейся на чужие несчастья, праздничные эмоции, сродни воодушевлению.
Николай был ей приятен. Вера умела находить в людях нечто необычное и малообъяснимое для окружающих (то есть нас), людей с трезвым взглядом на жизнь. С трезвым вообще, а не с утра или от случая к случаю.
Николай вырос на этой улице двумя домами выше и за крикливый, переменчивый нрав и дерзкое поведение приобрел прозвище Баламут. Худое большеносое лицо с чуть вытаращенными водянистыми глазами и свешенным на лоб чубчиком не знало покоя. Детские годы Баламут провел во дворе, а позже и вовсе вселился в Верин дом, добившись главной цели жизни – любви красавицы Наташи, живущей на третьем этаже, с другого подъезда. Вход с улицы, наискосок от окон Вериной квартиры. Длинноногая, пышноволосая Наташа чем-то была похожа на Баламута, хоть отличалась более спокойным нравом и даже мечтательностью. Но перца в ней хватало. Во дворе молодые люди считались удивительно подходящей парой. Но то было сначала и давно. Любовь оказалась роковой…
– Ой, – откликнулась Вера. – Надеюсь, его больше не посадят. Представляю, как Наташа рада.
– Что-то я радости не заметила. – Сказала Лиля Александровна, снимая плащ. – Они ругались сейчас на улице. Николай пьяный. Ты его еще не видела? Он изменился сильно. Когда в прошлый раз вышел, такой чистенький, аккуратный…
– Наташа за ним смотрела.
– А сейчас, Верочка, видно, что из тюрьмы. Я слышала, она ему говорит. Пока эти украшения не сведешь, я тебя в постель не пущу. С орлами и змеями я спать не буду.
– Татуировки бывают красивые. – Вера устраивалась работать в коридоре, возле входной двери. Мама ходила по кухне, за стеной. Чистый холст на подрамнике стоял перед Верой. Она испытывала легкое возбуждение. Так было всегда. Сейчас она разрушит, вторгнется в это манящее белое пространство. Будто то, что ей еще только предстояло раскрыть, уже таилось под белым покрывалом и нетерпеливо дожидалось освобождения. Эскиз лежал рядом. Сверкающее белизной тело с заломленными над головой руками, женщина лежала свободно, раскинувшись, и совсем не ощущала своей наготы. В ногах располагалась золотистая, чуть сгорбленная фигура, написанная условно, без деталей, похоже, что мужская, хоть признаки только угадывались, пожалуй, в бородке и черном, глядящим с печалью и мольбой маслянистом глазе. Руки были у груди. Мужчина будто играл (а может, и вправду играл) на каком-то музыкальном инструменте. На каком именно, Вера еще не решила. И вообще, многое оставалось неопределенным, хоть и сказано было уже много. Поэзия состоит из слов, знакомых столетиями, но звучат они всякий раз заново и лично, так что не спутаешь…
– Я сама видела, – доносилось из кухни, – какие бывают татуировки. Показывали по телевизору. Но где-то в Азии. А наши мужчины, я думаю, могут прожить и без татуировок.
– Мама, – говорила Вера, присматриваясь к холсту. – Я тебя прошу, не заводись сегодня с рыбой. Завтра я сама все сделаю. Ты же не будешь на ночь ее есть.
– Они всегда ругались с Николаем. – Лиля Александровна говорила намерено громко (к тому же она была глуховата), а пока осторожно, чтобы не хлопнуть дверцей, доставала из холодильника завернутый в газету сверток.
– Нет. – Возражала Вера. – Они хорошо жили. Я не знаю, что у нее было с тем саксофонистом из ресторана. По-видимому, Николай ее зря приревновал. – Вера подумала и решила, в руках у персонажа с картины должен быть именно саксофон.
– К флейтисту. – Уточнила Лиля Александровна, разворачивая газету и высвобождая полиэтиленовый пакет с рыбой. – Я помню, у нас в филармонии всегда были флейтисты.
– Ой, мама. Не путай ресторан с филармонией.
– Я не путаю. Он тогда пришел после ресторана и играл на флейте у нее под окном.
– На саксофоне. – Вера как раз размещала на холсте инструмент. – Представь, как Николай мог флейтой сделать такое сотрясение мозга. – Нет, это был саксофон.
– Флейта. Помнишь, Наташа рассказывала, он год не мог играть на этой флейте, так его тошнило.
– Правильно, сотрясение у него было, но от саксофона. – Вера пока работала спокойно, но тут насторожилась. – Мама, ты что – завелась с рыбой?