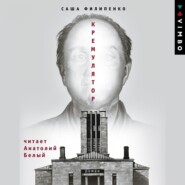По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кремулятор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что и?! Неужели тебе на это наплевать?!
– Гражданин начальник, в Индии, когда муж уходит в иные миры, вдова совершает омовение. Она распускает волосы и, надев лучшее платье, вместе с родственниками идет к месту кремации супруга. Взявшись за руки, близкие окружают ее, сковывают ей ноги и кладут голову на тело любимого…
– Отрубленную?
– Что отрубленную?
– Голову отрубленную кладут?
– Да вам бы лишь бы отрубить, гражданин начальник! Живую! Живую, конечно! К женщине подходят знакомые, угощают ее сладостями и просят передать сообщения усопшим родственникам в мир мертвых. Неплохая традиция, верно? Нам бы тоже ее ввести. Как только видите, что за тем или иным товарищем приехал воронок – хорошо бы не по шкафам прятаться, а подбежать да успеть передать приветы в иные миры, верно?
– Не отвлекайся – у нас мало времени! Так что там дальше они делают?
– А дальше жрец читает мантры, окропляет голову вдовы водой, и после этого дорогие родственники поджигают поленья. Женщину мгновенно охватывает пламя, но цепи уже не дают ей вырваться. Она кричит, но уходит вместе с мужем. Так что, если моей жене и суждено пройти через череду допросов, она через них обязательно пройдет, гражданин начальник, но не более того…
– Проверим.
– Валяйте…
Как ты понимаешь, милая, женой меня Перепелица, конечно, пугает, впрочем, как и расстрелом. Зря. К этому страшному для других арестантов слову я давно готов. Смерть я примеряю десятилетиями – смерть на мне сидит хорошо. С ней я и танцую, и засыпаю, и говорю по душам. Со смертью я так хорошо и близко знаком, что мы уж даже и не флиртуем…
В годы Великой войны, как ты помнишь, я председательствовал в военно-полевом суде. Хотя решения подобные меня всегда тяготили, нередко приходилось приговаривать к расстрелу дезертиров. Казни эти получались обыденными и некрасивыми. Без барабанов, эшафотов и гильотин. Так, пустяк, смерть на заднем дворе. В подобные дни она проходила мимо, даже не поздоровавшись со мной…
Кажется, я до сих пор помню двух первых пареньков, которых не смог оправдать. Дурачье. Самострелы. Мне их жаль было – оба совсем сопляки, однако, что я мог поделать? Правила военного времени. Снисхождения моего никто бы не принял. Даже однополчане, которые уже следующим утром собиралась бежать с фронта, спрашивали, в котором часу мы расстреляем этих детей. Война затягивалась, уклонисты росли как грибы после дождя, и, хотя я полностью разделял их стремление жить, положение вынуждало меня выносить обвинительные приговоры, коих с каждым днем становилось всё больше.
Теперь я понимаю, что более всего прочего война отвратительна тем, что обязывает тебя убивать против собственной воли.
Знаешь, милая, наблюдая за казнями, я нередко замечал, как после расстрелов мои сослуживцы начинали прикидывать смерть и на себя: «А как это будет со мной? А ударит ли дождь, а всплакну ли я?»
Вопросы эти нередко обсуждались и во время попоек. Одни офицеры утверждали, что никакого смысла в предсмертных бравадах нет, что какой толк демонстрировать мужество, если тебя через мгновенье потащат за ноги, другие, напротив, настаивали, что человек должен оставаться собой до конца, что без этого финального и символичного вызова жизнь нельзя считать завершенной. Более того, многие мои «товарищи» с пеной у рта доказывали, что одно такое секундное малодушие способно перечеркнуть все представление о человеке: «Никто не вспомнит, как ты вел себя в бою, но все вспомнят, как ты просил о пощаде во время расстрела, и даже наоборот – можно всю жизнь быть подлецом и трусом, но расстрел позволяет тебе в корне исправить представления о себе всего за несколько секунд!»
Впрочем, все эти досужие дебаты велись о смертях чужих. Что же касается кончины собственной… надо полагать, что реальное ощущение неминуемости расстрела пришло ко мне не на войне, а много позже, уже в Москве. С определенного времени у печи крематория начали появляться не только трупы неизвестных мне граждан, но и люди, которые долгие годы эти самые трупы привозили. Шутка ли – я кремировал того же Голова… Он доставил на Донское кладбище не одну тысячу расстрелянных, вместе с ним было выпито озеро водки, но однажды его вдруг арестовали, а потом спустя несколько месяцев знакомое тело выбросили из кузова грузовика.
В ту ночь вместе с Блохиным мы сделали вид, будто ничего особенного не происходит, – очередной заключенный, но что с того? И все же, люди взрослые, мы оба понимали, что в печь отправляется один из нас, что репрессии бьют по всем, и, если Голов уже здесь, значит, во время допросов стопроцентно всплывали и наши фамилии.
«С ним понятно, – думал я, – но как быть со мной? Интересно, дело на меня уже завели? А что там написано? В чем они обвиняют меня? И главное – Блохин расстреляет меня или я успею кремировать его?»
Когда мысли эти стали ежедневными, я принялся репетировать собственную смерть. Представляя все детали предстоящего действа, как актер в театре, я начинал практиковать будущий расстрел. Однажды, уже изрядно приняв на грудь, я даже спросил у Блохина:
«Михалыч, а как бы ты расстрелял меня, а?»
«Что?!»
«Я говорю, как ты меня однажды расстреляешь?»
«Петь, отвали – дай отдохнуть!»
«Ну нет, мне интересно, как это будет?»
«Быстро, Петь…»
«А быстро – это как?»
«Млядь, ты че? Хера ты заладил, а? Мне вот плевать, как ты меня кремируешь…»
«Тебе плевать, а мне нет! Мне интересно! Вот подойду я к тебе, стану затылком, но руку-то пожму?»
«Во-первых, во время расстрела руки у тебя будут перетянуты проволокой. Во-вторых, не ты ко мне подойдешь, а тебя поставят в “красный уголок”. Я подойду сзади, вот так пистолет приставлю и выстрелю. Ничего особенного, Петь…»
«А тебе будет жалко меня?»
«Нет…»
«Ну-у, неужели ты вообще ничего не почувствуешь?»
«Я тебя даже не узнаю…»
«А потом?»
«А потом я сниму свой кожаный плащ, разденусь до пояса и помоюсь одеколоном, чтобы порохом и кровью твоей поганой не вонять – наливай давай!»[1 - В действительности счет будет ничейным. ЦДКА – «Динамо» 0: 0. Блохин не расстреляет меня – я не кремирую его. Сразу после смерти Сталина, в апреле 1953 года, Василий Михайлович будет отправлен в отставку, а уже в феврале 55-го, не представляя собственной жизни без любимой работы, от тоски и пьянства умрет в центре Москвы. Блохина похоронят на Донском кладбище близ Первого Московского крематория. Палач окажется буквально в одной земле с тысячами им же расстрелянных людей, но с той лишь разницей, что у жертв советских репрессий могил не будет, а Василий Михайлович Блохин получит едва ли не лучшее место у самого входа на кладбище, рядом с монументом бывшему председателю Государственной думы Сергею Андреевичу Муромцеву. Судьба.]
В ту ночь, репетируя собственный расстрел, я, конечно, задал наивный вопрос. Что за глупость? Ну, естественно, палач бы не дрогнул – на то он и палач! К моменту нашей беседы Блохин перебил тысячи советских граждан. Вдох или выдох. Чих. Блохин обладал безэмоциональностью, которой позавидовали бы многие из машин. Тик. Так. В сущности, он был идеален. О стойкости этого человека следовало слагать легенды, ведь комендант Блохин был и оставался не человеком даже, но спусковым курком.
Однажды Василий Михайлович рассказал мне про своего коллегу из Украины, коменданта Нагорного, – тот перебил почти всю собственную комендатуру – то есть все свое ежедневное окружение. Воистину сюжет, заслуживающий отдельной театральной постановки! Ты, конечно, лучше в этом разбираешься, милая, но мне кажется, что в его истории была невероятная внутренняя пружина! Комендант Нагорный из города Киева жил двойной жизнью: по утрам он был занят решением бытовых проблем, выдавал сапоги и ключи, а по ночам, как и многие другие коменданты Советского Союза, становился палачом. Сперва он расстрелял одного знакомого сослуживца, затем второго, третьего. Так, день за днем, украинский коллега Блохина уничтожал людей, которые составляли его ареал. Знакомый комендант – последнее, что видели киевляне в своей жизни. Каково же должно было быть их удивление! Этот маленький человек, которому они так запросто хамили, этот серый простачок, которому они приказывали поскорее выдавать им канцелярские предметы и обещали написать жалобу, теперь вершил их судьбу…
«Вот с кого нужно брать пример! – опрокидывая рюмку, однажды с улыбкой сказал мне Блохин. – И вот почему нельзя хамить таким людям, как я!» – «Никому вообще нельзя хамить…» – добавил я.
Все эти последние годы, милая, возвращаясь домой под утро, я все чаще ложился в кровать с мыслью о собственном расстреле. Обнимая сына, я представлял, как однажды ночью дуло пистолета коснется моего затылка. «Будет ли оно холодным? Вряд ли, – переворачиваясь с боку на бок, как правило, пьяный, рассуждал я. – Одного меня расстреливать никто не станет – соберут группу, и значит, едва коснувшись головы, ствол обожжет. Впрочем, уже мгновеньем позже пуля повалит меня на пол, а я толком и не успею испытать особенного дискомфорта из-за перегретого ствола».
Разглядывая потолок, улыбаясь спящему Феликсу, нередко я представлял, как пуля разорвет кожу, просверлит череп и выйдет через глаз или рот. Звучит как финал, я знаю, однако на этот счет у меня имелось иное соображение. Я знал, что даже после расстрела не перестану дышать. Я знал, что, когда палач, пусть это будет сам Блохин, решит нажать на курок, за мгновение до выстрела я чуть дернусь, и это позволит мне выжить. Да-да, милая, я все рассчитал! Среди всех дневников, которые при обыске изъяли товарищи Козлов и Лягин, расстрелу моему была посвящена едва ли не половина тетрадей – страницы, расчерченные траекториями, пулями и дульными срезами. Думаю, однажды мои расчеты станут истинным лакомством для профессиональных баллистиков, если, конечно, Перепелица не уничтожит их. Впрочем, я не к тому. Я хотел рассказать тебе, милая, что, перерисовывая собственную казнь, я предвосхищал разные планы и устремления пуль, однако всякий раз констатировал один и тот же исход – пульс.
Таков был мой план. Я знал, что в ночь расстрела найду в себе силы сыграть смерть. Вот. Вот она великая роль, о которой другие артисты могли только мечтать! Я не сомневался, что отыграю собственную смерть так, что в нее поверят три главных критика Советского Союза – три сотрудника НКВД. Словно в награду, признавая мой талант, за ноги они вытащили бы меня на внутренний двор и бросили бы к другим трупам в машину. После же, едва грузовик с надписью «шампанское» выехал бы за пределы тюрьмы, я выпрыгнул бы из кузова…
– Смельчака из себя строишь? Думаешь, что первый у меня такой? Думаешь, до тебя тут не было людей, которые заблуждались, что смогут избежать наказания? Ты хоть понимаешь, Нестеренко, сколько мы таких, как ты, перемололи и не заметили?
– В силу профессии догадываюсь…
– И правильно делаешь! Поэтому еще раз объясняю тебе: не нужно производить на меня впечатление, не нужно из кожи вон лезть и стараться показать, что ты смелее или лучше, чем есть на самом деле, просто отвечай на мои вопросы и показывай по существу!
– Как скажете, гражданин начальник…
– Хорошо! На этом мы сегодня прервемся, а в следующий раз ты будешь отвечать четко и кратко, понял меня?
– Да.
Так заканчивается мой первый саратовский допрос, дорогая. В целом я остаюсь собой доволен. Время выиграно, и толком ничего не прояснено. Я держусь молодцом. О моей шпионской деятельности мы, в сущности, даже не заговариваем. Индия, кремация, Маяковский – все это к делу не приобщить. Перепелица только начинает расставлять капканы, но пока – чаще сам цепляется за мои крючки. Правда в том, моя милая, что у нас с ним разные цели: он должен убить меня, я же намерен убивать время. Благо в этой игре у меня есть некоторый опыт. Я собираюсь отнекиваться до тех самых пор, пока следователь не удостоверится в моей невиновности – это и есть мой план «А». Впрочем, план «Б», как ты уже поняла, у меня тоже имеется…
Допрос второй #
– Гражданин начальник, в Индии, когда муж уходит в иные миры, вдова совершает омовение. Она распускает волосы и, надев лучшее платье, вместе с родственниками идет к месту кремации супруга. Взявшись за руки, близкие окружают ее, сковывают ей ноги и кладут голову на тело любимого…
– Отрубленную?
– Что отрубленную?
– Голову отрубленную кладут?
– Да вам бы лишь бы отрубить, гражданин начальник! Живую! Живую, конечно! К женщине подходят знакомые, угощают ее сладостями и просят передать сообщения усопшим родственникам в мир мертвых. Неплохая традиция, верно? Нам бы тоже ее ввести. Как только видите, что за тем или иным товарищем приехал воронок – хорошо бы не по шкафам прятаться, а подбежать да успеть передать приветы в иные миры, верно?
– Не отвлекайся – у нас мало времени! Так что там дальше они делают?
– А дальше жрец читает мантры, окропляет голову вдовы водой, и после этого дорогие родственники поджигают поленья. Женщину мгновенно охватывает пламя, но цепи уже не дают ей вырваться. Она кричит, но уходит вместе с мужем. Так что, если моей жене и суждено пройти через череду допросов, она через них обязательно пройдет, гражданин начальник, но не более того…
– Проверим.
– Валяйте…
Как ты понимаешь, милая, женой меня Перепелица, конечно, пугает, впрочем, как и расстрелом. Зря. К этому страшному для других арестантов слову я давно готов. Смерть я примеряю десятилетиями – смерть на мне сидит хорошо. С ней я и танцую, и засыпаю, и говорю по душам. Со смертью я так хорошо и близко знаком, что мы уж даже и не флиртуем…
В годы Великой войны, как ты помнишь, я председательствовал в военно-полевом суде. Хотя решения подобные меня всегда тяготили, нередко приходилось приговаривать к расстрелу дезертиров. Казни эти получались обыденными и некрасивыми. Без барабанов, эшафотов и гильотин. Так, пустяк, смерть на заднем дворе. В подобные дни она проходила мимо, даже не поздоровавшись со мной…
Кажется, я до сих пор помню двух первых пареньков, которых не смог оправдать. Дурачье. Самострелы. Мне их жаль было – оба совсем сопляки, однако, что я мог поделать? Правила военного времени. Снисхождения моего никто бы не принял. Даже однополчане, которые уже следующим утром собиралась бежать с фронта, спрашивали, в котором часу мы расстреляем этих детей. Война затягивалась, уклонисты росли как грибы после дождя, и, хотя я полностью разделял их стремление жить, положение вынуждало меня выносить обвинительные приговоры, коих с каждым днем становилось всё больше.
Теперь я понимаю, что более всего прочего война отвратительна тем, что обязывает тебя убивать против собственной воли.
Знаешь, милая, наблюдая за казнями, я нередко замечал, как после расстрелов мои сослуживцы начинали прикидывать смерть и на себя: «А как это будет со мной? А ударит ли дождь, а всплакну ли я?»
Вопросы эти нередко обсуждались и во время попоек. Одни офицеры утверждали, что никакого смысла в предсмертных бравадах нет, что какой толк демонстрировать мужество, если тебя через мгновенье потащат за ноги, другие, напротив, настаивали, что человек должен оставаться собой до конца, что без этого финального и символичного вызова жизнь нельзя считать завершенной. Более того, многие мои «товарищи» с пеной у рта доказывали, что одно такое секундное малодушие способно перечеркнуть все представление о человеке: «Никто не вспомнит, как ты вел себя в бою, но все вспомнят, как ты просил о пощаде во время расстрела, и даже наоборот – можно всю жизнь быть подлецом и трусом, но расстрел позволяет тебе в корне исправить представления о себе всего за несколько секунд!»
Впрочем, все эти досужие дебаты велись о смертях чужих. Что же касается кончины собственной… надо полагать, что реальное ощущение неминуемости расстрела пришло ко мне не на войне, а много позже, уже в Москве. С определенного времени у печи крематория начали появляться не только трупы неизвестных мне граждан, но и люди, которые долгие годы эти самые трупы привозили. Шутка ли – я кремировал того же Голова… Он доставил на Донское кладбище не одну тысячу расстрелянных, вместе с ним было выпито озеро водки, но однажды его вдруг арестовали, а потом спустя несколько месяцев знакомое тело выбросили из кузова грузовика.
В ту ночь вместе с Блохиным мы сделали вид, будто ничего особенного не происходит, – очередной заключенный, но что с того? И все же, люди взрослые, мы оба понимали, что в печь отправляется один из нас, что репрессии бьют по всем, и, если Голов уже здесь, значит, во время допросов стопроцентно всплывали и наши фамилии.
«С ним понятно, – думал я, – но как быть со мной? Интересно, дело на меня уже завели? А что там написано? В чем они обвиняют меня? И главное – Блохин расстреляет меня или я успею кремировать его?»
Когда мысли эти стали ежедневными, я принялся репетировать собственную смерть. Представляя все детали предстоящего действа, как актер в театре, я начинал практиковать будущий расстрел. Однажды, уже изрядно приняв на грудь, я даже спросил у Блохина:
«Михалыч, а как бы ты расстрелял меня, а?»
«Что?!»
«Я говорю, как ты меня однажды расстреляешь?»
«Петь, отвали – дай отдохнуть!»
«Ну нет, мне интересно, как это будет?»
«Быстро, Петь…»
«А быстро – это как?»
«Млядь, ты че? Хера ты заладил, а? Мне вот плевать, как ты меня кремируешь…»
«Тебе плевать, а мне нет! Мне интересно! Вот подойду я к тебе, стану затылком, но руку-то пожму?»
«Во-первых, во время расстрела руки у тебя будут перетянуты проволокой. Во-вторых, не ты ко мне подойдешь, а тебя поставят в “красный уголок”. Я подойду сзади, вот так пистолет приставлю и выстрелю. Ничего особенного, Петь…»
«А тебе будет жалко меня?»
«Нет…»
«Ну-у, неужели ты вообще ничего не почувствуешь?»
«Я тебя даже не узнаю…»
«А потом?»
«А потом я сниму свой кожаный плащ, разденусь до пояса и помоюсь одеколоном, чтобы порохом и кровью твоей поганой не вонять – наливай давай!»[1 - В действительности счет будет ничейным. ЦДКА – «Динамо» 0: 0. Блохин не расстреляет меня – я не кремирую его. Сразу после смерти Сталина, в апреле 1953 года, Василий Михайлович будет отправлен в отставку, а уже в феврале 55-го, не представляя собственной жизни без любимой работы, от тоски и пьянства умрет в центре Москвы. Блохина похоронят на Донском кладбище близ Первого Московского крематория. Палач окажется буквально в одной земле с тысячами им же расстрелянных людей, но с той лишь разницей, что у жертв советских репрессий могил не будет, а Василий Михайлович Блохин получит едва ли не лучшее место у самого входа на кладбище, рядом с монументом бывшему председателю Государственной думы Сергею Андреевичу Муромцеву. Судьба.]
В ту ночь, репетируя собственный расстрел, я, конечно, задал наивный вопрос. Что за глупость? Ну, естественно, палач бы не дрогнул – на то он и палач! К моменту нашей беседы Блохин перебил тысячи советских граждан. Вдох или выдох. Чих. Блохин обладал безэмоциональностью, которой позавидовали бы многие из машин. Тик. Так. В сущности, он был идеален. О стойкости этого человека следовало слагать легенды, ведь комендант Блохин был и оставался не человеком даже, но спусковым курком.
Однажды Василий Михайлович рассказал мне про своего коллегу из Украины, коменданта Нагорного, – тот перебил почти всю собственную комендатуру – то есть все свое ежедневное окружение. Воистину сюжет, заслуживающий отдельной театральной постановки! Ты, конечно, лучше в этом разбираешься, милая, но мне кажется, что в его истории была невероятная внутренняя пружина! Комендант Нагорный из города Киева жил двойной жизнью: по утрам он был занят решением бытовых проблем, выдавал сапоги и ключи, а по ночам, как и многие другие коменданты Советского Союза, становился палачом. Сперва он расстрелял одного знакомого сослуживца, затем второго, третьего. Так, день за днем, украинский коллега Блохина уничтожал людей, которые составляли его ареал. Знакомый комендант – последнее, что видели киевляне в своей жизни. Каково же должно было быть их удивление! Этот маленький человек, которому они так запросто хамили, этот серый простачок, которому они приказывали поскорее выдавать им канцелярские предметы и обещали написать жалобу, теперь вершил их судьбу…
«Вот с кого нужно брать пример! – опрокидывая рюмку, однажды с улыбкой сказал мне Блохин. – И вот почему нельзя хамить таким людям, как я!» – «Никому вообще нельзя хамить…» – добавил я.
Все эти последние годы, милая, возвращаясь домой под утро, я все чаще ложился в кровать с мыслью о собственном расстреле. Обнимая сына, я представлял, как однажды ночью дуло пистолета коснется моего затылка. «Будет ли оно холодным? Вряд ли, – переворачиваясь с боку на бок, как правило, пьяный, рассуждал я. – Одного меня расстреливать никто не станет – соберут группу, и значит, едва коснувшись головы, ствол обожжет. Впрочем, уже мгновеньем позже пуля повалит меня на пол, а я толком и не успею испытать особенного дискомфорта из-за перегретого ствола».
Разглядывая потолок, улыбаясь спящему Феликсу, нередко я представлял, как пуля разорвет кожу, просверлит череп и выйдет через глаз или рот. Звучит как финал, я знаю, однако на этот счет у меня имелось иное соображение. Я знал, что даже после расстрела не перестану дышать. Я знал, что, когда палач, пусть это будет сам Блохин, решит нажать на курок, за мгновение до выстрела я чуть дернусь, и это позволит мне выжить. Да-да, милая, я все рассчитал! Среди всех дневников, которые при обыске изъяли товарищи Козлов и Лягин, расстрелу моему была посвящена едва ли не половина тетрадей – страницы, расчерченные траекториями, пулями и дульными срезами. Думаю, однажды мои расчеты станут истинным лакомством для профессиональных баллистиков, если, конечно, Перепелица не уничтожит их. Впрочем, я не к тому. Я хотел рассказать тебе, милая, что, перерисовывая собственную казнь, я предвосхищал разные планы и устремления пуль, однако всякий раз констатировал один и тот же исход – пульс.
Таков был мой план. Я знал, что в ночь расстрела найду в себе силы сыграть смерть. Вот. Вот она великая роль, о которой другие артисты могли только мечтать! Я не сомневался, что отыграю собственную смерть так, что в нее поверят три главных критика Советского Союза – три сотрудника НКВД. Словно в награду, признавая мой талант, за ноги они вытащили бы меня на внутренний двор и бросили бы к другим трупам в машину. После же, едва грузовик с надписью «шампанское» выехал бы за пределы тюрьмы, я выпрыгнул бы из кузова…
– Смельчака из себя строишь? Думаешь, что первый у меня такой? Думаешь, до тебя тут не было людей, которые заблуждались, что смогут избежать наказания? Ты хоть понимаешь, Нестеренко, сколько мы таких, как ты, перемололи и не заметили?
– В силу профессии догадываюсь…
– И правильно делаешь! Поэтому еще раз объясняю тебе: не нужно производить на меня впечатление, не нужно из кожи вон лезть и стараться показать, что ты смелее или лучше, чем есть на самом деле, просто отвечай на мои вопросы и показывай по существу!
– Как скажете, гражданин начальник…
– Хорошо! На этом мы сегодня прервемся, а в следующий раз ты будешь отвечать четко и кратко, понял меня?
– Да.
Так заканчивается мой первый саратовский допрос, дорогая. В целом я остаюсь собой доволен. Время выиграно, и толком ничего не прояснено. Я держусь молодцом. О моей шпионской деятельности мы, в сущности, даже не заговариваем. Индия, кремация, Маяковский – все это к делу не приобщить. Перепелица только начинает расставлять капканы, но пока – чаще сам цепляется за мои крючки. Правда в том, моя милая, что у нас с ним разные цели: он должен убить меня, я же намерен убивать время. Благо в этой игре у меня есть некоторый опыт. Я собираюсь отнекиваться до тех самых пор, пока следователь не удостоверится в моей невиновности – это и есть мой план «А». Впрочем, план «Б», как ты уже поняла, у меня тоже имеется…
Допрос второй #
Другие электронные книги автора Саша А. Филипенко
Травля (сборник)




 4.67
4.67
Бывший сын




 4.67
4.67