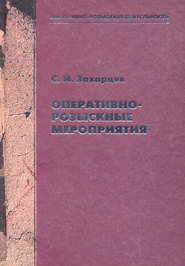По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Институт реабилитации в Российском законодательстве. Возникновение, развитие, понятие, перспективы
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1) уголовно-процессуальным правом;
2) административным правом;
3) гражданско-процессуальным правом;
4) арбитражно-процессуальным правом.
Таким образом, есть все основания утверждать, что институт реабилитации является межотраслевым правовым институтом.
В связи с изложенным полагаем, что назрела необходимость законодательного закрепления института реабилитации в административном, гражданско-процессуальном и арбитражно-процессуальном законодательстве.
Подводя итог и учитывая проведенный анализ отраслевой принадлежности института реабилитации, следует дополнить вывод, к которому мы пришли ранее, говоря о данном явлении как об институте права, следующим определением: реабилитация как совокупность однопорядковых норм, регулирующих определенный вид общественных отношений, представляет собой межотраслевой комплексный институт права.
3. Понятие и содержание политической реабилитации
Говоря о реабилитации необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и необоснованно подвергшихся наказанию и репрессиям, необходимо, особенно с учетом российской истории, выделить и понятие политической реабилитации.
Рассматривая понятие и содержание политической реабилитации, Г. 3. Климова и И. Н. Сенякин понимают под ней восстановление прав граждан и народов, подвергшихся мерам государственного принуждения по политическим или религиозным мотивам; по мнению ученых, это комплексная проблема[57 - Климова Г. 3., Сенякин И. Н. Реабилитация как правовой институт (вопросы теории и практики). Саратов, 2005. С. 129–130.]. В. Н. Кудрявцев и А. И. Трусов обоснованно отмечают, что, рассматривая вопросы репрессий по политическим, социальным и религиозным мотивам, следовало бы вместо термина «реабилитация» использовать понятие более широкое, как оно дано в законе, а именно – «восстановление всех прав жертв политических репрессий»[58 - Кудрявцев В. Н., Трусов А. И. Политическая юстиция в СССР. СПб., 2002. С. 357.]. Думается, это совершенно правильное предложение.
Преследование по политическим, социальным и религиозным мотивам имело место не только в России и не только в период советской власти.
По мнению многих исследователей, деятельность политической юстиции и политические репрессии, в том числе и в России, имеют более глубокие корни в истории.
В Судебнике 1497 г. государственные преступники были отнесены к «государственным убийцам и крамольникам», подлежащим смертной казни[59 - История государства и права зарубежных стран: Хрестоматия/ Авт. – сост. Н. Н. Ягур, Минск, 2004. С. 215.].
В Соборном уложении 1649 г. ряд статей предусматривал смертную казнь за совершение политических преступлений: «злостное умышление против государя», «непристойные речи» и пр.[60 - Российское законодательство X–XX вв.: В 9 т. Т. 3. / Под ред. А. Г. Манькова. М., 1985. С. 285–297.]
В Уголовном уложении 1903 г. политическим преступлениям было посвящено 30 статей[61 - Российское законодательство X–XX вв.: В 9 т. Т. 9 / Под ред. О. И. Чистякова. М., 1994. С. 275–320.].
Например, глава III «О бунте против верховной власти» предусматривала смертную казнь «за посягательство на императора или члена императорского дома, на извержение императора с престола или на "лишение" его власти верховной или на ограничение прав оной»[62 - Там же. С. 300–302.].
Исследователи полагают, что предварительное расследование политических дел проводилось царским правительством необъективно и пристрастно, практиковались фальсификация документов, допросы с пристрастием, пытки, провокации[63 - См., напр.: Полянский H. H. Царские военные суды в борьбе с революцией. 1905–1907 гг. М., 1958. С. 150.].
Главную репрессивную роль в делах о политических преступлениях играли военно-полевые суды, которые были учреждены Положением Совета Министров от 19 августа 1906 г. для борьбы с революционным движением.
По данному «закону» военно-полевому суду мог быть предан человек, совершивший любое преступление, если оно было «очевидным» и не нуждалось в расследовании. Военно-полевой суд рассматривал дело немедленно, без участия обвинения и защиты. Приговор представлялся на утверждение генерал-губернатору или командующему войсками. Большинство обвиняемых приговаривались к смертной казни.
В период с 1902 по 1912 г. к военному суду за государственные преступления было привлечено 35 353 человека[64 - Иванов Г. М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства. М., 1997. С. 11.], а за восемь месяцев 1906–1907 гг. к смертной казни приговорены 1102 человека[65 - Полянский H. Н. Царские военные суды в борьбе с революцией. 1905–1907 гг. М., 1958. С. 215.].
Известный криминалист M. H. Гернет указывал, что за период с 1826 по 1917 г. в Российской империи по политическим мотивам было казнено свыше 9 тыс. человек[66 - Гернет М. Н. История царской тюрьмы. М., 1956. Т. 5. С. 248.].
Нельзя не согласиться с мнением исследователей, что карательные меры, предпринимавшиеся царским правительством против его политических противников, в дальнейшем, после революции, послужили образцом для пришедших к власти большевиков[67 - Кудрявцев В. Н., Трусов А. И. Политическая юстиция в СССР. СПб., 2002. С. 35.].
Нет необходимости давать подробный анализ этой практики. Однако в период существования Советского государства репрессии по идеологическим мотивам получили такой размах, что политическая реабилитация стала видом, который занял существенное место в развитии самого понятия «реабилитация», зачастую подменяя последнее.
Это вызвано небывалым размахом репрессий как в судебном, так и во внесудебном порядке, которые имели место в период существования советской власти, в период так называемого «культа личности Сталина», особенно в тридцатые и в начале пятидесятых годов прошлого века.
По данным проведенных исследований, в судебном и внесудебном порядке было репрессировано более шести миллионов человек, причем по данным начальника архивного отдела Министерства государственной безопасности, которые в основном подтвердил и начальник КГБ В. Крючков, 827 955 человек было расстреляно[68 - См.: Там же. С. 329–335.].
Эти данные, разумеется, не отражают действительного положения, поскольку точное число репрессированных «тройками» и особыми совещаниями, по-видимому, не учитывалось. Не учтены и репрессированные военнопленные, которые после освобождения из плена вновь заключались в лагеря, зачастую без судебного решения и на длительные сроки. Также были репрессированы многие народы: их высылали с мест постоянного проживания.
В стране была создана политическая юстиция, которая действовала, по сути, вне закона, зачастую на основании нормативных актов Правительства и Политбюро ЦК КПСС. Не согласно закону, а вопреки ему судами принимались решения и выносились приговоры. Немало таких дел имело место и в Ленинграде. Рассмотрим несколько из них.
Постановлением «тройки» УНКВД по Ленинградской области от 13 сентября 1937 г. двадцатилетний Федулов[69 - Здесь и далее фамилии незаконно осужденных изменены.] был заключен в исправительно-трудовой лагерь на десять (!) лет.
В постановлении «тройки» указано, что Федулов был задержан на Обводном канале «среди деклассированного элемента». Вот и вся вина…
В ходе проверки, проведенной прокуратурой, было установлено, что Федулов никаких преступлений не совершал. «Следствие» по его делу продолжалось всего семь дней. Обвиняемому вообще не было предъявлено никаких обвинений.
Постановлением «особого совещания» при НКВД от 23 мая 1940 г. Спиридонова, которой исполнилось всего лишь восемнадцать лет, была осуждена как «социально опасный элемент» на восемь лет лишения свободы. «Прегрешения» Спиридоновой заключались в одном – она была знакома с гражданами, привлеченными к уголовной ответственности за квартирные кражи.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой, было установлено, что с лицами, совершившими эти корыстные преступления, были знакомы все жильцы дома, где они проживали, но никто, включая незаконно осужденную, не знал об их преступной деятельности.
Постановлением «особого совещания» при МВД СССР от 30 декабря 1949 г. вся семья Проносовых: семидесятилетний отец, шестидесятилетняя мать и тринадцатилетняя дочь осуждены к наказанию от пяти до двадцати лет каторжных работ лишь за то, что будучи высланы из южных областей страны, где у них был дом и приусадебное хозяйство, выехали с места «спецпоселения» в Ленинград, не имея на это особого разрешения, и возвращаться для постановки на «спецучет» не пожелали. Никто из Проносовых преступлений не совершал, они были высланы со своего постоянного места жительства исключительно по национальному признаку.
Постановлением «особого совещания» при НКВД СССР от 17 мая 1940 г. восемнадцатилетний Потапов был заключен в исправительно-трудовой лагерь на пять лет как «социально опасный (вредный) элемент».
Вот что написал пенсионер Потапов в прокуратуру: «Прошу вынести решение о законности моего ареста в 1940 г., так как я никаких преступлений не совершал.
Меня арестовали и доставили в "Кресты", где сидело трое военных, перетянутых крест накрест ремнями. Они зачитали мне приговор (суда не было). Эта процедура много времени не занимала, каждый из нас выходил из кабинета и говорил товарищам: "10 или 8 лет заключения".
Когда подошла моя очередь, я зашел в кабинет. Военные, может быть, увидев, что перед ними очень маленький, худой и болезненный парнишка, меня пожалели и объявили только 5 лет лагерей.
В товарных вагонах арестантского поезда нас отправили этапом из Ленинграда в Молотовск. Там был большой пересыльный лагерь. Весь путь я думал о самом дорогом для меня человеке – маме, которая, так и не дождавшись меня, умерла во время блокады зимой с 1941 на 1942 год.
Дальше нас, арестантов, собрали целый этап и отправили поездом в Архангельск. В порту посадили на пароход "Свияга", загнали в трюмную яму, закрыли сверху крышками и повезли через Баренцево море, держа курс в устье реки Печора. В пути потрепал нас шторм, и многих товарищей по несчастью мы не досчитались. Высадили арестантов на берегу Ледовитого океана, затем погрузили на баржи, и небольшой колесный буксир, не торопясь, потащил нас вверх по Печоре.
Когда прибыли к месту заключения, наверное, добрая половина арестантов умерла. Я же чудом выжил, хоть и сильно болел.
Работали мы на угольной шахте, там и жили. Самыми страшными врагами для заключенных были долгая зима и цинга, от которой многие умерли. И тут мне повезло – снова выжил.
Мы, заключенные, много раз писали письма высокому начальству с просьбой отправить нас в действующую армию – на фронт, но ответов так и не дождались.
Свой срок я отбыл до конца, все пять лет. Освободился, когда началась ранняя весна, мой путь лежал по зимней дороге, по льду вниз по Печоре. Надо было пройти 200 километров в одиночку. Шел от деревни к деревне, чтобы выжить, необходимо было в день проходить по 30–40 километров. Но и тут мне повезло…
После освобождения еще 10 лет жил на Севере, так как в паспорте стояло клеймо – "запрещено жить в больших городах"».
По результатам проверки, проведенной прокуратурой, установлено, что Потапов никаких преступлений не совершал. Он был полностью реабилитирован.
В марте 1942 г. пятнадцатилетний Розенберг был выселен из Ленинграда и направлен на спецпоселение в Красноярский край.
В том же году Розенберг попал в больницу г. Енисейска, так как еще во время блокады Ленинграда страдал дистрофией и болезнью позвоночника. Был признан инвалидом I группы.
В 1946 г. Розенберга под наблюдением медицинской сестры направили на лечение в Крым, а затем в г. Нальчик.
После окончания курса лечения Розенберг, который уже мог самостоятельно передвигаться с помощью протеза позвоночника, выехал в Москву, где получил направление для поступления на учебу в Ленинградский индустриальный техникум.
В паспортном столе он узнал, что немцев в Ленинграде не прописывают, и в метрическом свидетельстве, при получении его копии, заменил национальность на эстонца.
2) административным правом;
3) гражданско-процессуальным правом;
4) арбитражно-процессуальным правом.
Таким образом, есть все основания утверждать, что институт реабилитации является межотраслевым правовым институтом.
В связи с изложенным полагаем, что назрела необходимость законодательного закрепления института реабилитации в административном, гражданско-процессуальном и арбитражно-процессуальном законодательстве.
Подводя итог и учитывая проведенный анализ отраслевой принадлежности института реабилитации, следует дополнить вывод, к которому мы пришли ранее, говоря о данном явлении как об институте права, следующим определением: реабилитация как совокупность однопорядковых норм, регулирующих определенный вид общественных отношений, представляет собой межотраслевой комплексный институт права.
3. Понятие и содержание политической реабилитации
Говоря о реабилитации необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и необоснованно подвергшихся наказанию и репрессиям, необходимо, особенно с учетом российской истории, выделить и понятие политической реабилитации.
Рассматривая понятие и содержание политической реабилитации, Г. 3. Климова и И. Н. Сенякин понимают под ней восстановление прав граждан и народов, подвергшихся мерам государственного принуждения по политическим или религиозным мотивам; по мнению ученых, это комплексная проблема[57 - Климова Г. 3., Сенякин И. Н. Реабилитация как правовой институт (вопросы теории и практики). Саратов, 2005. С. 129–130.]. В. Н. Кудрявцев и А. И. Трусов обоснованно отмечают, что, рассматривая вопросы репрессий по политическим, социальным и религиозным мотивам, следовало бы вместо термина «реабилитация» использовать понятие более широкое, как оно дано в законе, а именно – «восстановление всех прав жертв политических репрессий»[58 - Кудрявцев В. Н., Трусов А. И. Политическая юстиция в СССР. СПб., 2002. С. 357.]. Думается, это совершенно правильное предложение.
Преследование по политическим, социальным и религиозным мотивам имело место не только в России и не только в период советской власти.
По мнению многих исследователей, деятельность политической юстиции и политические репрессии, в том числе и в России, имеют более глубокие корни в истории.
В Судебнике 1497 г. государственные преступники были отнесены к «государственным убийцам и крамольникам», подлежащим смертной казни[59 - История государства и права зарубежных стран: Хрестоматия/ Авт. – сост. Н. Н. Ягур, Минск, 2004. С. 215.].
В Соборном уложении 1649 г. ряд статей предусматривал смертную казнь за совершение политических преступлений: «злостное умышление против государя», «непристойные речи» и пр.[60 - Российское законодательство X–XX вв.: В 9 т. Т. 3. / Под ред. А. Г. Манькова. М., 1985. С. 285–297.]
В Уголовном уложении 1903 г. политическим преступлениям было посвящено 30 статей[61 - Российское законодательство X–XX вв.: В 9 т. Т. 9 / Под ред. О. И. Чистякова. М., 1994. С. 275–320.].
Например, глава III «О бунте против верховной власти» предусматривала смертную казнь «за посягательство на императора или члена императорского дома, на извержение императора с престола или на "лишение" его власти верховной или на ограничение прав оной»[62 - Там же. С. 300–302.].
Исследователи полагают, что предварительное расследование политических дел проводилось царским правительством необъективно и пристрастно, практиковались фальсификация документов, допросы с пристрастием, пытки, провокации[63 - См., напр.: Полянский H. H. Царские военные суды в борьбе с революцией. 1905–1907 гг. М., 1958. С. 150.].
Главную репрессивную роль в делах о политических преступлениях играли военно-полевые суды, которые были учреждены Положением Совета Министров от 19 августа 1906 г. для борьбы с революционным движением.
По данному «закону» военно-полевому суду мог быть предан человек, совершивший любое преступление, если оно было «очевидным» и не нуждалось в расследовании. Военно-полевой суд рассматривал дело немедленно, без участия обвинения и защиты. Приговор представлялся на утверждение генерал-губернатору или командующему войсками. Большинство обвиняемых приговаривались к смертной казни.
В период с 1902 по 1912 г. к военному суду за государственные преступления было привлечено 35 353 человека[64 - Иванов Г. М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства. М., 1997. С. 11.], а за восемь месяцев 1906–1907 гг. к смертной казни приговорены 1102 человека[65 - Полянский H. Н. Царские военные суды в борьбе с революцией. 1905–1907 гг. М., 1958. С. 215.].
Известный криминалист M. H. Гернет указывал, что за период с 1826 по 1917 г. в Российской империи по политическим мотивам было казнено свыше 9 тыс. человек[66 - Гернет М. Н. История царской тюрьмы. М., 1956. Т. 5. С. 248.].
Нельзя не согласиться с мнением исследователей, что карательные меры, предпринимавшиеся царским правительством против его политических противников, в дальнейшем, после революции, послужили образцом для пришедших к власти большевиков[67 - Кудрявцев В. Н., Трусов А. И. Политическая юстиция в СССР. СПб., 2002. С. 35.].
Нет необходимости давать подробный анализ этой практики. Однако в период существования Советского государства репрессии по идеологическим мотивам получили такой размах, что политическая реабилитация стала видом, который занял существенное место в развитии самого понятия «реабилитация», зачастую подменяя последнее.
Это вызвано небывалым размахом репрессий как в судебном, так и во внесудебном порядке, которые имели место в период существования советской власти, в период так называемого «культа личности Сталина», особенно в тридцатые и в начале пятидесятых годов прошлого века.
По данным проведенных исследований, в судебном и внесудебном порядке было репрессировано более шести миллионов человек, причем по данным начальника архивного отдела Министерства государственной безопасности, которые в основном подтвердил и начальник КГБ В. Крючков, 827 955 человек было расстреляно[68 - См.: Там же. С. 329–335.].
Эти данные, разумеется, не отражают действительного положения, поскольку точное число репрессированных «тройками» и особыми совещаниями, по-видимому, не учитывалось. Не учтены и репрессированные военнопленные, которые после освобождения из плена вновь заключались в лагеря, зачастую без судебного решения и на длительные сроки. Также были репрессированы многие народы: их высылали с мест постоянного проживания.
В стране была создана политическая юстиция, которая действовала, по сути, вне закона, зачастую на основании нормативных актов Правительства и Политбюро ЦК КПСС. Не согласно закону, а вопреки ему судами принимались решения и выносились приговоры. Немало таких дел имело место и в Ленинграде. Рассмотрим несколько из них.
Постановлением «тройки» УНКВД по Ленинградской области от 13 сентября 1937 г. двадцатилетний Федулов[69 - Здесь и далее фамилии незаконно осужденных изменены.] был заключен в исправительно-трудовой лагерь на десять (!) лет.
В постановлении «тройки» указано, что Федулов был задержан на Обводном канале «среди деклассированного элемента». Вот и вся вина…
В ходе проверки, проведенной прокуратурой, было установлено, что Федулов никаких преступлений не совершал. «Следствие» по его делу продолжалось всего семь дней. Обвиняемому вообще не было предъявлено никаких обвинений.
Постановлением «особого совещания» при НКВД от 23 мая 1940 г. Спиридонова, которой исполнилось всего лишь восемнадцать лет, была осуждена как «социально опасный элемент» на восемь лет лишения свободы. «Прегрешения» Спиридоновой заключались в одном – она была знакома с гражданами, привлеченными к уголовной ответственности за квартирные кражи.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой, было установлено, что с лицами, совершившими эти корыстные преступления, были знакомы все жильцы дома, где они проживали, но никто, включая незаконно осужденную, не знал об их преступной деятельности.
Постановлением «особого совещания» при МВД СССР от 30 декабря 1949 г. вся семья Проносовых: семидесятилетний отец, шестидесятилетняя мать и тринадцатилетняя дочь осуждены к наказанию от пяти до двадцати лет каторжных работ лишь за то, что будучи высланы из южных областей страны, где у них был дом и приусадебное хозяйство, выехали с места «спецпоселения» в Ленинград, не имея на это особого разрешения, и возвращаться для постановки на «спецучет» не пожелали. Никто из Проносовых преступлений не совершал, они были высланы со своего постоянного места жительства исключительно по национальному признаку.
Постановлением «особого совещания» при НКВД СССР от 17 мая 1940 г. восемнадцатилетний Потапов был заключен в исправительно-трудовой лагерь на пять лет как «социально опасный (вредный) элемент».
Вот что написал пенсионер Потапов в прокуратуру: «Прошу вынести решение о законности моего ареста в 1940 г., так как я никаких преступлений не совершал.
Меня арестовали и доставили в "Кресты", где сидело трое военных, перетянутых крест накрест ремнями. Они зачитали мне приговор (суда не было). Эта процедура много времени не занимала, каждый из нас выходил из кабинета и говорил товарищам: "10 или 8 лет заключения".
Когда подошла моя очередь, я зашел в кабинет. Военные, может быть, увидев, что перед ними очень маленький, худой и болезненный парнишка, меня пожалели и объявили только 5 лет лагерей.
В товарных вагонах арестантского поезда нас отправили этапом из Ленинграда в Молотовск. Там был большой пересыльный лагерь. Весь путь я думал о самом дорогом для меня человеке – маме, которая, так и не дождавшись меня, умерла во время блокады зимой с 1941 на 1942 год.
Дальше нас, арестантов, собрали целый этап и отправили поездом в Архангельск. В порту посадили на пароход "Свияга", загнали в трюмную яму, закрыли сверху крышками и повезли через Баренцево море, держа курс в устье реки Печора. В пути потрепал нас шторм, и многих товарищей по несчастью мы не досчитались. Высадили арестантов на берегу Ледовитого океана, затем погрузили на баржи, и небольшой колесный буксир, не торопясь, потащил нас вверх по Печоре.
Когда прибыли к месту заключения, наверное, добрая половина арестантов умерла. Я же чудом выжил, хоть и сильно болел.
Работали мы на угольной шахте, там и жили. Самыми страшными врагами для заключенных были долгая зима и цинга, от которой многие умерли. И тут мне повезло – снова выжил.
Мы, заключенные, много раз писали письма высокому начальству с просьбой отправить нас в действующую армию – на фронт, но ответов так и не дождались.
Свой срок я отбыл до конца, все пять лет. Освободился, когда началась ранняя весна, мой путь лежал по зимней дороге, по льду вниз по Печоре. Надо было пройти 200 километров в одиночку. Шел от деревни к деревне, чтобы выжить, необходимо было в день проходить по 30–40 километров. Но и тут мне повезло…
После освобождения еще 10 лет жил на Севере, так как в паспорте стояло клеймо – "запрещено жить в больших городах"».
По результатам проверки, проведенной прокуратурой, установлено, что Потапов никаких преступлений не совершал. Он был полностью реабилитирован.
В марте 1942 г. пятнадцатилетний Розенберг был выселен из Ленинграда и направлен на спецпоселение в Красноярский край.
В том же году Розенберг попал в больницу г. Енисейска, так как еще во время блокады Ленинграда страдал дистрофией и болезнью позвоночника. Был признан инвалидом I группы.
В 1946 г. Розенберга под наблюдением медицинской сестры направили на лечение в Крым, а затем в г. Нальчик.
После окончания курса лечения Розенберг, который уже мог самостоятельно передвигаться с помощью протеза позвоночника, выехал в Москву, где получил направление для поступления на учебу в Ленинградский индустриальный техникум.
В паспортном столе он узнал, что немцев в Ленинграде не прописывают, и в метрическом свидетельстве, при получении его копии, заменил национальность на эстонца.