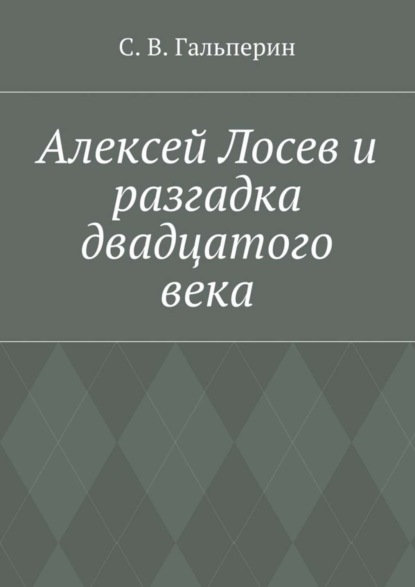По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Алексей Лосев и разгадка двадцатого века
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вернёмся, однако, к надёжной паре лосевских галош. Упоминая впервые об их самом самом, Лосев, конечно же, имел в виду именно пару галош как нечто целое, хотя левая галоша отличается от правой, и уже поэтому каждая из них обладает собственной индивидуальностью. Но ведь, надев галоши, сам их владелец вместе с ними тоже становится неким целым, и притом абсолютно индивидуальным. И вообще своё собственное самое само имеет любая совокупность вещей, располагающаяся всевозможными способами в пространстве и времени. Его наличие хорошо прослеживается по известному стихотворению Милна «Дом, который построил Джек» в превосходном переводе Маршака, где с домом последовательно связываются пшеница, синица, кот, пёс, корова и т. д. Обратите внимание: связь между ними создаёт вовсе не человек, а сама действительность, и связь эта, как нетрудно понять, всеохватывающая.
Но тогда вполне закономерным становится обобщающее заключение, предложенное Лосевым: во-первых, все вещи вместе образуют единое конкретное целое, которое с полным правом можно назвать абсолютным всем; во-вторых, это абсолютное всё имеет абсолютное самое само; наконец, в-третьих, каждая отдельная вещь, так же как и все вещи, взятые вместе, есть не что иное, как символы этого абсолютного самого сaмого.
Последний пункт, безусловно, нуждается в разъяснениях, и мы, конечно, находим их у Лосева. Греческое ???????? означает сбрасывать в одно место, сливать, соединять; так что для понятия «символ» вполне объяснимыми в применении к какой-либо вещи будут значения совпадения, объединения. А ведь любая, чувственно воспринимаемая вещь, вполне резонно заявляет Лосев, еще что-нибудь да значит; всё та же галоша, к примеру, не просто определённой формы изделие из резины, но (и это, пожалуй, для нас главное) предмет обуви; стало быть, совпадает со своим значением, составляет с ним одно целое и, значит, является символом. Тем более верно утверждение, что каждая вещь – символ своего самого самого: ведь именно в нём вещь как раз и есть она сама. Но поскольку всякая вещь входит в абсолютное всё, её самое само тоже как-то входит в абсолютное самое само. Последнее одинаково содержится во всех вещах, являясь именно поэтому абсолютнымсамымсам?м. А если так, то каждая существующая вещь есть символ абсолютного самого самого. Она одновременно и сразу оказывается, как различимой чувственно и/или мысленно, так и неразличимой, находящейся вне пределов не только чувственного восприятия, но и самой мыслимости.
Поскольку самое само не есть ни понятие, ни вообще что-то отличное от чего-нибудь или в себе расчленение, утверждает Лосев, к нему не может быть применён рациональный подход, логическое заключение. Акт схватывания и полагания самого самого является специфическим, в нём отсутствует рациональность, но нет и слепой иррациональности. Это очень зрячий акт, считает Лосев, он открывает очи ума на вещь как на неё саму. Её идея (смысл, значение) слиты с вещественной формой (материалом, веществом); это снимает противоречия материального и идеального, созданные абстрактными философскими методами. Вещь есть всегда она сама, понимать ли её как некое самое само (тогда она будет дана в свёрнутом виде) или как символ (тогда она будет в расчленённом, развёрнутом виде).
В одной неделимой и живой вещи совпадают конечное и бесконечное. Для доказательства этого Лосев опять-таки использует свои замечательные галоши, сношенные всего за три месяца после их приобретения. Попытки разобраться в том, как это случилось, с помощью обычных логических приёмов, приводят к сплошным противоречиям. Нельзя сказать, что галоши сколько-нибудь сносились от первого шага, сделанного в них при примерке в магазине во время покупки. Но тогда нет оснований утверждать, что их снос вообще начинается с какого-либо шага. Следовательно, такой подход сам по себе ошибочен: придется считать, что снос начинается с первого шага. Но какой должна быть ширина такого шага – конечный сдвиг, вызывающий минимальный снос, то есть реальная его мера? Её просто невозможно установить, утверждает Лосев, поскольку она бесконечно мала. Отсюда его совершенно неопровержимый вывод: в пределах трёх месяцев существования галош содержится бесконечное множество пространственно-временных сдвигов. А это значит, продолжает он, что в живых вещах бесконечное и конечное просто неразличимы. Вне зависимости от какого бы то ни было мировоззрения они полностью совпадают в одной и той же вещи, которая поэтому может сразу считаться и символом конечного, и символом бесконечного.
Лосев не раз ещё будет возвращаться (и мы вместе с ним) к самим истокам бесконечности, но первое обсуждение, приведённое выше, он связал с простой, обыденной вещью и сделал это, согласитесь, мастерски, виртуозно.
«Каков он, этот мир? Вот он каков…»
Своим первым учителем Лосев называет Камилла Фламмариона, широко известного в России в начале прошлого века популяризатора знаний о Вселенной, чьими книгами зачитывался четырнадцатилетний гимназист: «…Всё рисовал в таких тонах поэтических. И приучил меня вот к этому образу мышления, возвышенному и очень широкому. Это был чистый поэтический восторг перед абсолютной Вселенной, перед Мирозданием». Такое восприятие сохранилось у Лосева и после того, как соединилось с глубоко философским осмыслением. И ему оказались чужды жёсткие правила, которые предлагала усвоить уверенная в собственной непогрешимости наука: «Учебники читал, когда-то хотел сам быть астрономом, даже женился на астрономке. Но вот до сих пор никак не могу себя убедить, что Земля движется и что неба никакого нет… Читая учебники астрономии, чувствую, что кто-то палкой выгоняет меня из собственного дома и ещё готов плюнуть в физиономию. А за что?».
Впрочем, Лосев вовсе не ограничивается критикой учебника астрономии – он имеет в виду всю науку, всё еще не подозревающую, что, будучи реально творимой живыми людьми в определённую историческую эпоху, она всегда питается той или иной мифологией, черпая из неё свои исходные интуиции. Вы можете соглашаться с ним или нет, но вряд ли найдёте где-либо более точное, чем приведённое несколькими строчками выше описание зловещего явления – отчуждения, охватившего в завершившемся веке то, что именуют мировым сообществом, причём, далеко не последнюю роль в его распространении сыграла именно наука.
Однако критика должна быть конструктивной. Кант, к примеру, до того, как выступить со своей критикой чистого и практического разума, предложил гипотезы возникновения планет Солнечной системы, существования Большой Вселенной и заодно высмеял увлечение просвещенных современников мистикой. Лосев космогонических гипотез не выдвигает, но для начала призывает нас просто обратить внимание на окружающий мир: «Где этот мир? Каковы его свойства? Существует ли этот самый мир?». Ответы его очень своеобразны: «На все эти вопросы я могу только сделать указательный жест, и – больше ничего. Вот он, этот мир, говорю я, показывая рукой на всё окружающее. Каков он, этот мир? Вот он каков, говорю я, продолжая пользоваться тем же самым жестом. Но можем ли мы сказать что-нибудь большее?».
А что? Если довольствоваться убеждением «мир есть мир» (точно так же, как «вещьестьвещь»), то такой ответ действительно становится исчерпывающим. Перечислять свойства мира при этом – дело неблагодарное и к тому же совершенно бесполезное. Не так давно претендующая на истину в последней инстанции марксистско-ленинская философия предлагала воспользоваться всеохватывающим понятием «материя». Но что это, как не философская абстракция? Никто из нас никогда не имел дела с «материей» (разве что с тканой), но всегда с конкретной материальной вещью, то есть состоящей из какого-то материала. Стало быть, и мир, состоящий из бесконечного множества конкретных вещей, также предельно конкретен.
Но всё же ответ Лосева, выраженный лишь указующим жестом, вряд ли вас удовлетворит. Впрочем, он и сам на это не рассчитывал, убедительно доказав, что ответа на все эти вопросы относительно мира в целом просто нет. Речь может идти лишь о тайне мира, об абсолютной его самости (самом самом).
Так оно и есть – это подтверждает история мировых культур. Фундаментальные религиозно-философские построения, лежащие в их основаниях, сопровождавшие их расцвет и закат, являются, как показывает Лосев, в той или иной мере развитыми учениями об абсолютном самом самом. То, что не находило применения по отношению к обыденным вещам, становилось единственно необходимым при постановке целей весьма значительных и даже грандиозных. Происходило это всякий раз потому, что для человека внешний, чувственно и мысленно воспринимаемый им мир оказывался всего лишь проявлением тайны его непознаваемого начала, выходящей за пределы воображения и мышления. И хотя в достаточно развитых учениях есть место для материального и духовного, для восхождения человека от низшего к высшему, недосягаемой вершиной в них остается непостижимое, становящееся предметом веры.
Но вот какое открытие делает Лосев. Оказывается, все известные нам из истории религиозно-философские системы всегда базируются только на отдельных первичных интуициях, выражающих абсолютноесамоесамо. Именно такие интуиции, утверждает Лосев, наполняют жизненно-историческим содержанием все ступени этих систем. Мировые культуры так несхожи между собой, потому что многолико проявление абсолютного самого самого: каждая из них воспринимает его тайну по-своему.
Выявленные закономерности Лосев демонстрирует на конкретных примерах, начав с древнеиндийской культуры. В Упанишадах, – разделе священных Вед, – свою полную непознаваемость проявляет Брама-Атман, абсолют браманизма: он выше того, что есть, и того, что нет; он везде и нигде; в каждой душе и ни в какой; он только не то, не то, не то… Между тем само его существование выражает древнеиндийский дух – интуиции чувственной текучести. Отсюда учение о прельщении Брамы Майей («Иллюзией») и тройном результате их брака: творении мира, его сохранении и его уничтожении. Тяжёлый сон и самозабвение Брамы означают творение мира, а его постепенное пробуждение в растениях, животных и наконец в человеке тождественны с последовательным умерщвлением, уничтожением мира. Затем Брама вновь попадает в объятия Майи и снова всё повторяется. Так что живой лик Брамы выражает всего лишь абсолютизацию чистой текучести мёртвого вещества, её обожествление. Это мироощущение и вылилось в просветление основателя буддизма Гаутамы (избавление от страстей, желаний, страданий) и достижение нирваны, которая, по Лосеву, всего лишь субъективно-ощутительная сторона Брамы-Атмана.
Если попытаться самостоятельно применить лосевский подход к основаниям миропостижения в другой великой культуре Востока – древнекитайской, нетрудно будет обнаружить те же особенности. Здесь первичной интуицией также оказывается чувственная текучесть, воплощённая в Дао. Будучи источником всего, Дао растекается повсюду, то есть остаётся неопределённым началом и, безусловно, носит характер абсолютного самого самого. Однако текучесть эта обладает некоторой упорядоченностью – направленностью: Дао – это путь и пребывание в пути. Его нельзя свести к отвлеченной идее – путь необходимо пройти. Динамичность Дао проявлена как в стремлении к совершенствованию культуры тела (боевые искусства), так и в центростремительном характере бессмертных афоризмов Конфуция (одно из значений «дао» в китайском языке – «словесное сообщение»). Живой лик этого первоначала, в отличие от своего древнеиндийского «собрата», весьма беден – он не опирается на четкие мифологические образы, не требует яркого мистического озарения. Однако это не помешало ему быть основой мощной мировоззренческой традиции, определившей общеэтические нормы и смысл жизни отдельного человека на целые тысячелетия.
Обратимся теперь к выводам самого Лосева о миропостижении древних греков. Он исходит из того, что их основная интуиция – оформленность бытия в виде тел. Текучесть здесь упорядочена радикально: она расчислена, размерена, ограничена. Первичный символ античного духа, по Лосеву, – телесное существо, живое и разумное, хотя ещё и не личность. Однако попытка обнаружить живой лик непостижимого начала, которое этот дух символизирует, в богатейшей античной мифологии, ни к чему не приведёт. Абсолютное самое само выявляется впервые в Едином Платона, который показал, что Единое («одно») само по себе не может быть определено. Для того, чтобы о нём можно было мыслить, требуется обязательно «иное» (другое): тогда оно превращается в «одно сущее», то есть в то, что представляет собой всякое тело. К Единому у Платона восходит и идея Блага, где слиты бытие и знание, справедливость и красота. Далее, как вы уже знаете, неоплатоники связали это Единое с восходящими ступенями в своём учении, а его постижение – с экстазом, где познавательные акты сливаются в одну точку знания.
Лосев утверждает, что в античном принципе оформленности совмещены безличность живого тела и упорядоченная текучесть мёртвого вещества, а это не что иное, как число, естественным началом которого является единица. Таким образом Единое Платона и неоплатоников оказывается математическим выражением абсолютного самого самого, а также эстетическим, поскольку оно ещё и Благо.
Глубоко принципиальным следует считать выявление Лосевым главных особенностей выражения абсолютного самого самого в христианстве как в самостоятельной мировой культуре. Здесь учение об абсолютной самости со всей полнотой излагают Ареопагитики (богословские трактаты, создание которых наука относит к V веку), где на уровне высокой риторики (Лосев именует это «мистической музыкой»), закладываются основы апофатического богословия («апофасис» – отрицание). Бог – непознаваем. Он есть ничто из всего, поскольку Он сверх всего; первопричина всего. В Ареопагитиках воспевается высшее бытие, представляющее собой Личность, неведомую, но интимно-близкую, от Которой исходит живительная энергия – благодать. Вместо буддийской жажды самоусыпления здесь стремление достичь высших основ бытия, общаться с Личностью, Которая знает Себя и Сама способна к общению. Отвлечённая философия с её абстрактными категориями в этом случае становится просто излишней.
Несмотря на поразительное сходство экстаза неоплатоника Плотина с откровениями автора Ареопагитик, между миропостижением того и другого зияет пропасть. Она обнаруживается, когда безликому Единому противополагается наивысочайшее Имя — Святая Троица. Лосев со своей позиции православно понимаемого неоплатонизма разъясняет, что хотя в античном опыте были уже продуманы основные категории диалектики, всё это происходило без участия Личности. Первоединое, которое превыше всего, здесь не имеет имени, поэтому оно не имеет мифа, не имеет Священной истории, то есть всего того, что присуще Личности. Оставаясь в пределах миропонимания, порождённого интуицией тела, хотя бы и одушевлённого, неоплатоники оказались глубоко враждебными христианству с его первичной интуицией Абсолютной Личности. Сама текучесть бытия – Её проявление (промышление), которое человек способен осмыслить в той или иной мере.
Следуя лосевским выводам о сообщимости неисповедимой тайны, можно попытаться определить личность как тайну абсолютного самого самого, явленную в неисчерпаемости «Я». Естественно, она никоим образом не может быть сведена к человеку, являясь прежде всего тайной Абсолютной Личности. Но поскольку сам человек создан по образу и подобию Божию, он также несёт в себе личностное начало.
Таким образом, следуя за Лосевым, мы обнаруживаем в истоках мировых культур различные проявления тайны единого начала – абсолютного самого самого. При этом фундаментом мировидения автора служит православная позиция апофатизма – неисповедимости тайны, выходящей за пределы человеческого разума. Кстати, нам с вами предоставляется возможность сопоставить с этой позицией совершенно иную – противоположную. Она вырисовывается из концепции немецкого социального философа и историка Макса Вебера, оказавшей существенное воздействие на общественное сознание в странах Запада в прошедшем столетии.
Исходная идея социальной философии Вебера – концепция рациональности, корни которой он обнаруживает в самих религиозных началах. Согласно Веберу, в мировой истории существует три типа рациональности: индийский (индуистско-буддистский), китайский (даосистско-конфуцианский) и западный (иудаистско-христианский). Соответствующая каждому из них религиозная картина мира формирует основополагающий мотив человеческих действий: индийская ориентирует на бегство от мира; китайская – на приспособление к миру; западная – на овладение миром.
Особое место Вебер уделяет рациональности западного типа, где благодаря протестантской рационализации религиозной картины мира происходит лишение его покрова тайны. Итог – обессиливание религии и, следовательно, угроза существованию самого типа рациональности. Спасение автор видит в возрастании роли науки, которая одна сможет задавать направление рационализации в радикально «расколдованном» мире. Что же касается нравственных заповедей Св. Писания, то их роль, согласно Веберу, выполнит формируемая всё той же наукой «этика ответственности». Выводы делайте сами.
Первые старты
В 1983 году в Мюнхене вышла на немецком языке книга Лосева «Диалектика художественной формы», положив начало переизданию его «ранних» работ. Инициатором этого благородного дела стал известный историк философии Арсений Гулыга, а само издание осуществили немецкие почитатели Лосева – профессора Хагермейстер и Хаардт. Их подарок к 90-летию Лосева содержал дополнительный сюрприз: в списке его трудов, помещённом в книге, значилась неизвестная доселе в окружении Лосева статья «Die russische Philosophie».
В результате осуществлённого, что называется, по горячим следам поиска в научном зале «Ленинки» был обнаружен лишь недавно перемещённый из спецхрана экземпляр сборника «Ru?land: Geistesleben, Kunst, Philosophie, Literatur» («Россия: духовная жизнь, искусство, философия, литература»), изданный в Цюрихе в 1919 году. В нём страницы 79—109 действительно занимала работа Лосева, по форме напоминавшая очерк. Сам автор от каких-либо комментариев по поводу неожиданной находки отказался. Повторно эта работа увидела свет во 2—3 номерах журнала «Век ХХ и мир» за 1988 год, правда, в сокращённом виде. В полном объёме «Русская философия» была опубликована через два года после этого в сборнике лосевских материалов (бесед, воспоминаний, статей, писем), составленных Виктором Ерофеевым и названном «Страсть к диалектике».
Удивительная судьба этой работы побуждает обратиться ко времени создания её Лосевым. В активе молодого учёного к этому моменту были уже и устные доклады перед весьма солидной аудиторией и печатные работы. Но всё это ни в коей мере не исчерпывало его интересы, направленные к «высшему синтезу» – преодолению разобщённости между наукой, религией, искусством, философией. Мощный потенциал ищет выхода, в то время как его обладатель пока всего лишь учитель гимназии с университетским дипломом, хотя и готовящийся к получению профессорского звания.
В начале 1918 года Лосев предпринимает попытку организовать вместе с высокоавторитетными Вячеславом Ивановым и Сергеем Булгаковым издание книжек «Духовная Русь» религиозно-философского характера, не содержащих никаких партийных точек зрения и никакой злободневности. Сам Алексей Фёдорович на склоне лет вспоминал: «…Идея была замечательная, и сорганизовались быстро. Меня поставили в виде делового лица во главе этого безнадёжного, как оказалось, предприятия. И хотя, как я помню, получил от многих заинтересованных в подобных книгах лиц поддержку, дальше издательских коридоров дело не пошло…»
Сейчас можно с достаточно большой степенью достоверности выявить истинные причины неудачи, постигшей издателей, – для этого достаточно обратиться к воспоминаниям Вячеслава Ходасевича. Известный поэт, прозаик, критик серебряноговека, ставший на короткое время чиновником новой власти, со знанием дела рассказывает о первых успехах, достигнутых зарождающейся большевистской бюрократической машиной в борьбе с инакомыслием.
Сразу после октябрьского переворота правительство присвоило себе право распоряжаться всеми типографскими средствами. Для издания любой книги требовалось получить особый «наряд» на типографию и бумагу. Выдачу этих «нарядов» осуществлял Подотдел учета и регистрации при Отделе печати Московского Совета. И хотя прямая цензура была введена большевиками гораздо позже (в конце 1921 года), они, прикрываясь наступившим «бумажным голодом», получили возможность с самого начала своего правления отказывать в издании неугодной им литературы. Так что нетрудно объяснить безрезультативность в этих условиях любых попыток осуществить издание книжек «Духовная Русь», безусловно, враждебного воинствующему атеизму содержания.
Многие авторы, которым было что сказать в тот трудный год, несомненно, искали любую возможность для публикации своих работ, в том числе, и за пределами России. Лосевский очерк – прямое тому подтверждение. Возможно, он был заказан составителями сборника, в выходных данных которого значится В. Эрисман-Степанова – жена известного немецкого философа. Как бы то ни было, важен сам факт выхода в свет работы молодого, ещё не обретшего имени в научном мире, но переполняемого собственными творческими замыслами учёного, который собирается пролить свет на самобытную русскую философию.
В чём же, по мнению автора, её самобытность? Прежде всего – в отсутствии логической последовательности и системной упорядоченности, то есть именно того, с чем принято связывать философию как средство для приведения мыслей в порядок, и в чём подаёт пример немецкая философия, целиком состоящая из завершённых систем. В России же философия – интуитивное, можно сказать, мистическое творчество, не стремящееся к такому порядку, да и не видящее в нем особой необходимости. Конечно, справедливости ради, следует отметить, что ей всё же понадобился толчок со стороны: идеи французского Просвещения пробудили в XVIII веке философские интересы в России. Правда, отмечает Лосев, здесь слово «вольтерьянец» относилось, скорее к повседневной жизни, а не к философии: так обычно называли склонного к материализму вольнодумца. Впрочем, вскоре всё это было вытеснено влиянием на умы набиравшем в первой трети XIX века силу немецким идеализмом.
Однако уже в 40-е – 60-е годы в качестве его противников выступили славянофилы. Пройдя предварительно школу самого немецкого идеализма, они противопоставили его логическим построениям веру, которую питает не философская система, а цельноезнание, основанное на органической полноте жизни. Славянофильство представляло собой национально-романтическую идеализацию старины; оно исходило из того, что Россия верна цельной истине христианской Церкви, стало быть, свободна от расслаивающего духа рационализации, и её философия должна быть продолжением философии святоотеческой. Прямой противоположностью славянофильству стало «западничество», влиятельное в России в 40 – 80 годах, не признававшее за русской культурой никакой оригинальности и призывавшее к полному культурному воссоединению с Западом. Это направление носило исключительно публицистический характер, и ему далеко было до построения какой бы то ни было философской системы.
В 60-е – 70-е годы в России распространились пришедшие из Германии материализм и позитивизм, причем, по старорусскому обыкновению они обрели вполне практическое выражение. Наконец, сменившее материализм и западничество чисто идеалистическое направление, развившееся в конце XIX – начале XX века, также бесконечно удалено от систематизации, если она вообще возможна из-за широты поставленных задач и всеохватности философских откровений. Даже наиболее выдающиеся представители этого направления смогли наметить всего лишь общий план системы. У тех же их последователей, которые решили вести глубокую системную проработку задач, сами задачи вскоре сузились до пределов чистой теории познания.
Вместе с тем отсутствие завершённых философских систем в России компенсируется её художественной литературой, в которой часто разрабатываются основные философские проблемы, естественно, в исключительно практической, ориентированной на жизнь форме. То же самое следует сказать и о связанной с действительной жизнью публицистике, так что гениальных философов нужно искать среди фельетонистов, литературных критиков и теоретиков отдельных партий.
Итак, вместо чисто интеллектуальной систематизации взглядов, присущей европейской философии, в России развивается интуитивное, мистическое познание сущего в символе, образе, посредством воображения и внутренней жизненной подвижности. Корни таких принципиальных отличий Лосев обнажает, используя близкие ему самому взгляды страстного поборника самобытной русской философии Владимира Эрна.
Вл. Эрн рассматривает историю развития миропонимания на Западе как движение к господству рационализма. В борьбе с мистицизмом Средневековья новая философия оторвалась от хаотических основ сознания – иррациональной питающей почвы. Но она также оторвалась и от неба – вершин разума, живой гармонии цельного логоса и музыкального народного мифа. Поэзия в новой философии понимается как вымысел и развлекательность; природа – как иррелигиозное, механическое целое; бытие Божие – как логически обоснованная система понятий. Так как в основаниях всего лежит человеческий разум («рацио»), то всё то, что не укладывается в его границы и схемы, объявляется вымыслом, субъективным построением; мир становится бездушным и механическим. Рационализм отказывается от богатства индивидуальной, живой личности: она для него – всего лишь простой пучок перцепций (восприятий). Он мыслит вещественными категориями; вещественность занимает господствующее положение во всех учениях, вытекающих из новой философии.
Истоками русской философской мысли являются греко-православные представления. Их основание – не субъективно-человеческий, а объективно-божественный принцип. Он воплощен в Логосе. Поэтому русская философия в противоположность западноевропейскому рационализму провозглашает восточнохристианский логизм. Здесь познание Истины мыслимо лишь как осознание своего бытия в Истине. Теория познания в логизме не статична, как в рационализме, а динамична, она требует восхождения, и на вершинах познания находятся не ученые и философы, а святые. Высшее свое осуществление логизм находит в прагматике христианского подвига.
В атмосфере логизма центральное место занимает личность, поскольку всё существующее воспринимается здесь не иначе, как в категории личности. Она противостоит мёртвой концепции вещи в рационализме. Сама чистая вещность – лишь призрак, скрывающий тайный Лик мира от глаз падшего человека. В тайне своего личного бытия, в неисчерпаемости своей индивидуальности он оказывается гораздо ближе к постижению мира и к Богу, нежели при использовании отвлечённого понятия мёртвой вещности.
Естественно, достичь согласия между такими взаимоисключающими принципами невозможно, так что столкновение «рацио» и Логоса являются наиболее характерной чертой русской философии. Таков вывод самого Лосева.
Будучи ограниченным размерами статьи, автор знакомит читателя лишь с наиболее яркими, на его взгляд, мыслителями в истории самобытной русской философии, давая предельно краткую характеристику их учений. Это странствующий философ XVIII века Григорий Сковорода, осознающий свою миссию «Сократа на Руси»; Иван Киреевский и Алексей Хомяков, первыми выразившие дух России и её историческое призвание в основах славянофильства; созидатель мощного философского направления Владимир Соловьёв, которого его последователи назвали «русским Платоном» (из них Лосев уделяет внимание лишь Булгакову и Бердяеву). Он также не забывает упомянуть философов, как занимающих промежуточное положение между самобытной русской философией и западноевропейской, так и тех, кто находится непосредственно в русле последней, считая, однако, их работу бесплодной (впрочем, он выражает надежду на признание ими великой проблемы Логоса и поворот к ней).
Лосев приходит к важному историческому сопоставлению, анализируя главное направление развития самобытной русской философии в XIX веке. Начинающие его славянофилы основную проблему видели в антитезе «Восток и Запад», не покидая пределов русского духа и находя необходимую и достаточную опору для себя в традициях прошлого. Завершающим этот период Вл. Соловьёву и его ученикам этого оказывается недостаточно. Повинуясь откровениям Матери-земли, они в то же время проникнуты тревогой за будущее мира, им ближе мистический символизм Апокалипсиса. Идиллический романтизм и апокалиптическое предчувствие конца – так обозначает Лосев начало и конец этого стержневого направления.
Автор не скрывает своих собственных симпатий и антипатий – они то и дело проглядывают на протяжении всего очерка. Следовательно, чёткость его философской позиции не вызывает сомнений. Нет сомнений и в том, что здесь Лосев выражает и, по-видимому, вполне сознательно, предчувствия собственных грядущих прозрений и творений. Вот как он завершает свой обзор: «Самостоятельная русская философия, поднявшаяся на высокую ступень апокалиптической напряжённости, уже стоит на пороге нового откровения, возможно, также и новой кристаллизации этого откровения, то есть новых догм».
Но ведь всего через пять лет после появления из-под пера Лосева такого заключения, он завершит свой первый замечательный труд «Философия имени», затем одна за другой увидят свет следующие, столь же фундаментальные его работы. Вот и возникает весьма обоснованное предположение, что в обзоре «Русская философия» Лосев обозначил и собственную стартовую позицию, с которой начал своё беспримерное восхождение.
Сквозь строй рационалистического воинства
Вчитываясь в первый лосевский труд, опубликованный за рубежом, диву даёшься уверенности автора в своей правоте. Он не просто говорит о борьбе идей, он готов к ней – и уверен в победе. Молодой философ с воодушевлением цитирует соотечественников, хранящих верность Логосу, и не шибко жалует своих именитых коллег, следующих в русле западной философии.
А ведь борьба идёт непростая. Особую драматичность придаёт ей то, что, с одной стороны, Логос не может быть воспринят во всей полноте без средств рацио; с другой, – ограниченная лишь этими средствами западная мысль сама лишена возможности ощутить основания Логоса. В итоге самобытная русская философия, противопоставляя протестантскому рационализму православный логизм, в котором гармонично сочетаются вера и знание, использует саму отвлечённую западную философию как средство своего собственного развития и, в конечном счёте, творчески преодолевает её. Противная же сторона просто неспособна на адекватный ответ.
Но, как оказалось, она и не помышляла о какой-либо защите, тем более, о победе, «ибо нельзя победить логизм неосознанностью и бесчувствием». Зато, не видя и не чувствуя врага «как внутреннюю данность», будучи уверенной в собственной самодостаточности, западная философия вскормила и вспоила позитивизм как образ мысли, а прагматизм – как образ жизни; взлелеяла цивилизацию-монстра – «овеществленныйрационализм».
Впрочем, последнее определение выводит нас за рамки лосевской работы непосредственно к уже упоминаемому Вл. Эрну. Используя в своей статье отрывки из его книги о Гр. Сковороде, Лосев, вне всякого сомнения, был хорошо знаком и с другими трудами Эрна, прежде всего, со сборником статей «Борьба за Логос», изданном в 1911 году. Несомненно, он разделял его взгляды на обновление православного сознания с использованием философских принципов, на благотворную роль имяславия в христианизации ума, на необходимость поисков познавательных начал в античной философии.