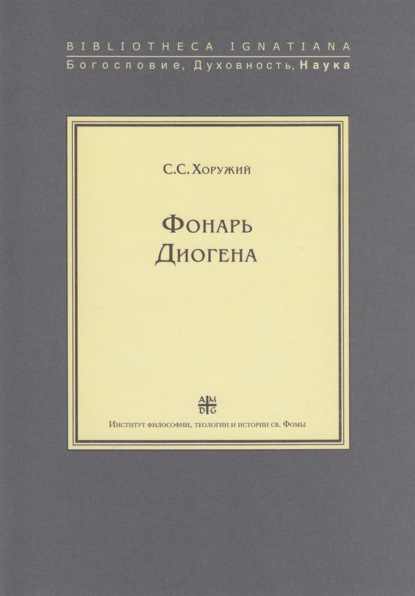По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фонарь Диогена
Автор
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фонарь Диогена
Сергей Сергеевич Хоружий
Bibliotheca Ignatiana
Книга проводит ретроспективный анализ эволюции понимания человека в европейской философии – от первой концептуализации человека у Аристотеля до теории практик себя Фуко. В призме сегодняшней антропологической ситуации, путь мысли о человеке предстает коррелятивным пути философии в видении Хайдеггера: «забвение бытия» находит себе соответствие в «забвении человека». Затронув бегло начальные этапы европейской антропологии, книга сосредоточивается на том, чтобы раскрыть генезис «антиантропологизма» классической метафизики у Декарта и Канта. Под избранным углом зрения, Система Гегеля оказывается предельной точкой антиантропологического тренда, а философия оппонента Гегеля Кьеркегора – начальной точкой противоположного тренда, возвращения к человеку. Начало и конец (на сей день) данного тренда получают наибольшее внимание: книга детально реконструирует антропологию Кьеркегора и позднего Фуко. В интервале меж ними выделены лишь Ницше и Хайдеггер (без обращения к которым антропологическая ретроспектива немыслима), а также Шелер – в качестве интересного примера, показывающего, как возможности, открываемые для антропологии феноменологией, могут быть полностью упущены.
Цели ретроспективы далеки от простой дескрипции: книга стремится понять движение мысли о человеке в свете сегодняшних проблем этой мысли, заново подвергающей рефлексии сами основания антропологии, ее статус и место в ансамбле гуманитарного знания. Эта фундаментальная проблематика освещается с позиций и в понятиях синергийной антропологии, нового антропологического направления, развиваемого автором. В последней главе синергийная антропология выступает явно: ее систематическое сопоставление с теорией практик себя позволяет наметить возможные стратегии продвижения к новой антропологии.
Сергей Хоружий
Фонарь Диогена. Критическая ретроспектива европейской антропологии
© Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2010
© Хоружий С. С., 2010
Пролог: человек в поисках человека
…Есть старая цирковая реприза, имеющая множество вариаций: «Дали подержать». На арене – Рыжий, нелепая и наивная, бестолковая фигурка. Кругом него люди, жизнь, снуют деловые, занятые персонажи; и кто-то на бегу, устремляясь куда-то мимо, сует ему в руки большой и неуклюжий, непонятный предмет. Растерянно озираясь, он стоит, бросает взгляды то на предмет, то вокруг по сторонам. Однако вручившего нет уже, а предмет – в руках; и мало-помалу Рыжий свыкается с предметом, окружает его вниманием. Постепенно он начинает чувствовать и осмысливать себя как Держателя Предмета, а Предмет – как свою задачу; начинает существовать в озадаченности Предметом. Но тут, едва он уж совсем вошел в роль, сжился с Предметом – следует столь же неожиданная, брутальная развязка: предмет грубо отбирают, награждая Рыжего тумаками. Рыжий рыдает.
Рыжий – я, каждый из нас. Предмет – человеческая участь, природа, жизнь: la condition humaine. Так, по крайней мере, заставляет считать наш прямой опыт собственной ситуации; таков этот опыт в непосредственной его данности, до всех редакций, пока на голос непредвзятого, из души, чувства и ощущения: Дар напрасный, дар случайный… – еще не послышалось назидания: Не напрасно, не случайно! Немудрящая реприза вобрала в себя едва ли не все главные слагаемые сырого антропологического опыта. Ибо всё так и есть: каждого наделяют неким устройством, внешним и внутренним, некой природой, движущей им, но ему самому неведомой, наделяют на некий ограниченный срок; и это всё – устройство, природа, срок – нисколько не в его власти, не в его ведении – «дали подержать». Как Рыжий, каждый может это тематизировать: может выяснить, что он, человек, сотворен Богом, или занесен с Альфы Волопаса, или произошел от обезьяны. Отсюда, в свою очередь, будет что-то следовать. Изменить ничего нельзя, но можно обдумать. Впрочем, нельзя и исключать, что пристальное обдумыванье не откроет в ситуации и каких-нибудь возможностей к изменению.
Итак, помимо рыданий, Рыжему еще дано рефлектировать; и ясно, что его рыдания задают сверхзадачу его рефлексии. Есть, пожалуй, единственная необходимая предпосылка человеческого существования: оно должно быть возможным. «Быть» означает здесь: представляться самому человеку, восприниматься, переживаться им. И самое удивительное в человеке – его фантастическая способность добиваться выполнения этой предпосылки – как в отношении существования вообще, как такового, так равно и в отношении конкретных, сколь угодно немыслимых, нечеловеческих образов и условий существования. В тетради Батюшкова, одного из тех, кому добиться не удалось, есть запись: Карамзин мне сказал однажды, человек, он всех тварей живущее, он все перенесть может. Нас занимает сейчас именно «всё», существование вообще. Представить его возможным (а если выйдет, то и наилучшим из всего возможного, достойным, возвышенным) призван верный слуга, послушный ум Рыжего, Hure Vernunft; и в исполнении задачи он проявляет поистине неистощимую изобретательность. Рождается множество решений, приспособленных ко всем эпохам, обществам и сословиям, выраженных во всех формах, жанрах, дискурсах. Необычайной убедительности здесь достигает искусство. «Я телом в прахе истлеваю – умом громам повелеваю». Это звучит. И все же наиболее прочного успеха добивается не эстетическое сознание, а религиозное и философское.
Когда-то один человек понял: мир, в котором убили Сократа, его учителя, безусловно, не есть настоящий мир. Как есть другой «Юрий Милославский», более настоящий, чем господина Загоскина сочинение, так есть другой мир, в котором Сократа убить нельзя, и только этот мир – настоящий. Конечно, и прежде, до него, иным думалось и верилось так, но он это понял до конца и до глубины, понял всем существом – и сумел сделать это высокой истиной, философской истиной. Высокой философской истиной стал самый надежный способ сделать существование возможным: отмена невыносимой единственности реальности. Есть настоящий мир, и ему имя – мир умопостигаемый, или бытие, или абсолютное бытие. В бытии не только не убивают Сократа, там не разыгрывается и ситуации «дали подержать», так что эта ситуация тоже ненастоящая. Рыжий перестает всхлипывать. Он обращает взоры и помыслы к бытию. Он сам, его ситуация отходят на второй план, они теперь лишь низкая «эмпирия»; в центре, фокусе мысли оказываются высокие истины, метафизические предметы. Проходят чредой века; воздвигается величественное сооружение классической европейской метафизики. Там есть всё – разумеется, в настоящем виде, умопостигаемом, в форме идеи. Есть, стало быть, и человек, хотя его разглядишь не сразу. Теперь он уже не столь важен, и его место в сооружении, или «антропология» – отнюдь не главное здание, а какой-то из дальних флигелей, где он к тому же содержится в расчлененном виде, как нечто смешанное и составное, определяемое целым набором разнообразных начал. Это составное сущее не чинит особых проблем для метафизического разума: человек неизменен и есть то, что он есть, иными словами, некая статичная данность; как такового, его можно охватить дефиницией, заключить в сеть категорий. Подобное обращение с человеком укореняется прочно и надолго: став умопостигаемым, Рыжий польщен и не возражает.
Хотя и нельзя сказать, чтобы Рыжий был целиком удовлетворен, чтобы метафизический образ себя самого и своей ситуации он бы безоговорочно счел с подлинным верными. Сомнения возникали – но до поры они не могли быть выражены в равноценной форме и на равноценном уровне; «метафизика» на много веков стала синонимом философии. Тем хуже для философии, однако! Сомнения питались реальным опытом, в котором человек видел, ощущал несогласие, расхождение с метафизической картиной; и на базе этого опыта возникала «многодонная жизнь вне закона». Изначально сюда немалой частью входил мистический опыт; но и не только он. Чувства и эмоции человека плохо укладывались в нормативные дискурсы метафизики; нормативная этика, неотторжимая часть метафизической дескрипции человека, никогда не могла вполне объяснить реальных человеческих действий. Со временем расхождения накапливались и усиливались. Разделяя судьбу всех зданий, и скромных, и грандиозных, строение классической метафизики ветшало, и будет верным сказать, что главным источником разрушительного процесса служила антропологическая реальность. Затем, в 20 столетии этот процесс резко изменяет свой характер, из постепенного он становится катастрофическим, обвальным. Он принимает всеохватный характер: с одной стороны, «жизнь вне закона» (метафизического) обретает свой язык, развивается основательная, кардинальная критика метафизического способа (хотя в гораздо меньшей мере возникают состоятельные, полноценные альтернативы ему); в то же время, опыт истории, опыт жизни доставляет радикальные, драстические несоответствия с метафизической картиной реальности, и метафизический дискурс оказывается явно неспособен дать понимание важнейших феноменов наступившей эпохи.
Сегодня процесс кризиса метафизического мышления – а с ним и классической европейской антропологической модели – практически достиг финала. Продолжая метафору, мы не скажем, что величественное здание – в руинах; но оно стало памятником прошлого, школой и кладовой мысли, а не ее творческой мастерской. Нового здания покуда нет – и Рыжий волей-неволей снова оглядывается по сторонам. Надо ли строить новое? слышны громкие голоса, что умнее существовать, занимая старые обиталища и их деконструируя на дрова. Очень может быть… Но в любом случае, Рыжему надо заново понять многое, заново разглядеть, что же за Предмет ему дали подержать. Критическое обозрение старых позиций – необходимое начало для продвижения к этой цели.
Часть I. Как потерять себя из вида
Предмет этой книги – Человек в его отношениях с его Границей: определяемый, конституируемый Границей – в философии; влекомый к ней, испытующий ее – в жизни. Мы убедимся, что такой подход – не сужение и не ограничение речи о Человеке: так может ставиться тема о Человеке как таковом. И, как я полагаю, лишь так она может ставиться в свете сегодняшней реальности Человека: тревожной, зыблющейся, неопределенной.
Открывающая книгу метафора говорит, что речь о ее предмете сегодня не может вестись на прежних основаниях классической европейской метафизики. Предстоит найти новый язык, новые принципы для антропологического дискурса, и современная мысль уже весьма активна в решении встающих проблем. Движимый и направляемый новым опытом, поиск в то же время неизбежно развертывается в освоенном пространстве мировой мысли о человеке, в диалогическом взаимодействии с традицией – или точней, с традициями, ибо рабочее поле мысли расширилось и глобализовалось, все более органично включая не только Запад, но и Восток. И вместе с тем, в этом расширившемся поле не может не служить особою, выделенной областью именно классическая европейская метафизическая традиция – та самая, в которой мы более не можем остаться. Это единственная область, где в распоряжении гуманитарной мысли есть достаточная система правил (само) организации и критериев (само)проверки: достаточная не в смысле позитивистской эпистемологии Поппера или Витгенштейна, а в смысле концептуальной структуры философского дискурса, менее формализуемой, но в своем роде не менее строгой и не менее обязательной. Поэтому лишь посредством соотнесения себя с этой областью мысль обеспечивает свое пребывание в сфере мыслительной культуры, без риска впасть – не столько в древнее «варварство» (едва ли оно есть еще на Земле), сколько в новейший беспредел тотального уравнивания и обесценивания всех установок, культурных, внекультурных, антикультурных… И это значит, что всякий опыт продвижения мысли заново обозревает «основоустройство», Grundverfassung, классической европейской метафизики, входя в тесную связь с теми или иными его элементами и темами.
С не столь большим упрощением классическую европейскую концепцию человека можно представлять стоящей на двух краеугольных понятиях: на применении к человеку понятия сущности (как сужающий вариант, субстанции) и понятия субъекта. Введение в антропологический дискурс каждого из них – ступень кардинальной важности, ассоциируемая с определенным именем в истории философии: сопоставление человеку понятия сущности есть вклад Аристотеля, понятие же субъекта – вклад Декарта. В качестве существенной промежуточной стадии между ними стоит выделить также вклад Боэция: введенное им понятие «индивидуальной субстанции» в ретроспекции предстает в точности – средним звеном, переходным этапом от человека Стагирита к человеку Картезия.
1. Человек Аристотеля
Разумеется, в грандиозном ансамбле философии Стагирита сущность, ?????, отнюдь не является специально антропологической категорией. Сущность – вершина в системе его понятий, принцип максимальной общности и эвристической силы, объединяющий собою весь аристотелианский порядок вещей. Поэтому, когда человек характеризуется как «сущностное образование», сущность и одновременно набор, собрание сущностей, он не специфицируется этим, а напротив, универсализуется, интегрируется в эссенциалистский миропорядок, объемлющий и чувственные, и умопостигаемые предметы. Выделение же, спецификация человека производится по дальнейшим принципам и признакам. Так, живое, а в его составе и человек, выделяется свойством порождения сущностей: «Все природное способно порождать себе подобную сущность… Человек способен порождать те или иные сущности из определенных первоначал»[1 - Аристотель. Большая этика, 1187 а30; b6. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 4. М., 1984. (В дальнейшем, все цитаты из Аристотеля – по этому изданию).]. Что же до человека как такового, то «человек есть в первую очередь ум… человеку присуща жизнь, подчиненная уму»[2 - Он же. Никомахова этика, 1178 аб.], а ум, в свою очередь, трактуется Стагиритом как способность постижения первоначал, оснований, достоверного, научного знания (ср. «Никомахова этика», кн. VI, 1141а 3–7). В приведенной цитате вторая часть – существенное развитие первой: специфическим отличием природы человека служит не столько ум сам по себе, сколько именно «жизнь, подчиненная уму», или же просвещаемая, регулируемая и управляемая умом деятельность: «Стремящийся ум или же осмысленное стремление… именно такое начало есть человек[3 - Там же, 1139 b5.]… Назначение человека – деятельность души, согласованная с суждением»[4 - Там же, 1098 а7.].
Как «стремящийся ум», человек представляет собой деятельный центр, источник «поступков», т. е. действований, сопряженных со стихией разума, с активностями анализа, суждения, выбора. За счет этой связи возникают разные категории поступков, и деятельная, «практическая», по Аристотелю, сфера человека приобретает развитое строение, многомерность. Дискурс Аристотеля не так подчеркнуто иерархичен, как дискурс Платона, но в нем столь же прочно присутствует аксиология; к вещам и явлениям прилагаются понятия высшего и низшего, благородного и низменного, более или менее достойного… С аксиологической шкалой сразу же, изначально связан и Аристотелев человек: «Ум – высшее в нас, а из предметов познания – высшие те, с которыми имеет дело ум»[5 - Там же, 1177 а20.]. Отсюда аксиологическая шкала переносится и в практическую сферу, на многообразие действий и поступков, – и, как первое главное следствие аксиологически-иерархического устроения этой сферы, возникает понятие «назначения» человека, уже нами встреченное выше. Коль скоро в человеке есть «высшее», то его действия, его жизнь, существование обретают назначение – служить этому высшему: «Надо делать все ради жизни, соответствующей наивысшему в самом себе»[6 - Там же, 1178 а1.]. Тем самым, среди всех категорий поступков выделяется наиважнейшая категория, поступки, служащие реализации назначения человека; они получают имя «нравственных». Полнота же осуществления назначения человека – не что иное как счастье (ср.: «при счастье не бывает ничего неполного»[7 - Там же, 1177 b26.]). Так конституируется этический дискурс, этическое измерение человеческой деятельности, «практики». Счастье (???????????) – высший принцип, вершина этического дискурса, а этика, наука нравственного действия, направляющего к достижению счастья, утверждается как главный вид знания в практической сфере.
Эта классическая концептуальная схема Стагирита станет универсальной основой европейского этического дискурса – т. е. системы индивидуальных установок, стратегий человека – на все будущие времена (межиндивидуальные, социальные стратегии составляют сферу политики). Не столь универсально, однако, конкретное наполнение этой схемы, которое определяется отождествлением «высшего» в человеке с умом. Из этого отождествления вытекает другое – отождествление счастья и назначения человека с погруженностью в самодостаточную, не имеющую эмпирических интересов, прикладных целей деятельность ума, – что именуется созерцательной жизнью, ???? ??????????. «Деятельность ума как созерцательная… помимо самой себя не ставит никаких целей… она и будет полным счастьем человека[8 - Там же, 1177 b20, 26.]… Кто проявляет себя в деятельности ума… устроен наилучшим образом и более всех любезен богам… Он же, видимо, и самый счастливый»[9 - Там же, 1179 а24, 31.]. Выделение и возвышение ума сближает человека Аристотеля с руслом дуалистической антропологии, в котором человек представляется двоицей противоположных, противостоящих друг другу начал или природ, смертной плоти и бессмертной души (духа). Это древнее русло, идущее от орфиков и пифагорейцев, включающее платоников и гностиков, не иссякло и в христианскую эпоху, поскольку традиция европейского идеализма восприняла античную установку, обособляющую и возвышающую начало ума. При этом, дуализм, вносимый в природу человека этой установкой, стал еще резче, поскольку, в отличие от античной онтологии единого бытия, онтология христианства утверждает разрыв, онтологическую дистанцию между горизонтами здешнего, эмпирического, и абсолютного, божественного; и хотя по внешности тезис Гегеля «Разум есть божественное начало в человеке»[10 - Г. В. Ф. Гегель. Философия религии. Т. 1. М., 1975. С. 230.] лишь повторяет Аристотелево «Ум в сравнении с человеком божествен»[11 - Аристотель. Никомахова этика. 1177 b32.], в действительности, он вносит в природу человека неведомую античности онтологическую двойственность. Однако в христианской мысли есть и иное русло, церковно-патристическое, мало представленное в философии, но строго хранящее неточные установки христианского мироотношения; и в этом русле нет ни дуализма в антропологии, ни интеллектуализма, идеала интеллектуального созерцания в этике. Оно основывается на холистическом образе человека, в котором ум составляет единство со всем человеческим существом (хотя обладает своей спецификой и наделяется особой задачей), и мы будем подробно говорить о нем ниже.
Итак, в измерении деятельности, «практики» (а это деятельное измерение для нас будет на первом плане), эссенциалистская антропология Аристотеля сводится, в существенном, к эвдемонистской и интеллектуалистской этике. Для дальнейшего важно отметить и некоторые другие ее особенности. Самая выпуклая и наглядная из них – нормативность, неизбежно сопутствующая эссенциальному дискурсу. Сущности связаны меж собой линейными причинно-следственными отношениями, действие которых носит характер безусловной необходимости. Реальность Аристотеля охватывается сплошной сетью причин и целей, и все, происходящее в ней, строго целенаправленно, телеологично. «Относительно всего, что называется случайным, всегда можно найти определенную причину, а не случай… Ничто не происходит случайно»[12 - Он же. Физика. II, 4.196 а5-10. Цит. изд. Т. 3. М., 1981.]. В сфере человеческого существования эта тотальная целенаправленность не снимается и даже не умаляется данными человеку возможностями выбора и принятия решений: здесь также существует полная и предзаданная система целей, и в поле решения и выбора – не цели, а только средства: «Сознательный выбор касается средств к цели…[13 - Он же. Никомахова этика. 1113 а14.] Решение наше касается не целей, а средств к цели»[14 - Там же, 1112 b2.]. Универсальный принцип регламентации всего существования человека – закон (?????).
Понимание этого концепта в античной мысли требует от нас аккомодации исторического зрения. Начиная с Нового Времени, областью закона мыслится, в первую очередь, сфера Природы, «законы природы» незыблемы и не знают нарушений; но в сфере человеческого существования, закон в иной и весьма проблематичной ситуации. По мере того как европейский разум выдвигает и продумывает оппозиции всеобщего и единичного, социального и индивидуального, закон все более делается предметом антропологического сомнения и критики. С эпохи романтизма, все прочнее укореняются представления о том, что живой человек есть скорее «беззаконная комета в кругу расчисленных светил», и все более обычным, расхожим делается суждение «Закон бесчеловечен». Закон выражает неумолимый диктат тех или иных, божественных или социальных, «вышних сил», безразличных к человеку, и тем самым, он переосмысливается, переводится в разряд антиантропологических начал. – Напротив, в античной мысли закон – самое несомненное антропологическое понятие. Человек заведомо подзаконен, проблематично же то, подлежит ли закону Космос, который божествен, таинствен и подчинить который закону – не будет ли не благообразно, богохульно?
Итак, Человек Аристотеля тематизируется на основе закона. Это понятие трактуется достаточно обобщенно: принадлежа, в первую очередь, сфере правовых отношений, оно переносится на всю деятельную сферу (хотя все же не расширяется за пределы антропологической и социальной реальности, до «законов космоса», и т. п.): «Закон (в числе прочего) велит быть благоразумным, приобретать имущество, заботиться о теле и тому подобное[15 - Он же. Большая этика. 1196 а2-3.]… Мы будем нуждаться в законах, охватывающих всю жизнь»[16 - Там же, 1180 аЗ.]. В итоге, человеческое существование всецело регламентировано сетью законов, действие которых выражается, очевидно, в нормах и правилах, – и хотя Стагирит еще не вводит категории «нормы», по праву можно сказать, что его этический дискурс и шире, дискурс всех индивидуальных и социальных стратегий человека носит нормативный характер.
Следует также указать, как выражены у Аристотеля аспекты статичности и динамичности, неизменного и меняющегося в антропологической реальности. Очевидно, что онтология единого бытия предопределяет онтологическую статичность антропологической модели: во всем, что свершается с человеком и что ему надлежит свершать, природа человека пребывает неизменной. Вместе с тем, имеется и элемент процессуальности (движения, изменения), который присутствует в представлениях о реализации этического идеала, достижении счастья; но этот элемент заключается лишь в переориентации жизненной практики на удовлетворение высшего в человеке, ума. Процессуальность такого рода – общая черта метафизики Стагирита: так проявляется присутствие в этой метафизике понятия энергии, важнейшего философского нововведения Аристотеля. В отличие от Платоновой идеи, аристотелево понятие сущности включает аспект осуществления, актуализации – извлечения, изведения данной сущности из потенциальности в актуальность. Этот аспект ее (который мы будем детальнее разбирать в следующей главе) выражают понятия энтелехии и энергии: сущность, рассматриваемая как полнота осуществленности – энтелехия, само же действие осуществления, активность актуализации есть энергия; так что можно сказать, что энтелехия есть сущность, поставленная в связь с энергией, увиденная в элементе энергийности. За счет этих понятий метафизика существенно углубляет свое видение реальности и расширяет ее орбиту, включая в нее действия и процессы. Однако одновременно она ограничивает себя определенным пониманием, определенной моделью процесса как такового – моделью, в которой всякий процесс видится «энтелехийно», как актуализация некой сущности. В дальнейшем, и в науке, и в философии такая модель окажется слишком узкой.
Надо заметить, однако, что в антропологии Аристотеля и, в частности, в его этике, понятия энергии и энтелехии, задающие наиболее глубокий уровень философского анализа, вовсе не применяются. Это симптоматично. Философствование греков далеко не было антропоцентричным, и антропологический дискурс нацело отсутствует в «Метафизике» Аристотеля, будучи сосредоточен не в философии, а в «практических науках», в этике, главным образом, и отчасти в политике, где философская рефлексия не достигала предельной глубины. Классическая европейская метафизика Нового Времени возродила структуру античной системы с присущей ей неразвитостью и вторичностью антропологического дискурса. Здесь, в частности, лежат и корни того, что становление философской модели человека в русле, идущем от античной философии к новоевропейской метафизике, затянулось на два тысячелетия, отделяющие Аристотеля от Декарта.
Прослеживая собственно философскую нить, мы оставляем в стороне развитие антропологических концепций в западной теологии (впрочем, оно и не было значительным). Как сказано выше, на всем пути до Декарта мы выделим всего лишь один промежуточный этап.
2. Боэций и проблема личности
Понятие личности для мысли, для философии, которая стоит этого имени, требует сразу вопроса: какой поворот в состоянии, в заботе человеческого существа, захваченного миром, привел к тому, что возникли эти исторические образования, юридическое и политическое и церковное понятие личности[17 - В. В. Бибихин. Ранний Хайдеггер. М., 2009. С. 212.].
Очередной раздел нашей ретроспективы, будучи также весьма краток, имеет, однако, весомые основания быть выделенным особо. В истории европейского человека Боэций – незаметный, но несомненный рубеж: своеобразная точка бифуркации, в которой обозначаются, чтобы затем разделиться, два разных пути европейской мысли о человеке. Намечающееся разделение имеет отчетливый центральный узел, топос, в котором оно рождается. Этот ключевой топос – проблема личности, которая отсутствовала в античной мысли и могла появиться, как неложно говорит наш эпиграф, лишь в результате некоторого существенного «поворота в состоянии человеческого существа». Бибихина здесь надо дополнить Гегелем: «поворот сознания» – известная гегелевская формула для опыта. Топос личности, а следом за ним и разделение, рождаются из нового опыта человека – опыта христианства.
Вернувшись к нашему беглому обзору антропологии Аристотеля, мы видим, что его выводы двойственны: налицо, с одной стороны, основательная, почти всесторонняя развитость этой антропологии, наличие в ней ответов на все (или почти все) принципиальные вопросы о человеке, но с другой стороны – ее, если угодно, несуществование: несуществование в качестве философской антропологии, полноправного раздела в составе Philosophia prima, и существование лишь в ряду «практических приложений» метафизики. Эта двойственность менее всего случайна. Закладывая фундамент концептуального мышления с помощью новооткрытых мощных орудий Сущности, Категории и Силлогизма, Стагирит действовал этими орудиями там прежде всего, где они оказывались действенны. Он концептуализовал то, что в первую очередь поддавалось концептуализации; а человек, уже и античный человек, был сложен, многолик, изменчив и для концептуализации трудно уловим. С ним приходилось поступать дисциплинарно, подчиняя его Законам, – что делали практические дискурсы, Этика и Политика, и откладывая, оставляя в стороне его собственно философское понимание, введение в Метафизику. За одним кардинальным исключением: в метафизику вполне органично включался Ум, и она охотно, с увлечением развивала речь об Уме; однако, как предмет метафизики, Ум отделялся от человека, и речь о нем уже не была частью антропологического дискурса.
Как сказано выше, эти структурные особенности равно присущи и античной, и новоевропейской метафизике. Антиантропологизм, вытеснение человека – имманентная черта метафизики как таковой, и человек – извечный Фирс метафизики: таково амплуа, прочно определенное ему в ней ее отцом. Но в ходе европейской истории был период, когда это амплуа на время поколебалось – или точнее, когда рефлектирующая мысль готова была покинуть метафизические рамки в пользу некоторого иного способа, который не вытеснял бы человека, а ставил его, напротив, в центр. Разумеется, этим поворотом к человеку – даже, если угодно, антропологической революцией – было пришествие христианства. Онтологическое событие Боговочеловечения, воплощение Бога в обычном порядке человеческого существования, в образе сына плотника, не могло с силой не обратить мысль к человеку – его природе, судьбе, границам. В философском его аспекте, Боговочеловечение – не что иное как утверждение тождества онтологии и антропологии. Христианство несло в себе мощный импульс антропологической переориентации всего мироотношения и мировоззрения, но эта революционная переориентация выразилась в форме своеобразной и неожиданной: она принесла с собой не новую философию, но отторжение философии как таковой, а новый антропологический дискурс, порожденный ею, будучи насыщенным и богатым, в то же время отнюдь не был философским дискурсом и обладал сложным и трудно обозримым строением.
Причиной отторжения философии обыкновенно называлась ее коренная связь с языческой религиозностью и ментальностью; но в нашем контексте эту причину лучше передать так: аутентичный христианский опыт (опыт актуального соединения со Христом) оказался принципиально отличен от аутентичного философского опыта (опыта философского изумления, воспроизводящего непрестанное обращение в Начало). Поэтому для своего выражения он создал существенно иной дискурс, дискурс «догматического богословия», в котором, в первую очередь, и выражались антропологические позиции христианства и его антропологические открытия, включая главнейшее – открытие Личности. Заключая в себе главные тезисы о человеке и его ситуации в бытии, богословский дискурс, тем не менее, не был антропологическим дискурсом (по крайней мере, явно), и антропологическое его содержание почти целиком было имплицитным, закодированным в форме высказываний о Боге. Другой важной составляющей христианской антропологии была практическая антропология аскетической традиции, развивавшейся в восточном христианстве, – и она была еще дальше от философского дискурса. Ее содержание, также включавшее немало антропологических открытий и новшеств, оставалось долгое время замкнуто в сфере практической религиозности, не получая продумывания и осмысления вне рамок самой традиции и ее специфического языка. В силу данных причин, в ходе формирования христианского вероучения, в эпоху патристики и Соборов, христианская антропология не была создана ни в философской, ни вообще в какой-либо цельной систематической форме. Что же касается философии, то она, в итоге, с приходом христианства нисколько не испытала антропологического поворота. Вместо этого она первоначально оказалась оттеснена богословием, а когда затем начала постепенно восстанавливать позиции, то, не пройдя внутренней трансформации, скорее отталкивалась от христианского богословия и влеклась к прежнему античному способу. Окончательным воссоединением с этим философским способом стала мысль Декарта.
Творчество Боэция – та фаза богословской мысли на Западе, когда собственно богословие еще не совсем отделилось в ней как от философии (метафизики), так и от антропологии. Аналогично, еще не вполне сложилось и разделение Западной и Восточной традиций христианской мысли. Церковь была единой, и единой была главная проблематика становящегося христианского богословия (хотя изначально существовали определенные различия как в выборе, так и в трактовке тем). Эта главная проблематика определялась интенсивным процессом формирования основ догматики христианства, тринитарного и христологического богословия. Оба этих проблемных поля имели общий центральный топос, которым и служила проблема Личности. Ее первое решение дано было Отцами-Каппадокийцами, и в нем были сразу же заложены основные принципы отношения к философскому дискурсу. Ведущий методологический принцип весьма удачно был определен о. Георгием Флоровским как «переплавка»[18 - Ср., напр.: «Недостаточно было взять философские термины в их обычном употреблении – запас античных слов оказывался недостаточным для богословского исповедания. Нужно было перековать античные слова, переплавить античные понятия. Эту задачу взяли на себя Каппадокийцы». О. Георгий Флоровский. Восточные Отцы IV века. Париж, 1931. С. 75.]. Классический пример ее – образование краеугольного понятия Ипостаси, или (Божественного) Лица. Исходное для Каппадокийцев содержание понятия – Аристотелев смысл ипостаси: «первая сущность», данное конкретное сущее в его самостоятельности. Затем, однако, это содержание кардинально дополняется и изменяется: искомым понятием Лица становится тождество:
??????????= ???????? = ???????i??,
где последний термин – театральная маска, роль, амплуа, тогда как средний, по Аристотелю («О частях животных»), обладал и анатомическим значением, обозначая «часть головы, которая ниже черепа»; и оба они прежде принадлежали обыденному, а не философскому языку. С утверждением такого тождества, ипостась отделяется от сущности (термин «первая сущность» выводится из употребления) и становится концептом иной природы, основывает собственный дискурс. Для философского разума, это тождество странно, эксцентрично, а лучше сказать, в нем – чистый пример того, что «для эллинов безумие». Ибо переплавка, им совершаемая, всецело руководилась аутентичным христианским опытом, отличным от опыта философского, как мы сказали. В силу этого, для христианского сознания ведущей нитью служила идущая прямо из опыта личного Богообщения интуиция Божественного Лица как бытия, наделенного самодовлеющей полнотой и одновременно – совершенною, абсолютной степенью присутствия, выраженности, явленности; и для выражения этой интуиции оно готово было привлечь любые средства и термины, философские или нефилософские – безразлично. Так возникала первая концепция личности – концепция Божественной Ипостаси, ставшая основой «теологической персонологической парадигмы». Очевидным образом, в этой парадигме понятие личности не относилось прямо и непосредственно к эмпирическому индивиду; отношение последнего к личности оставалось проблемой, которая получала решение уже на основе христологического богословия.
Боэций, продумывая наследие Каппадокийцев и их понятие личности, не оспаривает их персонологической парадигмы, но, на поверку, и не следует ей. От него ускользает скрывающаяся в ней переплавка, и поэтому, создавая, в меру сил, ее параллель в латинском дискурсе, сам он отнюдь не совершает никакой переплавки соответствующих латиноязычных понятий. Вследствие этого, категории личного бытия, которые в греческой патристике выступают как специфически богословские понятия, у Боэция еще свободно рассматриваются и как понятия антропологические (что приносит для антропологии заметную пользу). Боэций – не слишком оригинальный и крупный, однако пытливый и честный философский ум. Как философ, он принадлежит к руслу аристотелизма в позднеантичной редакции Порфирия; но когда те или иные факторы толкают его к выходу за пределы этого русла, он способен представить самостоятельное философское решение. Соответственно, мы не обнаружим существенной оригинальности в его Комментарии к знаменитому Введению Порфирия к «Категориям» Аристотеля, однако в трактате «Против Евтихия и Нестория», где он обращается к философской тематизации проблемы лица и личности в рамках латинской терминологии, ситуация складывается иначе.
Как уже сказано (и попросту неизбежно), разработка Боэция направляется трактовкой проблемы в греческом патриотическом богословии; но при этом, она развертывается далеко не столь широко и в существенных моментах отклоняется от Каппадокийцев. Последними строилась конституция личного бытия как особого онтологического горизонта, иного по отношению к здешнему бытию, причем необходимый фонд понятий и самый дискурс, выражающие эту конституцию, создавались заново и впервые. Как христианин VI века, Боэций не мог не сознавать, хотя бы интуитивно, наличия этого онтологического измерения проблемы; но как философ, он не мог достичь его схватывающего узрения (оно будет достигнуто лишь в зрелой схоластике). Поэтому, в терминах позднейшей философии, рассмотрение Боэция развертывается не в онтологическом, а лишь в онтическом плане и, ориентируясь на греческий образец, оно представляет собой не столько создание нового круга понятий, сколько его трансляцию, перевод. Однако трансляция осуществлялась не только с греческого на латынь, но одновременно – из патриотического богословия в традиционный метафизический дискурс, которому еще предстояла долгая жизнь; и за счет этого опыт Боэция занимает самостоятельное место в метафизической традиции и классической антропологической модели.
Руководясь патриотической конституцией личностных понятий, Боэций тоже приходит к существенному видоизменению аристотелианских концептов, которое не достигает, однако, их онтологической переплавки. Модифицируется уже верховное понятие, сущность. У самого Стагирита оно обладало огромной широтой, будучи объединяющим термином для всех «имен бытия» – характеризаций реальности и ее элементов по любому положительному содержанию, материальному или нет. К сущностям принадлежали и универсалии, и субстанции, и единичные предметы, образуя обширную, разветвленную номенклатуру. Отнюдь не так у Боэция: по верному суждению современного комментатора, «Боэций понимает сущность достаточно узко и вполне в духе нашего времени – как то, что определяет специфику предмета и составляет его природу»[19 - В. И. Уколова. Комментарий // Боэций. Философские сочинения. М., 1990. С. 390.]. Подобная переинтерпретация весьма показательна. Как мы замечали, у Аристотеля в его антропологии изначальной заботой была универсализация человека, его подведение под общие начала, встраивание его в некоторый закономерный порядок реальности. Боэций же видит свою задачу в прямо противоположном. Закономерный Аристотелев Универсум для него уже данность, и философская трактовка лица, личности представляется как проблема спецификации, т. е. исчерпывающей характеристики частного, отдельного, но в то же время и автономного, самодовлеющего. На последнем аспекте усиленно настаивала греческая патристика, выдвигая и акцентируя его; и именно в силу него удовлетворительным решением не могло быть прежнее понятие Аристотеля-Порфирия, определявшее индивидуальное сущее по неповторимости полного списка его свойств (вещи «называются индивидами, потому что каждая из них состоит из такого набора собственных свойств, который не может быть тем же ни в одной другой [вещи]»[20 - Боэций. Комментарии к Введению Порфирия к «Категориям» Аристотеля // Там же. С. 73.]). Если в Комментарии к Порфирию Боэций приводит и обсуждает это понятие без всякой критики, то в трактате «Против Евтихия и Нестория» оно уже недостаточно. Чтобы адекватно выразить понятие лица, Боэций, как мы скажем сегодня, формирует новое семантическое гнездо.
К специальной терминологической работе вынуждает, по Боэцию, бедность латинского лексикона сравнительно с греческим: латинскому persona, непосредственно обозначавшему лицо, личность, отвечают два разных греческих слова, ?????????? и ????????. При этом, по прямому значению, persona передает именно ????????, поскольку оба слова первоначально обозначали театральную маску, личину (как мы видели, более точный греческий термин – ???????i??). Для адекватной же передачи смысла ????????? – а именно она, «ипостась», выступает ключевым термином в патристическом дискурсе – желателен какой-либо другой, специальный термин. Таким термином Боэций избирает субстанцию, трактуя ее этимологически, как кальку ипостаси (sub-stantia = ????????? = под-лежащее): «Как “substantia” и “substare” мы переводим их [греков] ?????????? и ???????????… ?????????? – то же что субстанция»[21 - Он же. Против Евтихия и Нестория // Там же. С. 173, 174.]. Подобное переосмысление субстанции – очередной существенный отход от Аристотеля; причем более полно смысловому содержанию патриотической «ипостаси» соответствует, согласно Боэцию, оборот «индивидуальная субстанция». Итак, семантическое гнездо понятия личности образуют субстанция (центральный термин, сдвинутый далеко от своего аристотелианского значения), индивид, лицо (persona); итоговой же сводной формулой становится знаменитая дефиниция: «Определение личности найдено: она есть индивидуальная субстанция разумной природы, naturae rationabilis individua substantia»[22 - Там же. С. 172.].
Для верного понимания этой хрестоматийной формулы необходимо учесть, что на пути к ней ориентирами для Боэция служили не только разработки патристики, но также представления римского гражданско-юридического сознания, которые связывали с понятиями лица и индивида идею «особы», «юридического лица», обозначавшегося в Риме приблизительно с I в. н. э. тем же термином persona. Это соединение разнородных ориентиров и коннотаций способствует тому, что сфера применимости построенного понятия видится Боэцию всеохватной: «Не может быть личности, очевидно, у неживых тел… нет личности и в теле, лишенном разума и рассудка… мы говорим о личности человека, Бога, ангела»[23 - Там же. С. 171.]. Здесь – явное отличие от каппадокийской концепции, и вызвано оно тем, что Боэцием решается, на поверку, совсем не та же задача, которая решалась греками.
Греческому сознанию, всегда утверждающему примат опыта, требовалось передать опыт Богообщения, который говорил не только о личной природе Бога, но и о Его бытийной инаковости. Поэтому в греческой патристике выстраивается теологическая персонологическая парадигма, и семантическое гнездо личности выражает основоустройство горизонта личного бытия, онтологически отличного от здешнего (эмпирического, наличного) бытия. При этом, оно принадлежит не дискурсу метафизики, а дискурсу догматического богословия, и антропологическое его содержание лишь опосредованно и имплицитно. Его логическим развитием станет расширение за счет энергийных понятий, достигнутое в поздневизантийском исихастско-паламитском богословии Божественных энергий.
В отличие от этого, задача Боэция – всего лишь передать по-латыни греческую терминологизацию понятия личности. В ходе решения этой задачи, уже не религиозной, а ученой, онтологическая дистанцированность Бога теряется, и решение проблемы личности по Боэцию, в противоположность каппадокийскому решению, не выражает специфических отличий Божественного бытия. Расхождение с патриотическою концепцией принципиально: согласно этой концепции, понятие Личности=Ипостаси отнюдь не является общим для «человека, Бога, ангела» – напротив, «понятие “ипостаси” должно быть отграничено… от понятия “индивида”… “ипостась” не есть то же что индивидуальность»[24 - О. Георгий Флоровский. Восточные Отцы IV века. Париж, 1931. С.80.]. Таким образом, дефиниция Боэция не учитывает специфической природы богословского дискурса. Следует считать, в итоге, что в философии Боэция семантическое гнездо личности принадлежит дискурсу метафизики и выражает лишь основоустройство индивидуального человеческого бытия. Иными словами, личность здесь – антропологическое понятие, и его разработка у Боэция может рассматриваться как начаток иной персонологической парадигмы, уже не теологической, а антропологической.
Зато в сфере антропологии дефиниция Боэция вполне продуктивна. На ее основе философ развивает богатую спецификацию человеческого бытия: «Человек есть сущность (essentia), т. е. ?????; и субсистенция, т. е. ???????? и субстанция, т. е. ????????? и личность, т. е. ????????. А именно, он есть ?????? и сущность, поскольку он есть; ????????? и субсистенция – поскольку он не [находится] в каком-либо подлежащем; он есть ?????????? и субстанция, поскольку служит подлежащим (subest) для других, не являющихся субсистенциями, то есть ????????; наконец, он есть ???????? и личность, поскольку он – разумный индивидуум»[25 - Боэций. Против Евтихия и Нестория. С. 174.]. Все эти термины и их взаимные различения – не пустая схоластика, они антропологически содержательны. Хотя и стоит заметить, что теснейшее сближение ипостаси (лица) с субстанцией (ср. еще: «О лице может идти речь только применительно к субстанциям»[26 - Там же. С. 171.]), будучи прочно усвоено классическою антропологией, играло в ней в дальнейшем негативную, тормозящую роль, став, в конечном итоге, одним из ведущих факторов, которые завели эту антропологию в тупик. Однако на данном этапе, сравнительно с антропологией Аристотеля, антропология Боэция – несомненное и значительное продвижение процесса философской индивидуации, то есть формирования метафизического концепта индивидуального человека как автономного, самодостаточного агента мышления и действия[27 - Подчеркнем сразу, что здесь и далее, говоря об индивидуации, мы рассматриваем данный концепт исключительно в антропологическом и персонологическом контексте и потому вовсе не входим в хорошо известную историю принципа индивидуации в схоластике как формального принципа, относящегося к бытию вещи и нашедшего, в частности, формулировку в понятии haecceitas, «этости» Дунса Скота. В недавней литературе, детальное описание этой истории можно найти в книге: Д. В. Шмонин. В тени Ренессанса: Вторая схоластика в Испании. СПб., 2006. С. 191–226.]. Вместе с тем, этот процесс здесь заведомо не был завершен, скорее лишь начат; и дальнейшая западная метафизика активно пошла по пути его продолжения – что то же, по пути развития антропологической персонологической парадигмы. Бифуркация европейской персонологии состоялась и была в дальнейшем закреплена. В восточнохристианской мысли, оставшейся на позициях теологической парадигмы, ни принцип индивидуации, ни вся связанная с ним работа западной философии практически не нашли отражения.
Своего полного завершения процесс индивидуации достигает у Декарта, в концепте метафизического субъекта. Кратко резюмируя, с Боэцием мы на полпути к субъекту.
3. Человек Картезия
В отличие от Аристотеля и Боэция (но подобно Платону), Декарт – философ с миссией, с вестью: ему открылась некая важнейшая истина, и его мысль движима стремлением донести, продемонстрировать, утвердить эту истину-весть. Нисколько не будучи по натуре проповедником, тем паче пророком, он вместе с тем абсолютно убежден в великом масштабе своего открытия и заявляет об этом масштабе со всей уверенностью, в манере, так сказать, тихого харизматика. По Декарту, в его учении вечные вопросы человеческой мысли, фундаментальные метафизические апории, такие как существование Бога и бессмертие души, навсегда перестают быть апориями и вопросами, получая «самые строгие и очевидные доказательства». Эти доказательства «по строгости и очевидности равняются доказательствам в геометрии и даже их превосходят»[28 - R. Descartes. Mеditations sur la philosophie premi?re. A Messieurs doyen et docteurs de la sacrеe facultе de thеologie de Paris // Id. Oeuvres et lettres. Prеs. par A. Bridoux. P., Bibl. de la Plеiade, 2-me ed. 1987. P. 260.(В дальнейшем, все ссылки на сочинения Декарта – по данному изданию. Все приводимые цитаты – наш перевод франц. текстов этих соч. Для соч., первоначально написанных Декартом по-латыни, авторизованные франц. переводы признаются более авторитетными текстами, играющими роль «последней авторской редакции» (см. замечания А. Бриду в указ. изд.).].
Больше того, они таковы, что «никогда и никоим образом дух человека не сможет открыть лучших»[29 - Ib. Р. 259.]. И еще того больше: учение Картезия вообще освобождает человечество от необходимости дальнейших занятий философией: «Автор в своих “Медитациях” достаточно углубился в метафизические предметы и установил их твердость и достоверность (certitude) настолько, что другим уже не стоит пытаться этого делать и напрягать подолгу свой ум размышлениями о подобных вещах»[30 - Id. Entretien avec Burman. Loc. cit. P. 1381.]. Помимо философии, учение охватывает и естественные науки, где открывает вещи не менее великие: «Хотя люди сейчас отказываются принять это объяснение природы света, через 150 лет они ясно увидят, что оно прекрасно и истинно»[31 - Ib. Р. 1391. Речь идет об объяснении, данном в «Началах философии» (кн. З) на базе идеи об особом роде давления, который не связан ни с каким движением.]. Неудивительно, что мсье Бриду, подготовивший современное издание Декарта и в своих комментариях не скрывающий восхищения его творчеством, не может как бы со вздохом не сказать и о его «безмерной амбиции». – История, однако, оправдала философа в его амбициях, хотя при этом вовсе не подтвердила львиную долю его открытий (за важным исключением математики). Многосмысленная ситуация! Не только упомянутое «объяснение природы света», но и все почти декартовы объяснения физических, физиологических, психических явлений оказались фантазиями, «более строгие, чем в геометрии» доказательства недоказуемых метафизических постулатов с неизбежностью обнаружили капитальные изъяны – но при всем том философская и научная мысль Европы изменила свой характер, строй, курс и начала развертываться в пространстве, организованном по Декарту, – в декартовых координатах, как основанная им аналитическая геометрия.
Сергей Сергеевич Хоружий
Bibliotheca Ignatiana
Книга проводит ретроспективный анализ эволюции понимания человека в европейской философии – от первой концептуализации человека у Аристотеля до теории практик себя Фуко. В призме сегодняшней антропологической ситуации, путь мысли о человеке предстает коррелятивным пути философии в видении Хайдеггера: «забвение бытия» находит себе соответствие в «забвении человека». Затронув бегло начальные этапы европейской антропологии, книга сосредоточивается на том, чтобы раскрыть генезис «антиантропологизма» классической метафизики у Декарта и Канта. Под избранным углом зрения, Система Гегеля оказывается предельной точкой антиантропологического тренда, а философия оппонента Гегеля Кьеркегора – начальной точкой противоположного тренда, возвращения к человеку. Начало и конец (на сей день) данного тренда получают наибольшее внимание: книга детально реконструирует антропологию Кьеркегора и позднего Фуко. В интервале меж ними выделены лишь Ницше и Хайдеггер (без обращения к которым антропологическая ретроспектива немыслима), а также Шелер – в качестве интересного примера, показывающего, как возможности, открываемые для антропологии феноменологией, могут быть полностью упущены.
Цели ретроспективы далеки от простой дескрипции: книга стремится понять движение мысли о человеке в свете сегодняшних проблем этой мысли, заново подвергающей рефлексии сами основания антропологии, ее статус и место в ансамбле гуманитарного знания. Эта фундаментальная проблематика освещается с позиций и в понятиях синергийной антропологии, нового антропологического направления, развиваемого автором. В последней главе синергийная антропология выступает явно: ее систематическое сопоставление с теорией практик себя позволяет наметить возможные стратегии продвижения к новой антропологии.
Сергей Хоружий
Фонарь Диогена. Критическая ретроспектива европейской антропологии
© Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2010
© Хоружий С. С., 2010
Пролог: человек в поисках человека
…Есть старая цирковая реприза, имеющая множество вариаций: «Дали подержать». На арене – Рыжий, нелепая и наивная, бестолковая фигурка. Кругом него люди, жизнь, снуют деловые, занятые персонажи; и кто-то на бегу, устремляясь куда-то мимо, сует ему в руки большой и неуклюжий, непонятный предмет. Растерянно озираясь, он стоит, бросает взгляды то на предмет, то вокруг по сторонам. Однако вручившего нет уже, а предмет – в руках; и мало-помалу Рыжий свыкается с предметом, окружает его вниманием. Постепенно он начинает чувствовать и осмысливать себя как Держателя Предмета, а Предмет – как свою задачу; начинает существовать в озадаченности Предметом. Но тут, едва он уж совсем вошел в роль, сжился с Предметом – следует столь же неожиданная, брутальная развязка: предмет грубо отбирают, награждая Рыжего тумаками. Рыжий рыдает.
Рыжий – я, каждый из нас. Предмет – человеческая участь, природа, жизнь: la condition humaine. Так, по крайней мере, заставляет считать наш прямой опыт собственной ситуации; таков этот опыт в непосредственной его данности, до всех редакций, пока на голос непредвзятого, из души, чувства и ощущения: Дар напрасный, дар случайный… – еще не послышалось назидания: Не напрасно, не случайно! Немудрящая реприза вобрала в себя едва ли не все главные слагаемые сырого антропологического опыта. Ибо всё так и есть: каждого наделяют неким устройством, внешним и внутренним, некой природой, движущей им, но ему самому неведомой, наделяют на некий ограниченный срок; и это всё – устройство, природа, срок – нисколько не в его власти, не в его ведении – «дали подержать». Как Рыжий, каждый может это тематизировать: может выяснить, что он, человек, сотворен Богом, или занесен с Альфы Волопаса, или произошел от обезьяны. Отсюда, в свою очередь, будет что-то следовать. Изменить ничего нельзя, но можно обдумать. Впрочем, нельзя и исключать, что пристальное обдумыванье не откроет в ситуации и каких-нибудь возможностей к изменению.
Итак, помимо рыданий, Рыжему еще дано рефлектировать; и ясно, что его рыдания задают сверхзадачу его рефлексии. Есть, пожалуй, единственная необходимая предпосылка человеческого существования: оно должно быть возможным. «Быть» означает здесь: представляться самому человеку, восприниматься, переживаться им. И самое удивительное в человеке – его фантастическая способность добиваться выполнения этой предпосылки – как в отношении существования вообще, как такового, так равно и в отношении конкретных, сколь угодно немыслимых, нечеловеческих образов и условий существования. В тетради Батюшкова, одного из тех, кому добиться не удалось, есть запись: Карамзин мне сказал однажды, человек, он всех тварей живущее, он все перенесть может. Нас занимает сейчас именно «всё», существование вообще. Представить его возможным (а если выйдет, то и наилучшим из всего возможного, достойным, возвышенным) призван верный слуга, послушный ум Рыжего, Hure Vernunft; и в исполнении задачи он проявляет поистине неистощимую изобретательность. Рождается множество решений, приспособленных ко всем эпохам, обществам и сословиям, выраженных во всех формах, жанрах, дискурсах. Необычайной убедительности здесь достигает искусство. «Я телом в прахе истлеваю – умом громам повелеваю». Это звучит. И все же наиболее прочного успеха добивается не эстетическое сознание, а религиозное и философское.
Когда-то один человек понял: мир, в котором убили Сократа, его учителя, безусловно, не есть настоящий мир. Как есть другой «Юрий Милославский», более настоящий, чем господина Загоскина сочинение, так есть другой мир, в котором Сократа убить нельзя, и только этот мир – настоящий. Конечно, и прежде, до него, иным думалось и верилось так, но он это понял до конца и до глубины, понял всем существом – и сумел сделать это высокой истиной, философской истиной. Высокой философской истиной стал самый надежный способ сделать существование возможным: отмена невыносимой единственности реальности. Есть настоящий мир, и ему имя – мир умопостигаемый, или бытие, или абсолютное бытие. В бытии не только не убивают Сократа, там не разыгрывается и ситуации «дали подержать», так что эта ситуация тоже ненастоящая. Рыжий перестает всхлипывать. Он обращает взоры и помыслы к бытию. Он сам, его ситуация отходят на второй план, они теперь лишь низкая «эмпирия»; в центре, фокусе мысли оказываются высокие истины, метафизические предметы. Проходят чредой века; воздвигается величественное сооружение классической европейской метафизики. Там есть всё – разумеется, в настоящем виде, умопостигаемом, в форме идеи. Есть, стало быть, и человек, хотя его разглядишь не сразу. Теперь он уже не столь важен, и его место в сооружении, или «антропология» – отнюдь не главное здание, а какой-то из дальних флигелей, где он к тому же содержится в расчлененном виде, как нечто смешанное и составное, определяемое целым набором разнообразных начал. Это составное сущее не чинит особых проблем для метафизического разума: человек неизменен и есть то, что он есть, иными словами, некая статичная данность; как такового, его можно охватить дефиницией, заключить в сеть категорий. Подобное обращение с человеком укореняется прочно и надолго: став умопостигаемым, Рыжий польщен и не возражает.
Хотя и нельзя сказать, чтобы Рыжий был целиком удовлетворен, чтобы метафизический образ себя самого и своей ситуации он бы безоговорочно счел с подлинным верными. Сомнения возникали – но до поры они не могли быть выражены в равноценной форме и на равноценном уровне; «метафизика» на много веков стала синонимом философии. Тем хуже для философии, однако! Сомнения питались реальным опытом, в котором человек видел, ощущал несогласие, расхождение с метафизической картиной; и на базе этого опыта возникала «многодонная жизнь вне закона». Изначально сюда немалой частью входил мистический опыт; но и не только он. Чувства и эмоции человека плохо укладывались в нормативные дискурсы метафизики; нормативная этика, неотторжимая часть метафизической дескрипции человека, никогда не могла вполне объяснить реальных человеческих действий. Со временем расхождения накапливались и усиливались. Разделяя судьбу всех зданий, и скромных, и грандиозных, строение классической метафизики ветшало, и будет верным сказать, что главным источником разрушительного процесса служила антропологическая реальность. Затем, в 20 столетии этот процесс резко изменяет свой характер, из постепенного он становится катастрофическим, обвальным. Он принимает всеохватный характер: с одной стороны, «жизнь вне закона» (метафизического) обретает свой язык, развивается основательная, кардинальная критика метафизического способа (хотя в гораздо меньшей мере возникают состоятельные, полноценные альтернативы ему); в то же время, опыт истории, опыт жизни доставляет радикальные, драстические несоответствия с метафизической картиной реальности, и метафизический дискурс оказывается явно неспособен дать понимание важнейших феноменов наступившей эпохи.
Сегодня процесс кризиса метафизического мышления – а с ним и классической европейской антропологической модели – практически достиг финала. Продолжая метафору, мы не скажем, что величественное здание – в руинах; но оно стало памятником прошлого, школой и кладовой мысли, а не ее творческой мастерской. Нового здания покуда нет – и Рыжий волей-неволей снова оглядывается по сторонам. Надо ли строить новое? слышны громкие голоса, что умнее существовать, занимая старые обиталища и их деконструируя на дрова. Очень может быть… Но в любом случае, Рыжему надо заново понять многое, заново разглядеть, что же за Предмет ему дали подержать. Критическое обозрение старых позиций – необходимое начало для продвижения к этой цели.
Часть I. Как потерять себя из вида
Предмет этой книги – Человек в его отношениях с его Границей: определяемый, конституируемый Границей – в философии; влекомый к ней, испытующий ее – в жизни. Мы убедимся, что такой подход – не сужение и не ограничение речи о Человеке: так может ставиться тема о Человеке как таковом. И, как я полагаю, лишь так она может ставиться в свете сегодняшней реальности Человека: тревожной, зыблющейся, неопределенной.
Открывающая книгу метафора говорит, что речь о ее предмете сегодня не может вестись на прежних основаниях классической европейской метафизики. Предстоит найти новый язык, новые принципы для антропологического дискурса, и современная мысль уже весьма активна в решении встающих проблем. Движимый и направляемый новым опытом, поиск в то же время неизбежно развертывается в освоенном пространстве мировой мысли о человеке, в диалогическом взаимодействии с традицией – или точней, с традициями, ибо рабочее поле мысли расширилось и глобализовалось, все более органично включая не только Запад, но и Восток. И вместе с тем, в этом расширившемся поле не может не служить особою, выделенной областью именно классическая европейская метафизическая традиция – та самая, в которой мы более не можем остаться. Это единственная область, где в распоряжении гуманитарной мысли есть достаточная система правил (само) организации и критериев (само)проверки: достаточная не в смысле позитивистской эпистемологии Поппера или Витгенштейна, а в смысле концептуальной структуры философского дискурса, менее формализуемой, но в своем роде не менее строгой и не менее обязательной. Поэтому лишь посредством соотнесения себя с этой областью мысль обеспечивает свое пребывание в сфере мыслительной культуры, без риска впасть – не столько в древнее «варварство» (едва ли оно есть еще на Земле), сколько в новейший беспредел тотального уравнивания и обесценивания всех установок, культурных, внекультурных, антикультурных… И это значит, что всякий опыт продвижения мысли заново обозревает «основоустройство», Grundverfassung, классической европейской метафизики, входя в тесную связь с теми или иными его элементами и темами.
С не столь большим упрощением классическую европейскую концепцию человека можно представлять стоящей на двух краеугольных понятиях: на применении к человеку понятия сущности (как сужающий вариант, субстанции) и понятия субъекта. Введение в антропологический дискурс каждого из них – ступень кардинальной важности, ассоциируемая с определенным именем в истории философии: сопоставление человеку понятия сущности есть вклад Аристотеля, понятие же субъекта – вклад Декарта. В качестве существенной промежуточной стадии между ними стоит выделить также вклад Боэция: введенное им понятие «индивидуальной субстанции» в ретроспекции предстает в точности – средним звеном, переходным этапом от человека Стагирита к человеку Картезия.
1. Человек Аристотеля
Разумеется, в грандиозном ансамбле философии Стагирита сущность, ?????, отнюдь не является специально антропологической категорией. Сущность – вершина в системе его понятий, принцип максимальной общности и эвристической силы, объединяющий собою весь аристотелианский порядок вещей. Поэтому, когда человек характеризуется как «сущностное образование», сущность и одновременно набор, собрание сущностей, он не специфицируется этим, а напротив, универсализуется, интегрируется в эссенциалистский миропорядок, объемлющий и чувственные, и умопостигаемые предметы. Выделение же, спецификация человека производится по дальнейшим принципам и признакам. Так, живое, а в его составе и человек, выделяется свойством порождения сущностей: «Все природное способно порождать себе подобную сущность… Человек способен порождать те или иные сущности из определенных первоначал»[1 - Аристотель. Большая этика, 1187 а30; b6. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 4. М., 1984. (В дальнейшем, все цитаты из Аристотеля – по этому изданию).]. Что же до человека как такового, то «человек есть в первую очередь ум… человеку присуща жизнь, подчиненная уму»[2 - Он же. Никомахова этика, 1178 аб.], а ум, в свою очередь, трактуется Стагиритом как способность постижения первоначал, оснований, достоверного, научного знания (ср. «Никомахова этика», кн. VI, 1141а 3–7). В приведенной цитате вторая часть – существенное развитие первой: специфическим отличием природы человека служит не столько ум сам по себе, сколько именно «жизнь, подчиненная уму», или же просвещаемая, регулируемая и управляемая умом деятельность: «Стремящийся ум или же осмысленное стремление… именно такое начало есть человек[3 - Там же, 1139 b5.]… Назначение человека – деятельность души, согласованная с суждением»[4 - Там же, 1098 а7.].
Как «стремящийся ум», человек представляет собой деятельный центр, источник «поступков», т. е. действований, сопряженных со стихией разума, с активностями анализа, суждения, выбора. За счет этой связи возникают разные категории поступков, и деятельная, «практическая», по Аристотелю, сфера человека приобретает развитое строение, многомерность. Дискурс Аристотеля не так подчеркнуто иерархичен, как дискурс Платона, но в нем столь же прочно присутствует аксиология; к вещам и явлениям прилагаются понятия высшего и низшего, благородного и низменного, более или менее достойного… С аксиологической шкалой сразу же, изначально связан и Аристотелев человек: «Ум – высшее в нас, а из предметов познания – высшие те, с которыми имеет дело ум»[5 - Там же, 1177 а20.]. Отсюда аксиологическая шкала переносится и в практическую сферу, на многообразие действий и поступков, – и, как первое главное следствие аксиологически-иерархического устроения этой сферы, возникает понятие «назначения» человека, уже нами встреченное выше. Коль скоро в человеке есть «высшее», то его действия, его жизнь, существование обретают назначение – служить этому высшему: «Надо делать все ради жизни, соответствующей наивысшему в самом себе»[6 - Там же, 1178 а1.]. Тем самым, среди всех категорий поступков выделяется наиважнейшая категория, поступки, служащие реализации назначения человека; они получают имя «нравственных». Полнота же осуществления назначения человека – не что иное как счастье (ср.: «при счастье не бывает ничего неполного»[7 - Там же, 1177 b26.]). Так конституируется этический дискурс, этическое измерение человеческой деятельности, «практики». Счастье (???????????) – высший принцип, вершина этического дискурса, а этика, наука нравственного действия, направляющего к достижению счастья, утверждается как главный вид знания в практической сфере.
Эта классическая концептуальная схема Стагирита станет универсальной основой европейского этического дискурса – т. е. системы индивидуальных установок, стратегий человека – на все будущие времена (межиндивидуальные, социальные стратегии составляют сферу политики). Не столь универсально, однако, конкретное наполнение этой схемы, которое определяется отождествлением «высшего» в человеке с умом. Из этого отождествления вытекает другое – отождествление счастья и назначения человека с погруженностью в самодостаточную, не имеющую эмпирических интересов, прикладных целей деятельность ума, – что именуется созерцательной жизнью, ???? ??????????. «Деятельность ума как созерцательная… помимо самой себя не ставит никаких целей… она и будет полным счастьем человека[8 - Там же, 1177 b20, 26.]… Кто проявляет себя в деятельности ума… устроен наилучшим образом и более всех любезен богам… Он же, видимо, и самый счастливый»[9 - Там же, 1179 а24, 31.]. Выделение и возвышение ума сближает человека Аристотеля с руслом дуалистической антропологии, в котором человек представляется двоицей противоположных, противостоящих друг другу начал или природ, смертной плоти и бессмертной души (духа). Это древнее русло, идущее от орфиков и пифагорейцев, включающее платоников и гностиков, не иссякло и в христианскую эпоху, поскольку традиция европейского идеализма восприняла античную установку, обособляющую и возвышающую начало ума. При этом, дуализм, вносимый в природу человека этой установкой, стал еще резче, поскольку, в отличие от античной онтологии единого бытия, онтология христианства утверждает разрыв, онтологическую дистанцию между горизонтами здешнего, эмпирического, и абсолютного, божественного; и хотя по внешности тезис Гегеля «Разум есть божественное начало в человеке»[10 - Г. В. Ф. Гегель. Философия религии. Т. 1. М., 1975. С. 230.] лишь повторяет Аристотелево «Ум в сравнении с человеком божествен»[11 - Аристотель. Никомахова этика. 1177 b32.], в действительности, он вносит в природу человека неведомую античности онтологическую двойственность. Однако в христианской мысли есть и иное русло, церковно-патристическое, мало представленное в философии, но строго хранящее неточные установки христианского мироотношения; и в этом русле нет ни дуализма в антропологии, ни интеллектуализма, идеала интеллектуального созерцания в этике. Оно основывается на холистическом образе человека, в котором ум составляет единство со всем человеческим существом (хотя обладает своей спецификой и наделяется особой задачей), и мы будем подробно говорить о нем ниже.
Итак, в измерении деятельности, «практики» (а это деятельное измерение для нас будет на первом плане), эссенциалистская антропология Аристотеля сводится, в существенном, к эвдемонистской и интеллектуалистской этике. Для дальнейшего важно отметить и некоторые другие ее особенности. Самая выпуклая и наглядная из них – нормативность, неизбежно сопутствующая эссенциальному дискурсу. Сущности связаны меж собой линейными причинно-следственными отношениями, действие которых носит характер безусловной необходимости. Реальность Аристотеля охватывается сплошной сетью причин и целей, и все, происходящее в ней, строго целенаправленно, телеологично. «Относительно всего, что называется случайным, всегда можно найти определенную причину, а не случай… Ничто не происходит случайно»[12 - Он же. Физика. II, 4.196 а5-10. Цит. изд. Т. 3. М., 1981.]. В сфере человеческого существования эта тотальная целенаправленность не снимается и даже не умаляется данными человеку возможностями выбора и принятия решений: здесь также существует полная и предзаданная система целей, и в поле решения и выбора – не цели, а только средства: «Сознательный выбор касается средств к цели…[13 - Он же. Никомахова этика. 1113 а14.] Решение наше касается не целей, а средств к цели»[14 - Там же, 1112 b2.]. Универсальный принцип регламентации всего существования человека – закон (?????).
Понимание этого концепта в античной мысли требует от нас аккомодации исторического зрения. Начиная с Нового Времени, областью закона мыслится, в первую очередь, сфера Природы, «законы природы» незыблемы и не знают нарушений; но в сфере человеческого существования, закон в иной и весьма проблематичной ситуации. По мере того как европейский разум выдвигает и продумывает оппозиции всеобщего и единичного, социального и индивидуального, закон все более делается предметом антропологического сомнения и критики. С эпохи романтизма, все прочнее укореняются представления о том, что живой человек есть скорее «беззаконная комета в кругу расчисленных светил», и все более обычным, расхожим делается суждение «Закон бесчеловечен». Закон выражает неумолимый диктат тех или иных, божественных или социальных, «вышних сил», безразличных к человеку, и тем самым, он переосмысливается, переводится в разряд антиантропологических начал. – Напротив, в античной мысли закон – самое несомненное антропологическое понятие. Человек заведомо подзаконен, проблематично же то, подлежит ли закону Космос, который божествен, таинствен и подчинить который закону – не будет ли не благообразно, богохульно?
Итак, Человек Аристотеля тематизируется на основе закона. Это понятие трактуется достаточно обобщенно: принадлежа, в первую очередь, сфере правовых отношений, оно переносится на всю деятельную сферу (хотя все же не расширяется за пределы антропологической и социальной реальности, до «законов космоса», и т. п.): «Закон (в числе прочего) велит быть благоразумным, приобретать имущество, заботиться о теле и тому подобное[15 - Он же. Большая этика. 1196 а2-3.]… Мы будем нуждаться в законах, охватывающих всю жизнь»[16 - Там же, 1180 аЗ.]. В итоге, человеческое существование всецело регламентировано сетью законов, действие которых выражается, очевидно, в нормах и правилах, – и хотя Стагирит еще не вводит категории «нормы», по праву можно сказать, что его этический дискурс и шире, дискурс всех индивидуальных и социальных стратегий человека носит нормативный характер.
Следует также указать, как выражены у Аристотеля аспекты статичности и динамичности, неизменного и меняющегося в антропологической реальности. Очевидно, что онтология единого бытия предопределяет онтологическую статичность антропологической модели: во всем, что свершается с человеком и что ему надлежит свершать, природа человека пребывает неизменной. Вместе с тем, имеется и элемент процессуальности (движения, изменения), который присутствует в представлениях о реализации этического идеала, достижении счастья; но этот элемент заключается лишь в переориентации жизненной практики на удовлетворение высшего в человеке, ума. Процессуальность такого рода – общая черта метафизики Стагирита: так проявляется присутствие в этой метафизике понятия энергии, важнейшего философского нововведения Аристотеля. В отличие от Платоновой идеи, аристотелево понятие сущности включает аспект осуществления, актуализации – извлечения, изведения данной сущности из потенциальности в актуальность. Этот аспект ее (который мы будем детальнее разбирать в следующей главе) выражают понятия энтелехии и энергии: сущность, рассматриваемая как полнота осуществленности – энтелехия, само же действие осуществления, активность актуализации есть энергия; так что можно сказать, что энтелехия есть сущность, поставленная в связь с энергией, увиденная в элементе энергийности. За счет этих понятий метафизика существенно углубляет свое видение реальности и расширяет ее орбиту, включая в нее действия и процессы. Однако одновременно она ограничивает себя определенным пониманием, определенной моделью процесса как такового – моделью, в которой всякий процесс видится «энтелехийно», как актуализация некой сущности. В дальнейшем, и в науке, и в философии такая модель окажется слишком узкой.
Надо заметить, однако, что в антропологии Аристотеля и, в частности, в его этике, понятия энергии и энтелехии, задающие наиболее глубокий уровень философского анализа, вовсе не применяются. Это симптоматично. Философствование греков далеко не было антропоцентричным, и антропологический дискурс нацело отсутствует в «Метафизике» Аристотеля, будучи сосредоточен не в философии, а в «практических науках», в этике, главным образом, и отчасти в политике, где философская рефлексия не достигала предельной глубины. Классическая европейская метафизика Нового Времени возродила структуру античной системы с присущей ей неразвитостью и вторичностью антропологического дискурса. Здесь, в частности, лежат и корни того, что становление философской модели человека в русле, идущем от античной философии к новоевропейской метафизике, затянулось на два тысячелетия, отделяющие Аристотеля от Декарта.
Прослеживая собственно философскую нить, мы оставляем в стороне развитие антропологических концепций в западной теологии (впрочем, оно и не было значительным). Как сказано выше, на всем пути до Декарта мы выделим всего лишь один промежуточный этап.
2. Боэций и проблема личности
Понятие личности для мысли, для философии, которая стоит этого имени, требует сразу вопроса: какой поворот в состоянии, в заботе человеческого существа, захваченного миром, привел к тому, что возникли эти исторические образования, юридическое и политическое и церковное понятие личности[17 - В. В. Бибихин. Ранний Хайдеггер. М., 2009. С. 212.].
Очередной раздел нашей ретроспективы, будучи также весьма краток, имеет, однако, весомые основания быть выделенным особо. В истории европейского человека Боэций – незаметный, но несомненный рубеж: своеобразная точка бифуркации, в которой обозначаются, чтобы затем разделиться, два разных пути европейской мысли о человеке. Намечающееся разделение имеет отчетливый центральный узел, топос, в котором оно рождается. Этот ключевой топос – проблема личности, которая отсутствовала в античной мысли и могла появиться, как неложно говорит наш эпиграф, лишь в результате некоторого существенного «поворота в состоянии человеческого существа». Бибихина здесь надо дополнить Гегелем: «поворот сознания» – известная гегелевская формула для опыта. Топос личности, а следом за ним и разделение, рождаются из нового опыта человека – опыта христианства.
Вернувшись к нашему беглому обзору антропологии Аристотеля, мы видим, что его выводы двойственны: налицо, с одной стороны, основательная, почти всесторонняя развитость этой антропологии, наличие в ней ответов на все (или почти все) принципиальные вопросы о человеке, но с другой стороны – ее, если угодно, несуществование: несуществование в качестве философской антропологии, полноправного раздела в составе Philosophia prima, и существование лишь в ряду «практических приложений» метафизики. Эта двойственность менее всего случайна. Закладывая фундамент концептуального мышления с помощью новооткрытых мощных орудий Сущности, Категории и Силлогизма, Стагирит действовал этими орудиями там прежде всего, где они оказывались действенны. Он концептуализовал то, что в первую очередь поддавалось концептуализации; а человек, уже и античный человек, был сложен, многолик, изменчив и для концептуализации трудно уловим. С ним приходилось поступать дисциплинарно, подчиняя его Законам, – что делали практические дискурсы, Этика и Политика, и откладывая, оставляя в стороне его собственно философское понимание, введение в Метафизику. За одним кардинальным исключением: в метафизику вполне органично включался Ум, и она охотно, с увлечением развивала речь об Уме; однако, как предмет метафизики, Ум отделялся от человека, и речь о нем уже не была частью антропологического дискурса.
Как сказано выше, эти структурные особенности равно присущи и античной, и новоевропейской метафизике. Антиантропологизм, вытеснение человека – имманентная черта метафизики как таковой, и человек – извечный Фирс метафизики: таково амплуа, прочно определенное ему в ней ее отцом. Но в ходе европейской истории был период, когда это амплуа на время поколебалось – или точнее, когда рефлектирующая мысль готова была покинуть метафизические рамки в пользу некоторого иного способа, который не вытеснял бы человека, а ставил его, напротив, в центр. Разумеется, этим поворотом к человеку – даже, если угодно, антропологической революцией – было пришествие христианства. Онтологическое событие Боговочеловечения, воплощение Бога в обычном порядке человеческого существования, в образе сына плотника, не могло с силой не обратить мысль к человеку – его природе, судьбе, границам. В философском его аспекте, Боговочеловечение – не что иное как утверждение тождества онтологии и антропологии. Христианство несло в себе мощный импульс антропологической переориентации всего мироотношения и мировоззрения, но эта революционная переориентация выразилась в форме своеобразной и неожиданной: она принесла с собой не новую философию, но отторжение философии как таковой, а новый антропологический дискурс, порожденный ею, будучи насыщенным и богатым, в то же время отнюдь не был философским дискурсом и обладал сложным и трудно обозримым строением.
Причиной отторжения философии обыкновенно называлась ее коренная связь с языческой религиозностью и ментальностью; но в нашем контексте эту причину лучше передать так: аутентичный христианский опыт (опыт актуального соединения со Христом) оказался принципиально отличен от аутентичного философского опыта (опыта философского изумления, воспроизводящего непрестанное обращение в Начало). Поэтому для своего выражения он создал существенно иной дискурс, дискурс «догматического богословия», в котором, в первую очередь, и выражались антропологические позиции христианства и его антропологические открытия, включая главнейшее – открытие Личности. Заключая в себе главные тезисы о человеке и его ситуации в бытии, богословский дискурс, тем не менее, не был антропологическим дискурсом (по крайней мере, явно), и антропологическое его содержание почти целиком было имплицитным, закодированным в форме высказываний о Боге. Другой важной составляющей христианской антропологии была практическая антропология аскетической традиции, развивавшейся в восточном христианстве, – и она была еще дальше от философского дискурса. Ее содержание, также включавшее немало антропологических открытий и новшеств, оставалось долгое время замкнуто в сфере практической религиозности, не получая продумывания и осмысления вне рамок самой традиции и ее специфического языка. В силу данных причин, в ходе формирования христианского вероучения, в эпоху патристики и Соборов, христианская антропология не была создана ни в философской, ни вообще в какой-либо цельной систематической форме. Что же касается философии, то она, в итоге, с приходом христианства нисколько не испытала антропологического поворота. Вместо этого она первоначально оказалась оттеснена богословием, а когда затем начала постепенно восстанавливать позиции, то, не пройдя внутренней трансформации, скорее отталкивалась от христианского богословия и влеклась к прежнему античному способу. Окончательным воссоединением с этим философским способом стала мысль Декарта.
Творчество Боэция – та фаза богословской мысли на Западе, когда собственно богословие еще не совсем отделилось в ней как от философии (метафизики), так и от антропологии. Аналогично, еще не вполне сложилось и разделение Западной и Восточной традиций христианской мысли. Церковь была единой, и единой была главная проблематика становящегося христианского богословия (хотя изначально существовали определенные различия как в выборе, так и в трактовке тем). Эта главная проблематика определялась интенсивным процессом формирования основ догматики христианства, тринитарного и христологического богословия. Оба этих проблемных поля имели общий центральный топос, которым и служила проблема Личности. Ее первое решение дано было Отцами-Каппадокийцами, и в нем были сразу же заложены основные принципы отношения к философскому дискурсу. Ведущий методологический принцип весьма удачно был определен о. Георгием Флоровским как «переплавка»[18 - Ср., напр.: «Недостаточно было взять философские термины в их обычном употреблении – запас античных слов оказывался недостаточным для богословского исповедания. Нужно было перековать античные слова, переплавить античные понятия. Эту задачу взяли на себя Каппадокийцы». О. Георгий Флоровский. Восточные Отцы IV века. Париж, 1931. С. 75.]. Классический пример ее – образование краеугольного понятия Ипостаси, или (Божественного) Лица. Исходное для Каппадокийцев содержание понятия – Аристотелев смысл ипостаси: «первая сущность», данное конкретное сущее в его самостоятельности. Затем, однако, это содержание кардинально дополняется и изменяется: искомым понятием Лица становится тождество:
??????????= ???????? = ???????i??,
где последний термин – театральная маска, роль, амплуа, тогда как средний, по Аристотелю («О частях животных»), обладал и анатомическим значением, обозначая «часть головы, которая ниже черепа»; и оба они прежде принадлежали обыденному, а не философскому языку. С утверждением такого тождества, ипостась отделяется от сущности (термин «первая сущность» выводится из употребления) и становится концептом иной природы, основывает собственный дискурс. Для философского разума, это тождество странно, эксцентрично, а лучше сказать, в нем – чистый пример того, что «для эллинов безумие». Ибо переплавка, им совершаемая, всецело руководилась аутентичным христианским опытом, отличным от опыта философского, как мы сказали. В силу этого, для христианского сознания ведущей нитью служила идущая прямо из опыта личного Богообщения интуиция Божественного Лица как бытия, наделенного самодовлеющей полнотой и одновременно – совершенною, абсолютной степенью присутствия, выраженности, явленности; и для выражения этой интуиции оно готово было привлечь любые средства и термины, философские или нефилософские – безразлично. Так возникала первая концепция личности – концепция Божественной Ипостаси, ставшая основой «теологической персонологической парадигмы». Очевидным образом, в этой парадигме понятие личности не относилось прямо и непосредственно к эмпирическому индивиду; отношение последнего к личности оставалось проблемой, которая получала решение уже на основе христологического богословия.
Боэций, продумывая наследие Каппадокийцев и их понятие личности, не оспаривает их персонологической парадигмы, но, на поверку, и не следует ей. От него ускользает скрывающаяся в ней переплавка, и поэтому, создавая, в меру сил, ее параллель в латинском дискурсе, сам он отнюдь не совершает никакой переплавки соответствующих латиноязычных понятий. Вследствие этого, категории личного бытия, которые в греческой патристике выступают как специфически богословские понятия, у Боэция еще свободно рассматриваются и как понятия антропологические (что приносит для антропологии заметную пользу). Боэций – не слишком оригинальный и крупный, однако пытливый и честный философский ум. Как философ, он принадлежит к руслу аристотелизма в позднеантичной редакции Порфирия; но когда те или иные факторы толкают его к выходу за пределы этого русла, он способен представить самостоятельное философское решение. Соответственно, мы не обнаружим существенной оригинальности в его Комментарии к знаменитому Введению Порфирия к «Категориям» Аристотеля, однако в трактате «Против Евтихия и Нестория», где он обращается к философской тематизации проблемы лица и личности в рамках латинской терминологии, ситуация складывается иначе.
Как уже сказано (и попросту неизбежно), разработка Боэция направляется трактовкой проблемы в греческом патриотическом богословии; но при этом, она развертывается далеко не столь широко и в существенных моментах отклоняется от Каппадокийцев. Последними строилась конституция личного бытия как особого онтологического горизонта, иного по отношению к здешнему бытию, причем необходимый фонд понятий и самый дискурс, выражающие эту конституцию, создавались заново и впервые. Как христианин VI века, Боэций не мог не сознавать, хотя бы интуитивно, наличия этого онтологического измерения проблемы; но как философ, он не мог достичь его схватывающего узрения (оно будет достигнуто лишь в зрелой схоластике). Поэтому, в терминах позднейшей философии, рассмотрение Боэция развертывается не в онтологическом, а лишь в онтическом плане и, ориентируясь на греческий образец, оно представляет собой не столько создание нового круга понятий, сколько его трансляцию, перевод. Однако трансляция осуществлялась не только с греческого на латынь, но одновременно – из патриотического богословия в традиционный метафизический дискурс, которому еще предстояла долгая жизнь; и за счет этого опыт Боэция занимает самостоятельное место в метафизической традиции и классической антропологической модели.
Руководясь патриотической конституцией личностных понятий, Боэций тоже приходит к существенному видоизменению аристотелианских концептов, которое не достигает, однако, их онтологической переплавки. Модифицируется уже верховное понятие, сущность. У самого Стагирита оно обладало огромной широтой, будучи объединяющим термином для всех «имен бытия» – характеризаций реальности и ее элементов по любому положительному содержанию, материальному или нет. К сущностям принадлежали и универсалии, и субстанции, и единичные предметы, образуя обширную, разветвленную номенклатуру. Отнюдь не так у Боэция: по верному суждению современного комментатора, «Боэций понимает сущность достаточно узко и вполне в духе нашего времени – как то, что определяет специфику предмета и составляет его природу»[19 - В. И. Уколова. Комментарий // Боэций. Философские сочинения. М., 1990. С. 390.]. Подобная переинтерпретация весьма показательна. Как мы замечали, у Аристотеля в его антропологии изначальной заботой была универсализация человека, его подведение под общие начала, встраивание его в некоторый закономерный порядок реальности. Боэций же видит свою задачу в прямо противоположном. Закономерный Аристотелев Универсум для него уже данность, и философская трактовка лица, личности представляется как проблема спецификации, т. е. исчерпывающей характеристики частного, отдельного, но в то же время и автономного, самодовлеющего. На последнем аспекте усиленно настаивала греческая патристика, выдвигая и акцентируя его; и именно в силу него удовлетворительным решением не могло быть прежнее понятие Аристотеля-Порфирия, определявшее индивидуальное сущее по неповторимости полного списка его свойств (вещи «называются индивидами, потому что каждая из них состоит из такого набора собственных свойств, который не может быть тем же ни в одной другой [вещи]»[20 - Боэций. Комментарии к Введению Порфирия к «Категориям» Аристотеля // Там же. С. 73.]). Если в Комментарии к Порфирию Боэций приводит и обсуждает это понятие без всякой критики, то в трактате «Против Евтихия и Нестория» оно уже недостаточно. Чтобы адекватно выразить понятие лица, Боэций, как мы скажем сегодня, формирует новое семантическое гнездо.
К специальной терминологической работе вынуждает, по Боэцию, бедность латинского лексикона сравнительно с греческим: латинскому persona, непосредственно обозначавшему лицо, личность, отвечают два разных греческих слова, ?????????? и ????????. При этом, по прямому значению, persona передает именно ????????, поскольку оба слова первоначально обозначали театральную маску, личину (как мы видели, более точный греческий термин – ???????i??). Для адекватной же передачи смысла ????????? – а именно она, «ипостась», выступает ключевым термином в патристическом дискурсе – желателен какой-либо другой, специальный термин. Таким термином Боэций избирает субстанцию, трактуя ее этимологически, как кальку ипостаси (sub-stantia = ????????? = под-лежащее): «Как “substantia” и “substare” мы переводим их [греков] ?????????? и ???????????… ?????????? – то же что субстанция»[21 - Он же. Против Евтихия и Нестория // Там же. С. 173, 174.]. Подобное переосмысление субстанции – очередной существенный отход от Аристотеля; причем более полно смысловому содержанию патриотической «ипостаси» соответствует, согласно Боэцию, оборот «индивидуальная субстанция». Итак, семантическое гнездо понятия личности образуют субстанция (центральный термин, сдвинутый далеко от своего аристотелианского значения), индивид, лицо (persona); итоговой же сводной формулой становится знаменитая дефиниция: «Определение личности найдено: она есть индивидуальная субстанция разумной природы, naturae rationabilis individua substantia»[22 - Там же. С. 172.].
Для верного понимания этой хрестоматийной формулы необходимо учесть, что на пути к ней ориентирами для Боэция служили не только разработки патристики, но также представления римского гражданско-юридического сознания, которые связывали с понятиями лица и индивида идею «особы», «юридического лица», обозначавшегося в Риме приблизительно с I в. н. э. тем же термином persona. Это соединение разнородных ориентиров и коннотаций способствует тому, что сфера применимости построенного понятия видится Боэцию всеохватной: «Не может быть личности, очевидно, у неживых тел… нет личности и в теле, лишенном разума и рассудка… мы говорим о личности человека, Бога, ангела»[23 - Там же. С. 171.]. Здесь – явное отличие от каппадокийской концепции, и вызвано оно тем, что Боэцием решается, на поверку, совсем не та же задача, которая решалась греками.
Греческому сознанию, всегда утверждающему примат опыта, требовалось передать опыт Богообщения, который говорил не только о личной природе Бога, но и о Его бытийной инаковости. Поэтому в греческой патристике выстраивается теологическая персонологическая парадигма, и семантическое гнездо личности выражает основоустройство горизонта личного бытия, онтологически отличного от здешнего (эмпирического, наличного) бытия. При этом, оно принадлежит не дискурсу метафизики, а дискурсу догматического богословия, и антропологическое его содержание лишь опосредованно и имплицитно. Его логическим развитием станет расширение за счет энергийных понятий, достигнутое в поздневизантийском исихастско-паламитском богословии Божественных энергий.
В отличие от этого, задача Боэция – всего лишь передать по-латыни греческую терминологизацию понятия личности. В ходе решения этой задачи, уже не религиозной, а ученой, онтологическая дистанцированность Бога теряется, и решение проблемы личности по Боэцию, в противоположность каппадокийскому решению, не выражает специфических отличий Божественного бытия. Расхождение с патриотическою концепцией принципиально: согласно этой концепции, понятие Личности=Ипостаси отнюдь не является общим для «человека, Бога, ангела» – напротив, «понятие “ипостаси” должно быть отграничено… от понятия “индивида”… “ипостась” не есть то же что индивидуальность»[24 - О. Георгий Флоровский. Восточные Отцы IV века. Париж, 1931. С.80.]. Таким образом, дефиниция Боэция не учитывает специфической природы богословского дискурса. Следует считать, в итоге, что в философии Боэция семантическое гнездо личности принадлежит дискурсу метафизики и выражает лишь основоустройство индивидуального человеческого бытия. Иными словами, личность здесь – антропологическое понятие, и его разработка у Боэция может рассматриваться как начаток иной персонологической парадигмы, уже не теологической, а антропологической.
Зато в сфере антропологии дефиниция Боэция вполне продуктивна. На ее основе философ развивает богатую спецификацию человеческого бытия: «Человек есть сущность (essentia), т. е. ?????; и субсистенция, т. е. ???????? и субстанция, т. е. ????????? и личность, т. е. ????????. А именно, он есть ?????? и сущность, поскольку он есть; ????????? и субсистенция – поскольку он не [находится] в каком-либо подлежащем; он есть ?????????? и субстанция, поскольку служит подлежащим (subest) для других, не являющихся субсистенциями, то есть ????????; наконец, он есть ???????? и личность, поскольку он – разумный индивидуум»[25 - Боэций. Против Евтихия и Нестория. С. 174.]. Все эти термины и их взаимные различения – не пустая схоластика, они антропологически содержательны. Хотя и стоит заметить, что теснейшее сближение ипостаси (лица) с субстанцией (ср. еще: «О лице может идти речь только применительно к субстанциям»[26 - Там же. С. 171.]), будучи прочно усвоено классическою антропологией, играло в ней в дальнейшем негативную, тормозящую роль, став, в конечном итоге, одним из ведущих факторов, которые завели эту антропологию в тупик. Однако на данном этапе, сравнительно с антропологией Аристотеля, антропология Боэция – несомненное и значительное продвижение процесса философской индивидуации, то есть формирования метафизического концепта индивидуального человека как автономного, самодостаточного агента мышления и действия[27 - Подчеркнем сразу, что здесь и далее, говоря об индивидуации, мы рассматриваем данный концепт исключительно в антропологическом и персонологическом контексте и потому вовсе не входим в хорошо известную историю принципа индивидуации в схоластике как формального принципа, относящегося к бытию вещи и нашедшего, в частности, формулировку в понятии haecceitas, «этости» Дунса Скота. В недавней литературе, детальное описание этой истории можно найти в книге: Д. В. Шмонин. В тени Ренессанса: Вторая схоластика в Испании. СПб., 2006. С. 191–226.]. Вместе с тем, этот процесс здесь заведомо не был завершен, скорее лишь начат; и дальнейшая западная метафизика активно пошла по пути его продолжения – что то же, по пути развития антропологической персонологической парадигмы. Бифуркация европейской персонологии состоялась и была в дальнейшем закреплена. В восточнохристианской мысли, оставшейся на позициях теологической парадигмы, ни принцип индивидуации, ни вся связанная с ним работа западной философии практически не нашли отражения.
Своего полного завершения процесс индивидуации достигает у Декарта, в концепте метафизического субъекта. Кратко резюмируя, с Боэцием мы на полпути к субъекту.
3. Человек Картезия
В отличие от Аристотеля и Боэция (но подобно Платону), Декарт – философ с миссией, с вестью: ему открылась некая важнейшая истина, и его мысль движима стремлением донести, продемонстрировать, утвердить эту истину-весть. Нисколько не будучи по натуре проповедником, тем паче пророком, он вместе с тем абсолютно убежден в великом масштабе своего открытия и заявляет об этом масштабе со всей уверенностью, в манере, так сказать, тихого харизматика. По Декарту, в его учении вечные вопросы человеческой мысли, фундаментальные метафизические апории, такие как существование Бога и бессмертие души, навсегда перестают быть апориями и вопросами, получая «самые строгие и очевидные доказательства». Эти доказательства «по строгости и очевидности равняются доказательствам в геометрии и даже их превосходят»[28 - R. Descartes. Mеditations sur la philosophie premi?re. A Messieurs doyen et docteurs de la sacrеe facultе de thеologie de Paris // Id. Oeuvres et lettres. Prеs. par A. Bridoux. P., Bibl. de la Plеiade, 2-me ed. 1987. P. 260.(В дальнейшем, все ссылки на сочинения Декарта – по данному изданию. Все приводимые цитаты – наш перевод франц. текстов этих соч. Для соч., первоначально написанных Декартом по-латыни, авторизованные франц. переводы признаются более авторитетными текстами, играющими роль «последней авторской редакции» (см. замечания А. Бриду в указ. изд.).].
Больше того, они таковы, что «никогда и никоим образом дух человека не сможет открыть лучших»[29 - Ib. Р. 259.]. И еще того больше: учение Картезия вообще освобождает человечество от необходимости дальнейших занятий философией: «Автор в своих “Медитациях” достаточно углубился в метафизические предметы и установил их твердость и достоверность (certitude) настолько, что другим уже не стоит пытаться этого делать и напрягать подолгу свой ум размышлениями о подобных вещах»[30 - Id. Entretien avec Burman. Loc. cit. P. 1381.]. Помимо философии, учение охватывает и естественные науки, где открывает вещи не менее великие: «Хотя люди сейчас отказываются принять это объяснение природы света, через 150 лет они ясно увидят, что оно прекрасно и истинно»[31 - Ib. Р. 1391. Речь идет об объяснении, данном в «Началах философии» (кн. З) на базе идеи об особом роде давления, который не связан ни с каким движением.]. Неудивительно, что мсье Бриду, подготовивший современное издание Декарта и в своих комментариях не скрывающий восхищения его творчеством, не может как бы со вздохом не сказать и о его «безмерной амбиции». – История, однако, оправдала философа в его амбициях, хотя при этом вовсе не подтвердила львиную долю его открытий (за важным исключением математики). Многосмысленная ситуация! Не только упомянутое «объяснение природы света», но и все почти декартовы объяснения физических, физиологических, психических явлений оказались фантазиями, «более строгие, чем в геометрии» доказательства недоказуемых метафизических постулатов с неизбежностью обнаружили капитальные изъяны – но при всем том философская и научная мысль Европы изменила свой характер, строй, курс и начала развертываться в пространстве, организованном по Декарту, – в декартовых координатах, как основанная им аналитическая геометрия.