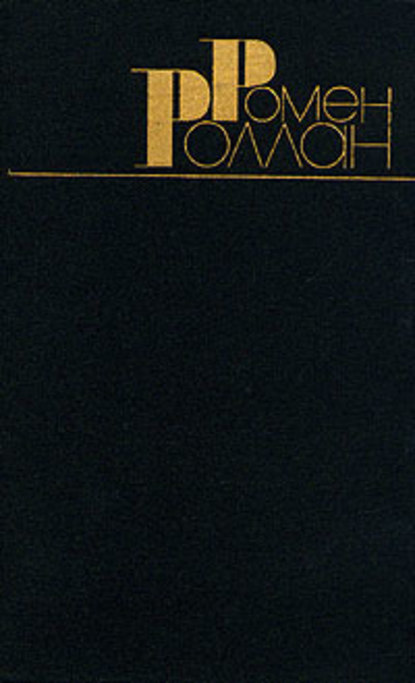По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кола Брюньон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Мы едали и не таких!..»
Анис, мой младший сын, взирал на них с ужасом.
Анис, удачно прозванный, который пороха не выдумает.
Споры его тревожат. Ко всему на свете он равнодушен.
Он счастлив, когда может мирно зевать и скучать весь день-деньской.
Он считает дьявольским наваждением всякую политику и религию, которые придуманы для того, чтобы смущать сладкий сон разумных людей или разум людей сонных… «Худо или хорошо то, что у меня есть, раз оно у меня есть, к чему менять? Постель, которую мы облежали, облежали мы, облежали для себя. Мне новых простынь не надо…» Но его не спрашивали и перетряхивали его тюфяк. И, чтобы обеспечить себе покой, этот кроткий человек, в своем негодовании, рад был бы выдать всех смутьянов палачу. Сейчас он с растерянным видом слушал чужие речи; и как только они становились громче, втягивал голову в плечи.
Я, превратившись в слух и зрение, забавлялся тем, что старался разобрать, в чем эти четверо – мои, что у них моего. Как-никак, это мои сыновья; в этом я ручаюсь. А если они произошли от меня, то, стало быть, они из меня вышли; но каким же, черт, путем они в меня вошли? Я ощупываю себя: как же это я выносил в своей утробе этого проповедника, этого пустосвята и этого бешеного ягненка? (Авантюрист – еще куда ни шло…) О коварная природа! Так они пребывали во мне? Да, я таил в себе их семена; я узнаю некоторые жесты, некоторые обороты речи и даже мысли; я узнаю себя в них под маской; маска удивляет, но под нею – тот же человек. Тот же, единый и многообразный. В каждом из нас сидят двадцать разных людей: и хохотун, и плакса, и такой, как пень, которому все равно, что ночь, что день, и волк, и овца, и собака, и потихоня, и забияка; но один из двадцати сильнее всех и, присваивая себе одному право говорить, остальным девятнадцати затыкает рты. Поэтому они стараются удрать, как только видят, что дверь открыта. Мои четыре сына так и удрали. Бедняги!
Mea culpa. Такие далекие, они мне так близки!.. Что ни говори, они все-таки мои детеныши. Когда они говорят глупости, мне хочется попросить у них прощения, за то что я создал их глупыми. Хорошо еще, что сами они довольны и считают себя красавцами!.. Что они собой любуются, этому я очень рад; но чего я не выношу, так это того, что они не терпят, чтобы у ближнего было рыло, хотя ему оно и мило.
Нахохлившись, грозя глазами и клювом, все четверо имели вид сердитых петухов, готовых кинуться друг на друга. Я спокойно созерцал, затем сказал:
– Браво! Браво, мои овечки, я вижу, вы бы не дали себя остричь. Кровь хороша (еще бы, ведь это моя!), а голос и того лучше. Вас мы послушали, теперь мой черед! У меня чешется язык. А вы передохните.
Но они не очень-то спешили повиноваться. Чье-то слово пробудило грозу. Жан-Франсуа, вскочив, схватил стул. Эмон-Мишель обнажил свою длинную шпагу, Антуан – свой нож; а Анис (глотка у него, чтобы мычать, телячья). вопил: «Пожар! Тонем!» Я видел, вот-вот эти звери перережутся. Я схватил первый подвернувшийся под руку предмет (это как раз оказался кувшин с голубками, предмет моего отчаяния и Флоримоновой гордости) и, сам того не желая, вдребезги разбил его о стол. А Мартина, прибежав, размахивала дымящимся котлом и грозилась окатить их. Они голосили, как стадо ослят; но когда кричу я, то нет длинноухого, который не спустил бы флага. Я сказал:
– Здесь я хозяин, и я приказываю. Замолчите. Что это вы, с ума сошли?
Или мы собрались, чтобы препираться о никейском символе веры? Я препирательства люблю; но сделайте милость, друзья мои, изберите предмет поновее. От этих я устал, они мне невмоготу. Спорьте, черт возьми, если это вам прописано для здоровья, об этом бургундском или об этой колбасе, о чем-нибудь таком, что можно видеть, выпить, тронуть, съесть: мы поедим, попьем, чтобы проверить. Но спорить о боге – боже правый! – о святом духе, это значит показывать, друзья мои, что дух у вас помутился!.. Я ничего не говорю плохого про тех, кто верит: я верю, мы верим, вы верите… чему вам угодно. Но поговорим о чем-нибудь другом: неужели ничего такого не найдется на свете? Всякий из вас уверен, что создан для райских врат. Что ж, и отлично, я очень рад. Вас там ждут, каждому избраннику уготовано место, остальные – пожалуйте обратно: само собой понятно…
Да предоставьте вы господу богу самому размещать своих постояльцев; это его обязанность, и вы в его распоряжения не вмешивайтесь. Всякому свое царство. Богу – небо, нам – земля. Наше дело устроить ее, если возможно, поуютнее. Для такой работы никто не лишний. Или, по-вашему, можно обойтись и без вас? Вы все четверо полезны стране. Ей так же нужна твоя вера, Жан-Франсуа, в то, что было, как и твоя, Антуан, в то, чему следовало бы быть, так же нужна твоя непоседливость, Эмон-Мишель, как и твоя.
Анис, неподвижность. Вы – четыре столпа. Стоит податься одному, и рухнет дом. Вы бы остались торчать бесполезной развалиной. Или вы этого добиваетесь? Недурно, нечего сказать! Что бы вы сказали про четырех моряков, которые на волнах, в непогоду, вместо того чтобы управлять кораблем, помышляли бы только о спорах?.. Мне вспоминается разговор, который мне некогда передавали, короля Генриха с герцогом Неверским. Они жаловались на своих французов, что у тех страсть истреблять друг друга. Король говорил: Ventresaintgris [29 - Черт возьми! – излюбленное восклицание Генриха IV.] Мне бы хотелось, чтобы их успокоить, взять этих бешеных монахов и неистовых евангельских проповедников, зашить в мешки, по паре, и утопить в Луаре, как помет котят. А Невер говорил, смеясь: «Что до меня, я бы удовольствовался тем, что отправил бы эти мешки на те островки, куда, говорят, господа бернцы высаживают сварливых мужей и жен, которых месяц спустя, когда за ними возвращается лодка, находят воркующими нежно и кротко, как голубки». Вам бы тоже не мешало прописать такое лечение. Вы огрызаетесь, уродцы вы этакие? Поворачиваетесь друг к другу спиной?.. Полно, посмотрите лучше на себя, дети! Напрасно вы воображаете, что сделаны каждый из особого теста и много лучше, чем ваши братья; вы четыре помола ejusdem farinae [30 - Той же муки (лат.).], Брюньонова семени, бургундского племени. Посмотрите на этот нахальный носище, который расположился поперек лица, на этот рот, широко высеченный в коре, воронку, чтобы лить пойло, на эти кустами заросшие глаза, которые хотели бы казаться злыми и смеются! Да ведь все вы меченые! Разве вы не видите, что, вредя друг другу, вы сами себя разрушаете? И разве не лучше бы было, если бы вы протянули друг другу руку? Вы мыслите по-разному? Ну так что же? Тем лучше! Или всем вам хотелось бы возделывать одно и то же поле? Чем больше у семьи будет полей и мыслей, тем мы будем счастливее и сильнее. Распространяйтесь, размножайтесь, охватывайте как можно больше земли и мысли. Каждый свою и все заодно (ну, сыны мои, обнимемся!), чтобы длинный брюньоновский нос расстилал по полям свою тень и вдыхал восхитительный земной день!
Они молчали, с хмурыми лицами, поджав губы; но видно было, что они с трудом удерживаются от смеха. И вдруг Эмон-Мишель, разразившись громким хохотом, протянул руку Жану-Франсуа, говоря: «Ну, старший нос, решен вопрос. Выводок ос, помиримся!» Они поцеловались.
– Эй, Мартина! За наше здоровье! Тут я заметил, что, когда, рассердясь, я стукнул кувшином, я порезал себе руку. На столе была кровь. Антуан, торжественный, как всегда, приподнял мою руку, подставил под нее стакан, собрал в него алый сок из моей жилы и высокопарно заявил:
– Чтобы скрепить наш союз, выпьем все четверо из этого стакана!
– Что ты, что ты, – говорю, – Антуан, портить господне вино! Фу, противно даже! Выплесни эту микстуру. Кто хочет пить мою кровь без примеси, пусть выпьет досуха и без примеси свое вино!
Затем мы пили, и гуторили, и о вкусе вина не спорили. Когда они ушли, Мартина, перевязывая мне руку, сказала:
– Старый злодей, ты, наконец, достиг своей цели, на этот раз?
– О какой это цели ты говоришь? Помирить их?
– Я говорю о другом.
– О чем же тогда? Она указала на разбитый кувшин.
– Ты меня прекрасно понимаешь. Не изображай невинность… Сознайся…
Все равно сознаешься… Ну, скажи мне на ухо! Он не узнает.
Я разыгрывал удивление, негодование, непонимание, отрицал; но я давился смехом… пфф… и подавился.
Она повторила мне:
– Злодей! Злодей! Я сказал:
– Слишком уж он был безобразен. Знаешь, дочка: один из нас, он или я, должен был исчезнуть.
Мартина сказала:
– Тот, что остался, ничуть не красивее.
– Ну, эта птица может быть безобразна, сколько ей угодно! Мне все равно. Я ее не вижу.
Рождественский сочельник На смазанных петлях вращается год. Дверь затворяется и отворяется вновь. Как складываемая ткань, падают дни в бархатистый сундук ночей.
Они входят с одной стороны, выходят с другой и, со дня святой Люции уже не такие куцые, вырастают на блошиный скок. На меня уже посматривает в щелочку Новый год.
Сидя под навесом большого камина в рождественскую ночь, я вижу, словно со дня колодца, звездное небо над собой, его ресницы мигающие, его сердечки замирающие; и я слышу, как налетают колокола и в ровном воздухе машут, машут, звоня к полуночной обедне. Я рад, что он родился, младенец, в этот ночной час, в этот самый темный час, когда мир словно кончается. Его голосок поет: «О день, ты возвратишься! Уже ты наступаешь! Ты близок, Новый год!» И надежда своими теплыми крыльями накрывает ледяную зимнюю ночь и делает ее нежной.
Во всем доме я один, дети мои в церкви; это первый раз, что я не пошел туда. Я остался дома с моим псом Ситроном и серым котенком Патапоном. Мы с ними мечтаем и глядим, как огонь лижет камин. Я вспоминаю сегодняшний вечер. Только что вокруг меня сидел весь мой выводок; я рассказывал Глоди, таращившей глазки, старые сказки, и про фей, и про Утенка, и про Ощипанного цыпленка, и про мальчика, как он стал богачом, продав петуха возчикам, которые ехали на тележках грузить день. Нам было очень весело. Остальные слушали и смеялись, и каждый что-нибудь добавлял. Временами все смолкали и слушали, как кипит вода, как потрескивают дрова, как белые хлопья бьют в стекло, как точит сверчок свое дупло. Ах, славные зимние ночи, тишина, тепло сгрудившегося стадца, мечтания поздних часов, когда дух блуждает то здесь, то там, но знает это сам, и если путает вехи, то только для потехи…
И вот я подвожу счет на целый год и вижу, что за полгода я лишился всего: жены, дома, денег и ног. Но что всего забавнее, так это то, что в конечном итоге я оказываюсь так же богат, как и раньше! Вы говорите, у меня ничего больше нет? Да, нести мне нечего. Что ж, я разгрузился! И никогда еще я не чувствовал себя таким свежим, таким свободным, никогда мне так легко не плавалось по волнам моей фантазии… А если бы мне сказали в прошлом году, что я так весело встречу беду! Не я ли клялся и божился, что желаю до конца своих дней оставаться хозяином у себя, хозяином самого себя, независимым, не быть в долгу ни перед кем за то, что выпью или съем, и никому не давать отчета в том, что я выкинул то-то и то-то! Человек предполагает… А посмотришь – все идет совсем не так, как того он ждет; и это наилучший оборот. И потом в сущности человек – славное животное. Все ему впору. Он одинаково хорошо сживается и с радостью, и с горем, и с обжорством, и с голодом. Дайте ему четыре ноги или отнимите обе, сделайте его глухим, слепым, немым, он ухитрится приспособиться и каким-то образом, про себя, видеть, слышать и говорить. Он словно воск, который можно растягивать и сжимать; душа плавит его на своем огне. И радостно ощущать, что обладаешь этой гибкостью духа и мышц, что можешь, если надо, быть рыбой в воде, птицей в воздухе, в огне саламандрой, а на земле человеком, который весело борется с четырьмя стихиями.
Поэтому-то чем большего ты лишен, тем ты богаче: ибо дух создает, чего ему недостает; густое дерево, если обрезать лишние ветви, только выше растет. Чем меньше у меня, тем сам я больше…
Полночь. Бьют часы…
Родилось дивное дитя…
Я пою рождественскую песнь…
Играй, свирель, звени, волынка,
Как он прекрасен, как он мил…
Меня клонит дремота, я засыпаю, плотнее усевшись, чтобы не свалиться в огонь…
Родился…
Играй, свирель, звени, веселая волынка.
Мессия маленький рожден.
Чем кто бедней, тем больше он…
Крещение
А ведь я ловкач! Чем я бедней, тем больше у меня добра. И я это отлично знаю. Я нашел способ быть богатым, ничего не имея, чужим добром. У меня есть власть и никаких обязанностей. Что это рассказывают про стариков отцов, будто все раздав, все раздарив неблагодарным детям, рубашку и штаны, они оказываются покинутыми, заброшенными и только и видят, как все глазами толкают их в могилу? Это попросту фефелы. Никогда, ей-же-ей, меня так не любили, так не баловали, как в моей бедности. Это потому, что я не такой дурак, чтобы все раздать, ничего себе не оставив. Разве дарится только кошелек? Я, все раздарив, сохраняю лучшее, сохраняю мою веселость, всю ту жизнерадостность и лукавство, всю ту беспутную мудрость и мудрое беспутство, что я скопил за полвека скитаний вдоль и поперек жизни. А запас еще далеко не иссяк. И он открыт для всех; пусть все из него черпают! Разве это ничего не стоит? Если я беру у своих детей, то и им я даю; и мы в расчете. А если случается, что один дает немного меньше, чем другой, то любовь восполняет, что нужно; и всегда все обходится дружно.
Кто желает посмотреть на короля без королевства, на Иоанна Безземельного, на счастливчика, кто желает посмотреть на Брюньона Галльского, пусть полюбуется, как я сегодня восседаю на троне, возглавляя шумный пир! Сегодня крещение. Днем по нашей улице прошли цари-волхвы и их свита, все как надо, белое стадо, шесть пастушков и шесть пастушек, которые пели во весь рот; а собаки лаяли из-под ворот. И вот вечером мы сидим за столом, все мои дети и дети моих детей. Это будет тридцать человек, все родня, считая меня. И все тридцать кричат нам:
– Король пьет!
Король – это я. На голове у меня корона, пирожная форма. А королева моя – Мартина; как в священном писании, я взял в жены собственную дочь.
Анис, мой младший сын, взирал на них с ужасом.
Анис, удачно прозванный, который пороха не выдумает.
Споры его тревожат. Ко всему на свете он равнодушен.
Он счастлив, когда может мирно зевать и скучать весь день-деньской.
Он считает дьявольским наваждением всякую политику и религию, которые придуманы для того, чтобы смущать сладкий сон разумных людей или разум людей сонных… «Худо или хорошо то, что у меня есть, раз оно у меня есть, к чему менять? Постель, которую мы облежали, облежали мы, облежали для себя. Мне новых простынь не надо…» Но его не спрашивали и перетряхивали его тюфяк. И, чтобы обеспечить себе покой, этот кроткий человек, в своем негодовании, рад был бы выдать всех смутьянов палачу. Сейчас он с растерянным видом слушал чужие речи; и как только они становились громче, втягивал голову в плечи.
Я, превратившись в слух и зрение, забавлялся тем, что старался разобрать, в чем эти четверо – мои, что у них моего. Как-никак, это мои сыновья; в этом я ручаюсь. А если они произошли от меня, то, стало быть, они из меня вышли; но каким же, черт, путем они в меня вошли? Я ощупываю себя: как же это я выносил в своей утробе этого проповедника, этого пустосвята и этого бешеного ягненка? (Авантюрист – еще куда ни шло…) О коварная природа! Так они пребывали во мне? Да, я таил в себе их семена; я узнаю некоторые жесты, некоторые обороты речи и даже мысли; я узнаю себя в них под маской; маска удивляет, но под нею – тот же человек. Тот же, единый и многообразный. В каждом из нас сидят двадцать разных людей: и хохотун, и плакса, и такой, как пень, которому все равно, что ночь, что день, и волк, и овца, и собака, и потихоня, и забияка; но один из двадцати сильнее всех и, присваивая себе одному право говорить, остальным девятнадцати затыкает рты. Поэтому они стараются удрать, как только видят, что дверь открыта. Мои четыре сына так и удрали. Бедняги!
Mea culpa. Такие далекие, они мне так близки!.. Что ни говори, они все-таки мои детеныши. Когда они говорят глупости, мне хочется попросить у них прощения, за то что я создал их глупыми. Хорошо еще, что сами они довольны и считают себя красавцами!.. Что они собой любуются, этому я очень рад; но чего я не выношу, так это того, что они не терпят, чтобы у ближнего было рыло, хотя ему оно и мило.
Нахохлившись, грозя глазами и клювом, все четверо имели вид сердитых петухов, готовых кинуться друг на друга. Я спокойно созерцал, затем сказал:
– Браво! Браво, мои овечки, я вижу, вы бы не дали себя остричь. Кровь хороша (еще бы, ведь это моя!), а голос и того лучше. Вас мы послушали, теперь мой черед! У меня чешется язык. А вы передохните.
Но они не очень-то спешили повиноваться. Чье-то слово пробудило грозу. Жан-Франсуа, вскочив, схватил стул. Эмон-Мишель обнажил свою длинную шпагу, Антуан – свой нож; а Анис (глотка у него, чтобы мычать, телячья). вопил: «Пожар! Тонем!» Я видел, вот-вот эти звери перережутся. Я схватил первый подвернувшийся под руку предмет (это как раз оказался кувшин с голубками, предмет моего отчаяния и Флоримоновой гордости) и, сам того не желая, вдребезги разбил его о стол. А Мартина, прибежав, размахивала дымящимся котлом и грозилась окатить их. Они голосили, как стадо ослят; но когда кричу я, то нет длинноухого, который не спустил бы флага. Я сказал:
– Здесь я хозяин, и я приказываю. Замолчите. Что это вы, с ума сошли?
Или мы собрались, чтобы препираться о никейском символе веры? Я препирательства люблю; но сделайте милость, друзья мои, изберите предмет поновее. От этих я устал, они мне невмоготу. Спорьте, черт возьми, если это вам прописано для здоровья, об этом бургундском или об этой колбасе, о чем-нибудь таком, что можно видеть, выпить, тронуть, съесть: мы поедим, попьем, чтобы проверить. Но спорить о боге – боже правый! – о святом духе, это значит показывать, друзья мои, что дух у вас помутился!.. Я ничего не говорю плохого про тех, кто верит: я верю, мы верим, вы верите… чему вам угодно. Но поговорим о чем-нибудь другом: неужели ничего такого не найдется на свете? Всякий из вас уверен, что создан для райских врат. Что ж, и отлично, я очень рад. Вас там ждут, каждому избраннику уготовано место, остальные – пожалуйте обратно: само собой понятно…
Да предоставьте вы господу богу самому размещать своих постояльцев; это его обязанность, и вы в его распоряжения не вмешивайтесь. Всякому свое царство. Богу – небо, нам – земля. Наше дело устроить ее, если возможно, поуютнее. Для такой работы никто не лишний. Или, по-вашему, можно обойтись и без вас? Вы все четверо полезны стране. Ей так же нужна твоя вера, Жан-Франсуа, в то, что было, как и твоя, Антуан, в то, чему следовало бы быть, так же нужна твоя непоседливость, Эмон-Мишель, как и твоя.
Анис, неподвижность. Вы – четыре столпа. Стоит податься одному, и рухнет дом. Вы бы остались торчать бесполезной развалиной. Или вы этого добиваетесь? Недурно, нечего сказать! Что бы вы сказали про четырех моряков, которые на волнах, в непогоду, вместо того чтобы управлять кораблем, помышляли бы только о спорах?.. Мне вспоминается разговор, который мне некогда передавали, короля Генриха с герцогом Неверским. Они жаловались на своих французов, что у тех страсть истреблять друг друга. Король говорил: Ventresaintgris [29 - Черт возьми! – излюбленное восклицание Генриха IV.] Мне бы хотелось, чтобы их успокоить, взять этих бешеных монахов и неистовых евангельских проповедников, зашить в мешки, по паре, и утопить в Луаре, как помет котят. А Невер говорил, смеясь: «Что до меня, я бы удовольствовался тем, что отправил бы эти мешки на те островки, куда, говорят, господа бернцы высаживают сварливых мужей и жен, которых месяц спустя, когда за ними возвращается лодка, находят воркующими нежно и кротко, как голубки». Вам бы тоже не мешало прописать такое лечение. Вы огрызаетесь, уродцы вы этакие? Поворачиваетесь друг к другу спиной?.. Полно, посмотрите лучше на себя, дети! Напрасно вы воображаете, что сделаны каждый из особого теста и много лучше, чем ваши братья; вы четыре помола ejusdem farinae [30 - Той же муки (лат.).], Брюньонова семени, бургундского племени. Посмотрите на этот нахальный носище, который расположился поперек лица, на этот рот, широко высеченный в коре, воронку, чтобы лить пойло, на эти кустами заросшие глаза, которые хотели бы казаться злыми и смеются! Да ведь все вы меченые! Разве вы не видите, что, вредя друг другу, вы сами себя разрушаете? И разве не лучше бы было, если бы вы протянули друг другу руку? Вы мыслите по-разному? Ну так что же? Тем лучше! Или всем вам хотелось бы возделывать одно и то же поле? Чем больше у семьи будет полей и мыслей, тем мы будем счастливее и сильнее. Распространяйтесь, размножайтесь, охватывайте как можно больше земли и мысли. Каждый свою и все заодно (ну, сыны мои, обнимемся!), чтобы длинный брюньоновский нос расстилал по полям свою тень и вдыхал восхитительный земной день!
Они молчали, с хмурыми лицами, поджав губы; но видно было, что они с трудом удерживаются от смеха. И вдруг Эмон-Мишель, разразившись громким хохотом, протянул руку Жану-Франсуа, говоря: «Ну, старший нос, решен вопрос. Выводок ос, помиримся!» Они поцеловались.
– Эй, Мартина! За наше здоровье! Тут я заметил, что, когда, рассердясь, я стукнул кувшином, я порезал себе руку. На столе была кровь. Антуан, торжественный, как всегда, приподнял мою руку, подставил под нее стакан, собрал в него алый сок из моей жилы и высокопарно заявил:
– Чтобы скрепить наш союз, выпьем все четверо из этого стакана!
– Что ты, что ты, – говорю, – Антуан, портить господне вино! Фу, противно даже! Выплесни эту микстуру. Кто хочет пить мою кровь без примеси, пусть выпьет досуха и без примеси свое вино!
Затем мы пили, и гуторили, и о вкусе вина не спорили. Когда они ушли, Мартина, перевязывая мне руку, сказала:
– Старый злодей, ты, наконец, достиг своей цели, на этот раз?
– О какой это цели ты говоришь? Помирить их?
– Я говорю о другом.
– О чем же тогда? Она указала на разбитый кувшин.
– Ты меня прекрасно понимаешь. Не изображай невинность… Сознайся…
Все равно сознаешься… Ну, скажи мне на ухо! Он не узнает.
Я разыгрывал удивление, негодование, непонимание, отрицал; но я давился смехом… пфф… и подавился.
Она повторила мне:
– Злодей! Злодей! Я сказал:
– Слишком уж он был безобразен. Знаешь, дочка: один из нас, он или я, должен был исчезнуть.
Мартина сказала:
– Тот, что остался, ничуть не красивее.
– Ну, эта птица может быть безобразна, сколько ей угодно! Мне все равно. Я ее не вижу.
Рождественский сочельник На смазанных петлях вращается год. Дверь затворяется и отворяется вновь. Как складываемая ткань, падают дни в бархатистый сундук ночей.
Они входят с одной стороны, выходят с другой и, со дня святой Люции уже не такие куцые, вырастают на блошиный скок. На меня уже посматривает в щелочку Новый год.
Сидя под навесом большого камина в рождественскую ночь, я вижу, словно со дня колодца, звездное небо над собой, его ресницы мигающие, его сердечки замирающие; и я слышу, как налетают колокола и в ровном воздухе машут, машут, звоня к полуночной обедне. Я рад, что он родился, младенец, в этот ночной час, в этот самый темный час, когда мир словно кончается. Его голосок поет: «О день, ты возвратишься! Уже ты наступаешь! Ты близок, Новый год!» И надежда своими теплыми крыльями накрывает ледяную зимнюю ночь и делает ее нежной.
Во всем доме я один, дети мои в церкви; это первый раз, что я не пошел туда. Я остался дома с моим псом Ситроном и серым котенком Патапоном. Мы с ними мечтаем и глядим, как огонь лижет камин. Я вспоминаю сегодняшний вечер. Только что вокруг меня сидел весь мой выводок; я рассказывал Глоди, таращившей глазки, старые сказки, и про фей, и про Утенка, и про Ощипанного цыпленка, и про мальчика, как он стал богачом, продав петуха возчикам, которые ехали на тележках грузить день. Нам было очень весело. Остальные слушали и смеялись, и каждый что-нибудь добавлял. Временами все смолкали и слушали, как кипит вода, как потрескивают дрова, как белые хлопья бьют в стекло, как точит сверчок свое дупло. Ах, славные зимние ночи, тишина, тепло сгрудившегося стадца, мечтания поздних часов, когда дух блуждает то здесь, то там, но знает это сам, и если путает вехи, то только для потехи…
И вот я подвожу счет на целый год и вижу, что за полгода я лишился всего: жены, дома, денег и ног. Но что всего забавнее, так это то, что в конечном итоге я оказываюсь так же богат, как и раньше! Вы говорите, у меня ничего больше нет? Да, нести мне нечего. Что ж, я разгрузился! И никогда еще я не чувствовал себя таким свежим, таким свободным, никогда мне так легко не плавалось по волнам моей фантазии… А если бы мне сказали в прошлом году, что я так весело встречу беду! Не я ли клялся и божился, что желаю до конца своих дней оставаться хозяином у себя, хозяином самого себя, независимым, не быть в долгу ни перед кем за то, что выпью или съем, и никому не давать отчета в том, что я выкинул то-то и то-то! Человек предполагает… А посмотришь – все идет совсем не так, как того он ждет; и это наилучший оборот. И потом в сущности человек – славное животное. Все ему впору. Он одинаково хорошо сживается и с радостью, и с горем, и с обжорством, и с голодом. Дайте ему четыре ноги или отнимите обе, сделайте его глухим, слепым, немым, он ухитрится приспособиться и каким-то образом, про себя, видеть, слышать и говорить. Он словно воск, который можно растягивать и сжимать; душа плавит его на своем огне. И радостно ощущать, что обладаешь этой гибкостью духа и мышц, что можешь, если надо, быть рыбой в воде, птицей в воздухе, в огне саламандрой, а на земле человеком, который весело борется с четырьмя стихиями.
Поэтому-то чем большего ты лишен, тем ты богаче: ибо дух создает, чего ему недостает; густое дерево, если обрезать лишние ветви, только выше растет. Чем меньше у меня, тем сам я больше…
Полночь. Бьют часы…
Родилось дивное дитя…
Я пою рождественскую песнь…
Играй, свирель, звени, волынка,
Как он прекрасен, как он мил…
Меня клонит дремота, я засыпаю, плотнее усевшись, чтобы не свалиться в огонь…
Родился…
Играй, свирель, звени, веселая волынка.
Мессия маленький рожден.
Чем кто бедней, тем больше он…
Крещение
А ведь я ловкач! Чем я бедней, тем больше у меня добра. И я это отлично знаю. Я нашел способ быть богатым, ничего не имея, чужим добром. У меня есть власть и никаких обязанностей. Что это рассказывают про стариков отцов, будто все раздав, все раздарив неблагодарным детям, рубашку и штаны, они оказываются покинутыми, заброшенными и только и видят, как все глазами толкают их в могилу? Это попросту фефелы. Никогда, ей-же-ей, меня так не любили, так не баловали, как в моей бедности. Это потому, что я не такой дурак, чтобы все раздать, ничего себе не оставив. Разве дарится только кошелек? Я, все раздарив, сохраняю лучшее, сохраняю мою веселость, всю ту жизнерадостность и лукавство, всю ту беспутную мудрость и мудрое беспутство, что я скопил за полвека скитаний вдоль и поперек жизни. А запас еще далеко не иссяк. И он открыт для всех; пусть все из него черпают! Разве это ничего не стоит? Если я беру у своих детей, то и им я даю; и мы в расчете. А если случается, что один дает немного меньше, чем другой, то любовь восполняет, что нужно; и всегда все обходится дружно.
Кто желает посмотреть на короля без королевства, на Иоанна Безземельного, на счастливчика, кто желает посмотреть на Брюньона Галльского, пусть полюбуется, как я сегодня восседаю на троне, возглавляя шумный пир! Сегодня крещение. Днем по нашей улице прошли цари-волхвы и их свита, все как надо, белое стадо, шесть пастушков и шесть пастушек, которые пели во весь рот; а собаки лаяли из-под ворот. И вот вечером мы сидим за столом, все мои дети и дети моих детей. Это будет тридцать человек, все родня, считая меня. И все тридцать кричат нам:
– Король пьет!
Король – это я. На голове у меня корона, пирожная форма. А королева моя – Мартина; как в священном писании, я взял в жены собственную дочь.