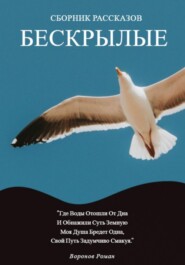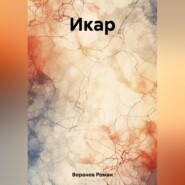По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Он и она
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он и она
Роман Воронов
Он отправляется в долгое путешествие на поиски единственной ее, она запирает себя в башне одиночества на век, лишь бы дождаться именно его, но, встретившись однажды, каждый из них обретет не того, о ком мечтал и кого видел во снах. Этот сборник о том, как ему найти в ней себя, а ей в его глазах отразиться самой.
Роман Воронов
Он и она
Он и Она
Он
Ворота за спиной бесшумно затворились. Он не видел, боялся обернуться, просто почувствовал, что это произошло. Там, за стеной, осталось что-то настоящее, привычное, заполненное светом и яркими красками, мягкими звуками, ласкающими саму душу, и присутствием кого-то, кто был не просто дорог, но частью которого, казалось, Он был сам. В общем, в целях экономии той энергии, что по мере удаления от Истока теперь следовало расходовать дозированно, дабы не сотрясать мыслительный эфир впустую, Он закончил собственные стенания неожиданно родившейся формулой: «Я оставил, пусть и не по собственной воле, место, которое покидать не принято».
Впереди ждал Путь – перспектива туманная, даже в условиях непрерывного сияния из-за плеча воспоминаний об утраченной Обители, и пугающая, несмотря на то, что вымощенный приветливо-желтым кирпичом тракт легко просматривался до самого горизонта.
«Ничто не предвещало перемен, пока еще, но уже витало тревогой в воздухе», – именно так описал Он свой первый поистине самостоятельный шаг. То, для чего Он был рожден или сотворен (здесь легко запутаться в определениях), пряталось повсюду в виде знаков, подсказок и намеков, но насущная стезя не предлагала ни одного конкретного утверждения, в отличие от табличек, без счета расставленных по Обители, где все плоды были разложены по полочкам, а на деревьях висели бирки с полным указанием имени носителя сей прекрасной кроны.
«Иди и думай», – примерно такой фразой можно было бы украсить арку, начинающую Путь, но тот, оставшийся за стеной, не позаботился об этом, посчитав подобный пассаж откровенной шпаргалкой. Оглядываясь на собственные следы, незримые, за редким исключением, а в основном – либо окрашенные кровью – уже и не важно, своей или чужой, – либо просоленные потом и слезами, Он с грустью вспоминал тот Перевал, за которым сияние Обители, вспыхнув напоследок тонким ореолом вокруг головы, растворилось, уступив место глубокой печали, отдававшейся с каждым шагом ноющей болью в сердце и назойливым шепотом странных голосов внутри сознания.
В столь сильном расстройстве Он обреченно брел по дороге, ничем не меняющей своего «лица» с самого первого Его шага. При этом знаки превратились в обычные выбоины, подсказки обернулись причудливыми рисунками, увы, всего лишь придорожной пыли, нанесенной ветром, а намеки… – да кто же поднимет голову вверх, к небесам, когда вот-вот, только отвернись, наступишь в собственное…
Здесь, в этом одновременно и виртуозном, и комическом танце, нагружающем вестибулярный аппарат и расслабляющем сознание простотой счета – шаг влево, прыжок, шаг вправо, еще прыжок – возникло Забвение.
Место былого Света – оставленная Обитель – уже ничем не напоминает о себе, Он занят выживанием, хождением по минным полям, напоминая при этом заботливую кенгуру, несущую в своей сумке … Эго.
Голоса, старательно скрывавшие свою истинную суть до поры до времени, дождались Перевала и бросили семена, хиреющие на свету, но жадно идущие в рост при его отсутствии. Он, разминая лодыжки перед очередным подскоком, втягивал широко распахнутыми легкими дурман этих семян – аромат Забвения – и выдыхал после «удачного» приземления зловоние безверия, самости и безразличия.
Забвение – гулко стучат железные башмаки, высекая искры из брусчатки и делая шаг короче, Забвение – далекая Обитель напрочь стирается из памяти, размываясь в сознании, и лишь гротескная карикатура ее выбивается на щите поникшей ввиду отсутствия солнечного света лилией и раззевавшегося над ней от тоски драконом.
Бух, бух, железом по камню; клац, клац, деревянным мечом по слабым коленкам, Он – ряженый призрак своей души, жалкая бесталанная копия оригинала, расплывшееся отражение в треснувшем зеркале. И вот, когда кажется, что давным-давно, оттолкнувшись от одной стены, скрывающей нечто, о чем уже и не припомнить, уперся шеломом в другую, а символ мужественности, пусть и деревянный, свалился с пояса по причине сгнившего ремня, неожиданно распахивается забрало и – о, искреннее изумление – никакой стены нет.
Он все еще на Пути, и сил, если не наклоняться за подозрительно ненужным оружием, вполне достанет двигаться дальше. Наступает время Прозрения. Оно всегда мучительно, как подъем в гору с непосильным грузом на плечах, как момент выбора между Жизнью во имя Смерти и Смертью во имя Жизни, как надежда на свет в кромешной тьме бытия, но оно и прекрасно, потому что Он вспоминает о стене, вратах и негасимом Сиянии, и здесь главное не повернуть обратно – в объятия Эго, услужливо ожидающего путника с заранее приготовленной накидкой Забвения, – а осознать простую истину: возвращение в Обитель происходит через вхождение в те же Врата, но с другой стороны.
Она
Створки, не дожидаясь ее горделивого прохода, стремительно начали сближаться, и Она едва успела за пределы прикуса их «челюстей», после чего Врата с грохотом известили о закрытии Обители. Она резко обернулась с явным намерением высказаться на тему: «Да, конечно, было сытно и мило, но настоящий уют, по ее скромному мнению, выглядит иначе, и уж коли «предложенное внутри» не позволяет вносить необходимые изменения, тогда следует как можно скорее покинуть это «внутри» и поискать лучшие варианты снаружи».
Сказано – сделано, и, к сожалению, не сработало. Ее «соперником» выступил некто более значимый, могущественный и совершенно не сговорчивый для принятия ее условий. Желание разогнуть прутья и выпорхнуть, в общем-то, из приличного вида клетки не было свойством характера, эта «неугомонность» проживала где-то внутри, и Она, натура тонкая и чувствительная, не без оснований полагала, что это будоражащее сознание семя привнесено извне.
«А впрочем, какая разница откуда, – рассуждала Она. – Если я такова, значит, так надо». И более не возвращаясь к щекотливой теме, отправлялась на поиски чего-то (или кого-то), что должно было помочь Ей «разорвать» невидимые оковы. «Ищущий в Обители непременно обретал искомое», – Она быстро уяснила себе этот первый «жизненный» урок. Не удивительно, что довольно скоро нашелся тип, хоть и пугающего вида, но тем не менее с дельным советом, средством в виде плода одного из бесчисленных местных древ, а также необходимым «инструментом» – не ссориться же с Могущественным Хозяином самой, когда в наличии имеется другой. Он-то, бедолага, ни о чем не догадываясь, после вегетарианского завтрака явно «поумнев», не считая странного блеска в глазах при осматривании Ее тела, которое видел тысячу раз, и распахнул Врата, не поддающиеся доселе слабым женским рукам. Все произошло так, как и предсказывал извивающийся благодетель, и первое, что Она испытала, очутившись босыми ногами на шершавой брусчатке после мягких, шелковистых трав Обители, был Восторг. Вечное сияние озаряло убегающую вдаль дорогу, и Ей казалось, что дрожащая дымка у самого горизонта скрывает истинное Лоно, не такое, что осталось за спиной, но прекраснее прекрасного и ослепительнее ослепительного, ту самую Ее Обитель. Состояние очевидности и правильности совершенного поступка, несмотря на некоторые подсказки со стороны и использование «наживки», не покидало Ее на всем протяжении пути, до самого Перевала; но в тот самый миг, когда непрерывно сопровождавшее Ее Сияние вдруг исчезло, Восторг испарился вслед за ним, оказавшись полностью зависимым от Истока и абсолютно нежизнеспособным в отсутствии такового.
Восторженное предвкушение нового и, естественно, лучшего сменилось, едва коснувшись тьмы «удаленного бытия», откровенным Разочарованием. Из плохо различимого впереди будущего, слегка раздвинувшего висящие над трактом серые лоскуты нетающего тумана неопределенности, возникла высокая Черная Фигура незнакомца, уверенно протянувшего Ей руку. То было Эго, переставшее за ненадобностью скрываться за шипением рептилии из сна об оставленной Обители.
– Ты разочарована? Еще бы, – повелительным тоном начала Фигура. – И разочарование не покинет тебя, знающую лучше всех, каким должен быть мир, ибо мир в ответ будет сопротивляться своему изменению.
По-отечески обняв Ее, новый спутник уже не ослаблял хватки, внимательно следя за тем, чтобы на Пути не попадались места для отдыха, источники для утоления жажды и деревья, способные создать тень от палящих лучей новой Обители, имя которой Мираж. Бедняжка, гонимая видением вожделенного оазиса, парящего в горячем воздухе безжизненной пустыни, контролируемого Эгом сознания, совсем выбилась из сил и однажды просто рухнула навзничь, потеряв всяческую надежду на спасительный глоток воды. Она закрыла глаза, вдохнула раскаленное пламя пустоты и опалила паруса легких, что гнали Ее чужим ветром к призрачным берегам.
«Я хочу вернуться», – сказала Она себе, открыла глаза и встала на ноги. Здесь и Сейчас к ней пришло Смирение, то самое, что наполнило слезами при виде мучений Его, обманутого Ею, а теперь поднимающего в гору на натруженной спине жертвенный камень, на коем возляжет сам невинной жертвой, – слезами осознания собственного Пути, что ведет Ее туда же, наверх, в гору, оплакивать Его, себя и всех, а затем совершить омовение мертвых тел – Его, своего и всех, – дабы узреть, вопреки настойчивому гласу Черной Фигуры, вознесение в Обитель и Его, и себя, и всех.
Лицо Ее озарилось беззаботной улыбкой абсолютно счастливого ребенка: «Я возвращаюсь», – громко сказала Она и повернулась назад.
Вместе
То, что есмь Все, включая и саму Обитель, «предполагало-знало» через Замысел Познания очевидность пребывания в состоянии покоя выделенной Части по причине невозможности внутреннего отрыва Абсолюта низшей степени от Абсолюта высшей степени. Подразумеваемо состоявшимся был следующий «шаг» – выделение из выделенного посылом Высшей Воли еще одной части для возникновения разности потенциалов. Одна часть – Он – оставалась с кодом Абсолюта, недвижимая, статичная в своем Изначальном Принципе, и вторая – Она, – создающая движение, неупокоенная «бунтарка» под кодом Созданного Принципа.
«Разделенная Часть» на Он и Она Высшей Волей сохраняет общий код Памяти о Единстве и в проявленных планах испытывает взаимное притяжение, в микро-масштабе повторяя Акт сотворения Человека посредством деторождения…
***
«Врата Обители захлопнулись», – Он понял это по Ее вспыхнувшим каким-то безумным восторгом глазам и не стал оборачиваться – достаточно было Ее реакции. Образовавшаяся тишина придавила новизной ощущений и отсутствием чувства защищенности, спокойствия и радости. Он словно прирос к земле каменным истуканом с бесполезно болтающимися руками, пустой головой и вытаращенными от страха глазами. Бессмысленность положения в пространстве уже начала сковывать мышцы, как вдруг сквозь пелену хаотично прыгающих из угла в угол беспокойных мыслей Он услышал Ее голос: «Пойдем, нечего топтаться на месте».
«Ну да, – мелькнуло в голове, – один раз уже послушал». Он вспомнил Ее уговоры отведать плод с того самого древа, к которому и приближаться-то не велено. «Надо было мне просто заткнуть уши, и валялся бы сейчас на мягкой травушке под жаркими лучами Его Благодати», – подумал он.
– Идем, – снова прозвучал становящийся каким-то обворожительным и манящим голос спутницы. Интонации не носили повелительного характера, но отчего-то отказать Ей Он не смог и нерешительно сделал первый шаг.
– Наконец-то, – рассмеялась Она. – Вперед, мой герой.
Дорога, ведущая за горизонт, не представлялась трудной. Сияние Обители освещало Путь, отбрасывая две длинные тени, ползущие по камням впереди (одна из них вяло покачивалась, в то время как другая металась вверх-вниз, перескакивая вправо и влево и наводя ужас на крохотную живность, мирно греющуюся в каменных прожилках). Если вдруг чувствовался подъем, то он был некрутым, а изобилие мошкары, полностью отсутствовавшей в Обители, не мешало двум путникам, вооруженным имеющимися у них фиговыми листками.
В какой-то момент Он вдруг осознал: не будь рядом Ее, лежать Ему, свернувшись клубочком, у Врат Обители и тосковать об утраченном до скончания веков. Чем дальше от стен удалялась парочка, тем меньше Он припоминал, кому «обязан» изгнанием, и тем больше увязал в сетях Ее голоса, запаха и обводов загорелого тела. На подходе к Перевалу Он был «порабощен» полностью, а Она уверенно тащила за собой «этого увальня» вперед, к своей мечте.
С последними лучами простившейся с ними Обители Он и Она погрузились в новую реальность. Костры инквизиции озарили средневековую тьму в отсутствие утраченного Лона. Он, укутанный в рясу Забвения, и Она, объятая языками пламени разочарования, как апогей расчлененного мира, дуальность Замысла в высшей точке абсурда, начало страдальческого Пути поиска истины, наполнение золотого кубка кровью невинных жертв и объявление сей позорной чаши Граалем. Ее восприятие собственной всесильности тяжелым черным дымом кострищ улетучилось из Его сознания, Он же, облаченный в одежды Забвения, брел только ради Нее, ибо код Единства не позволял отодвинуться им друг от друга. Согбенные под тяжестью греха спины их и ослепленные надвинутыми капюшонами души отчаянно продолжали Путь нисхождения, пока не уперлись в тупик непроходимого безверия.
Тот, кто тащит Крест в гору, страдает ради Той, что проливает слезы на окровавленные следы Его, идя за тенью мученика, и когда Он, прозревший, отдает себя на Волю Всевышнего, Она в тот же миг становится смиренной. Из тупика есть только одна дорога – к Вознесению, она – продукт совместного бытия, со-творчество, слияние в Единое. Прозрение после Забвения выводит на Гору, но смирение, пришедшее на смену Разочарованию, Возносит. Мужская суть Христа, Его «Он», вознеслась посредством смиренной женской его части – апостольской.
То, что есмь Все, не исключая того, что вне Обители, «знало-полагало» через Замысел Познания очевидность обратного слияния Разделенной Части, находящейся на Пути, грузом знания которой явится следующее: «Нет правды и неправды – есть Выбор».
Нет правильного и неправильного – есть выбранное.
Нет Истины, кроме Выбора, ибо выбранное Здесь и Сейчас есть истинное состояние (вариант) Мира.
Мидас и нищенка
Когда память, пресытившись событиями до такой степени, что разнообразные послевкусия от каждого из них уже слились в общую зловонную «отрыжку», уступает место фантазии, возникает из неочевидности истинности и условности реальности образ Царя, обзаведшегося чудесным, как ему казалось, даром… впрочем, давайте по порядку, дело было так…
Мидас, властитель мигдонийцев, только что собственноручно вручил лучезарному Дионису на попечение Силена, коего главный Виночерпий Олимпа весьма пафосно величал своим учителем, хотя старик не отличался столь же изрядной любовью к возлияниям, как его «ученик», – за что выпросил у небожителя, искренне расчувствовавшегося при появлении неведомо куда запропастившегося кормильца живым и здоровым, некую способность и теперь гордо восседал на гнедом жеребце, раздумывая о применении обретенного дара, стараясь при этом не касаться руками сбруи.
Каштаны изумрудными семипалыми лапами цеплялись за царственный головной убор, осыпая его белоснежными лепестками свечек, но Мидас, полностью погруженный в поток лихорадочных желаний и торопливых умозаключений о грядущем несметном богатстве, практически «пребывающем» в его руках, готовых объять и соответствующую такому «успеху» власть, не замечал ровным счетом ничего вокруг. Творец совершенно спокойно мог заменить «каштановый снегопад» на рой смертоносных стрел, сыплющихся как из рога изобилия на «счастливчика», – он бы даже не поморщился. По этой самой причине выросшей как из-под земли перед мордой ошалевшего гнедого нищенке пришлось самой схватить царского коня под уздцы, дабы не быть раздавленной на месте.
Размечтавшийся Мидас, оберегавший доселе собственные руки от неясных последствий возможного прикосновения, чтобы не вылететь из седла, уперся оными в холку гнедого. Бедное животное в тот же миг обернулось слитком золота весьма внушительного размера.
Пораженный произведенным эффектом, царь-алхимик возопил: «О, Боги, это правда», – и, спрыгнув с блистающего на солнце «памятника», начал возбужденно бегать вокруг, проявляя прыть, совершенно не подобающую его положению в обществе. Мидас ощупывал золоченый конский волос, тер утратившие привычную черноту теперь желтые глаза гнедого и даже покусал голень – удостовериться, что драгоценный металл, произведенный им в одно касание, настоящий и высшего качества. Нищенка стояла в стороне, терпеливо дожидаясь, когда царственная особа наиграется со своим дорогостоящим творением и обратит внимание на нее.
Бурных восторгов Мидаса хватило на четверть часа, после чего немного успокоившийся господин ткнул пальцем в сухую ветку, лежащую под ногами, та сразу же пожелтела и, соответственно, взлетела, даже все еще находясь внизу, в цене. Затем, довольный собой, он обернулся к женщине:
– Своим необдуманным появлением ты могла покалечить или даже убить меня, но, хвала Зевсу, все обошлось. В честь моего чудесного спасения я дарую тебе эту золотую ветвь, иди и прославляй великого Мидаса.
– В пору не славить, а оплакивать беднягу, – еле слышно пролепетала нищенка, с состраданием поглядывая на царскую особу, продолжающую наглаживать свое первое детище.
Роман Воронов
Он отправляется в долгое путешествие на поиски единственной ее, она запирает себя в башне одиночества на век, лишь бы дождаться именно его, но, встретившись однажды, каждый из них обретет не того, о ком мечтал и кого видел во снах. Этот сборник о том, как ему найти в ней себя, а ей в его глазах отразиться самой.
Роман Воронов
Он и она
Он и Она
Он
Ворота за спиной бесшумно затворились. Он не видел, боялся обернуться, просто почувствовал, что это произошло. Там, за стеной, осталось что-то настоящее, привычное, заполненное светом и яркими красками, мягкими звуками, ласкающими саму душу, и присутствием кого-то, кто был не просто дорог, но частью которого, казалось, Он был сам. В общем, в целях экономии той энергии, что по мере удаления от Истока теперь следовало расходовать дозированно, дабы не сотрясать мыслительный эфир впустую, Он закончил собственные стенания неожиданно родившейся формулой: «Я оставил, пусть и не по собственной воле, место, которое покидать не принято».
Впереди ждал Путь – перспектива туманная, даже в условиях непрерывного сияния из-за плеча воспоминаний об утраченной Обители, и пугающая, несмотря на то, что вымощенный приветливо-желтым кирпичом тракт легко просматривался до самого горизонта.
«Ничто не предвещало перемен, пока еще, но уже витало тревогой в воздухе», – именно так описал Он свой первый поистине самостоятельный шаг. То, для чего Он был рожден или сотворен (здесь легко запутаться в определениях), пряталось повсюду в виде знаков, подсказок и намеков, но насущная стезя не предлагала ни одного конкретного утверждения, в отличие от табличек, без счета расставленных по Обители, где все плоды были разложены по полочкам, а на деревьях висели бирки с полным указанием имени носителя сей прекрасной кроны.
«Иди и думай», – примерно такой фразой можно было бы украсить арку, начинающую Путь, но тот, оставшийся за стеной, не позаботился об этом, посчитав подобный пассаж откровенной шпаргалкой. Оглядываясь на собственные следы, незримые, за редким исключением, а в основном – либо окрашенные кровью – уже и не важно, своей или чужой, – либо просоленные потом и слезами, Он с грустью вспоминал тот Перевал, за которым сияние Обители, вспыхнув напоследок тонким ореолом вокруг головы, растворилось, уступив место глубокой печали, отдававшейся с каждым шагом ноющей болью в сердце и назойливым шепотом странных голосов внутри сознания.
В столь сильном расстройстве Он обреченно брел по дороге, ничем не меняющей своего «лица» с самого первого Его шага. При этом знаки превратились в обычные выбоины, подсказки обернулись причудливыми рисунками, увы, всего лишь придорожной пыли, нанесенной ветром, а намеки… – да кто же поднимет голову вверх, к небесам, когда вот-вот, только отвернись, наступишь в собственное…
Здесь, в этом одновременно и виртуозном, и комическом танце, нагружающем вестибулярный аппарат и расслабляющем сознание простотой счета – шаг влево, прыжок, шаг вправо, еще прыжок – возникло Забвение.
Место былого Света – оставленная Обитель – уже ничем не напоминает о себе, Он занят выживанием, хождением по минным полям, напоминая при этом заботливую кенгуру, несущую в своей сумке … Эго.
Голоса, старательно скрывавшие свою истинную суть до поры до времени, дождались Перевала и бросили семена, хиреющие на свету, но жадно идущие в рост при его отсутствии. Он, разминая лодыжки перед очередным подскоком, втягивал широко распахнутыми легкими дурман этих семян – аромат Забвения – и выдыхал после «удачного» приземления зловоние безверия, самости и безразличия.
Забвение – гулко стучат железные башмаки, высекая искры из брусчатки и делая шаг короче, Забвение – далекая Обитель напрочь стирается из памяти, размываясь в сознании, и лишь гротескная карикатура ее выбивается на щите поникшей ввиду отсутствия солнечного света лилией и раззевавшегося над ней от тоски драконом.
Бух, бух, железом по камню; клац, клац, деревянным мечом по слабым коленкам, Он – ряженый призрак своей души, жалкая бесталанная копия оригинала, расплывшееся отражение в треснувшем зеркале. И вот, когда кажется, что давным-давно, оттолкнувшись от одной стены, скрывающей нечто, о чем уже и не припомнить, уперся шеломом в другую, а символ мужественности, пусть и деревянный, свалился с пояса по причине сгнившего ремня, неожиданно распахивается забрало и – о, искреннее изумление – никакой стены нет.
Он все еще на Пути, и сил, если не наклоняться за подозрительно ненужным оружием, вполне достанет двигаться дальше. Наступает время Прозрения. Оно всегда мучительно, как подъем в гору с непосильным грузом на плечах, как момент выбора между Жизнью во имя Смерти и Смертью во имя Жизни, как надежда на свет в кромешной тьме бытия, но оно и прекрасно, потому что Он вспоминает о стене, вратах и негасимом Сиянии, и здесь главное не повернуть обратно – в объятия Эго, услужливо ожидающего путника с заранее приготовленной накидкой Забвения, – а осознать простую истину: возвращение в Обитель происходит через вхождение в те же Врата, но с другой стороны.
Она
Створки, не дожидаясь ее горделивого прохода, стремительно начали сближаться, и Она едва успела за пределы прикуса их «челюстей», после чего Врата с грохотом известили о закрытии Обители. Она резко обернулась с явным намерением высказаться на тему: «Да, конечно, было сытно и мило, но настоящий уют, по ее скромному мнению, выглядит иначе, и уж коли «предложенное внутри» не позволяет вносить необходимые изменения, тогда следует как можно скорее покинуть это «внутри» и поискать лучшие варианты снаружи».
Сказано – сделано, и, к сожалению, не сработало. Ее «соперником» выступил некто более значимый, могущественный и совершенно не сговорчивый для принятия ее условий. Желание разогнуть прутья и выпорхнуть, в общем-то, из приличного вида клетки не было свойством характера, эта «неугомонность» проживала где-то внутри, и Она, натура тонкая и чувствительная, не без оснований полагала, что это будоражащее сознание семя привнесено извне.
«А впрочем, какая разница откуда, – рассуждала Она. – Если я такова, значит, так надо». И более не возвращаясь к щекотливой теме, отправлялась на поиски чего-то (или кого-то), что должно было помочь Ей «разорвать» невидимые оковы. «Ищущий в Обители непременно обретал искомое», – Она быстро уяснила себе этот первый «жизненный» урок. Не удивительно, что довольно скоро нашелся тип, хоть и пугающего вида, но тем не менее с дельным советом, средством в виде плода одного из бесчисленных местных древ, а также необходимым «инструментом» – не ссориться же с Могущественным Хозяином самой, когда в наличии имеется другой. Он-то, бедолага, ни о чем не догадываясь, после вегетарианского завтрака явно «поумнев», не считая странного блеска в глазах при осматривании Ее тела, которое видел тысячу раз, и распахнул Врата, не поддающиеся доселе слабым женским рукам. Все произошло так, как и предсказывал извивающийся благодетель, и первое, что Она испытала, очутившись босыми ногами на шершавой брусчатке после мягких, шелковистых трав Обители, был Восторг. Вечное сияние озаряло убегающую вдаль дорогу, и Ей казалось, что дрожащая дымка у самого горизонта скрывает истинное Лоно, не такое, что осталось за спиной, но прекраснее прекрасного и ослепительнее ослепительного, ту самую Ее Обитель. Состояние очевидности и правильности совершенного поступка, несмотря на некоторые подсказки со стороны и использование «наживки», не покидало Ее на всем протяжении пути, до самого Перевала; но в тот самый миг, когда непрерывно сопровождавшее Ее Сияние вдруг исчезло, Восторг испарился вслед за ним, оказавшись полностью зависимым от Истока и абсолютно нежизнеспособным в отсутствии такового.
Восторженное предвкушение нового и, естественно, лучшего сменилось, едва коснувшись тьмы «удаленного бытия», откровенным Разочарованием. Из плохо различимого впереди будущего, слегка раздвинувшего висящие над трактом серые лоскуты нетающего тумана неопределенности, возникла высокая Черная Фигура незнакомца, уверенно протянувшего Ей руку. То было Эго, переставшее за ненадобностью скрываться за шипением рептилии из сна об оставленной Обители.
– Ты разочарована? Еще бы, – повелительным тоном начала Фигура. – И разочарование не покинет тебя, знающую лучше всех, каким должен быть мир, ибо мир в ответ будет сопротивляться своему изменению.
По-отечески обняв Ее, новый спутник уже не ослаблял хватки, внимательно следя за тем, чтобы на Пути не попадались места для отдыха, источники для утоления жажды и деревья, способные создать тень от палящих лучей новой Обители, имя которой Мираж. Бедняжка, гонимая видением вожделенного оазиса, парящего в горячем воздухе безжизненной пустыни, контролируемого Эгом сознания, совсем выбилась из сил и однажды просто рухнула навзничь, потеряв всяческую надежду на спасительный глоток воды. Она закрыла глаза, вдохнула раскаленное пламя пустоты и опалила паруса легких, что гнали Ее чужим ветром к призрачным берегам.
«Я хочу вернуться», – сказала Она себе, открыла глаза и встала на ноги. Здесь и Сейчас к ней пришло Смирение, то самое, что наполнило слезами при виде мучений Его, обманутого Ею, а теперь поднимающего в гору на натруженной спине жертвенный камень, на коем возляжет сам невинной жертвой, – слезами осознания собственного Пути, что ведет Ее туда же, наверх, в гору, оплакивать Его, себя и всех, а затем совершить омовение мертвых тел – Его, своего и всех, – дабы узреть, вопреки настойчивому гласу Черной Фигуры, вознесение в Обитель и Его, и себя, и всех.
Лицо Ее озарилось беззаботной улыбкой абсолютно счастливого ребенка: «Я возвращаюсь», – громко сказала Она и повернулась назад.
Вместе
То, что есмь Все, включая и саму Обитель, «предполагало-знало» через Замысел Познания очевидность пребывания в состоянии покоя выделенной Части по причине невозможности внутреннего отрыва Абсолюта низшей степени от Абсолюта высшей степени. Подразумеваемо состоявшимся был следующий «шаг» – выделение из выделенного посылом Высшей Воли еще одной части для возникновения разности потенциалов. Одна часть – Он – оставалась с кодом Абсолюта, недвижимая, статичная в своем Изначальном Принципе, и вторая – Она, – создающая движение, неупокоенная «бунтарка» под кодом Созданного Принципа.
«Разделенная Часть» на Он и Она Высшей Волей сохраняет общий код Памяти о Единстве и в проявленных планах испытывает взаимное притяжение, в микро-масштабе повторяя Акт сотворения Человека посредством деторождения…
***
«Врата Обители захлопнулись», – Он понял это по Ее вспыхнувшим каким-то безумным восторгом глазам и не стал оборачиваться – достаточно было Ее реакции. Образовавшаяся тишина придавила новизной ощущений и отсутствием чувства защищенности, спокойствия и радости. Он словно прирос к земле каменным истуканом с бесполезно болтающимися руками, пустой головой и вытаращенными от страха глазами. Бессмысленность положения в пространстве уже начала сковывать мышцы, как вдруг сквозь пелену хаотично прыгающих из угла в угол беспокойных мыслей Он услышал Ее голос: «Пойдем, нечего топтаться на месте».
«Ну да, – мелькнуло в голове, – один раз уже послушал». Он вспомнил Ее уговоры отведать плод с того самого древа, к которому и приближаться-то не велено. «Надо было мне просто заткнуть уши, и валялся бы сейчас на мягкой травушке под жаркими лучами Его Благодати», – подумал он.
– Идем, – снова прозвучал становящийся каким-то обворожительным и манящим голос спутницы. Интонации не носили повелительного характера, но отчего-то отказать Ей Он не смог и нерешительно сделал первый шаг.
– Наконец-то, – рассмеялась Она. – Вперед, мой герой.
Дорога, ведущая за горизонт, не представлялась трудной. Сияние Обители освещало Путь, отбрасывая две длинные тени, ползущие по камням впереди (одна из них вяло покачивалась, в то время как другая металась вверх-вниз, перескакивая вправо и влево и наводя ужас на крохотную живность, мирно греющуюся в каменных прожилках). Если вдруг чувствовался подъем, то он был некрутым, а изобилие мошкары, полностью отсутствовавшей в Обители, не мешало двум путникам, вооруженным имеющимися у них фиговыми листками.
В какой-то момент Он вдруг осознал: не будь рядом Ее, лежать Ему, свернувшись клубочком, у Врат Обители и тосковать об утраченном до скончания веков. Чем дальше от стен удалялась парочка, тем меньше Он припоминал, кому «обязан» изгнанием, и тем больше увязал в сетях Ее голоса, запаха и обводов загорелого тела. На подходе к Перевалу Он был «порабощен» полностью, а Она уверенно тащила за собой «этого увальня» вперед, к своей мечте.
С последними лучами простившейся с ними Обители Он и Она погрузились в новую реальность. Костры инквизиции озарили средневековую тьму в отсутствие утраченного Лона. Он, укутанный в рясу Забвения, и Она, объятая языками пламени разочарования, как апогей расчлененного мира, дуальность Замысла в высшей точке абсурда, начало страдальческого Пути поиска истины, наполнение золотого кубка кровью невинных жертв и объявление сей позорной чаши Граалем. Ее восприятие собственной всесильности тяжелым черным дымом кострищ улетучилось из Его сознания, Он же, облаченный в одежды Забвения, брел только ради Нее, ибо код Единства не позволял отодвинуться им друг от друга. Согбенные под тяжестью греха спины их и ослепленные надвинутыми капюшонами души отчаянно продолжали Путь нисхождения, пока не уперлись в тупик непроходимого безверия.
Тот, кто тащит Крест в гору, страдает ради Той, что проливает слезы на окровавленные следы Его, идя за тенью мученика, и когда Он, прозревший, отдает себя на Волю Всевышнего, Она в тот же миг становится смиренной. Из тупика есть только одна дорога – к Вознесению, она – продукт совместного бытия, со-творчество, слияние в Единое. Прозрение после Забвения выводит на Гору, но смирение, пришедшее на смену Разочарованию, Возносит. Мужская суть Христа, Его «Он», вознеслась посредством смиренной женской его части – апостольской.
То, что есмь Все, не исключая того, что вне Обители, «знало-полагало» через Замысел Познания очевидность обратного слияния Разделенной Части, находящейся на Пути, грузом знания которой явится следующее: «Нет правды и неправды – есть Выбор».
Нет правильного и неправильного – есть выбранное.
Нет Истины, кроме Выбора, ибо выбранное Здесь и Сейчас есть истинное состояние (вариант) Мира.
Мидас и нищенка
Когда память, пресытившись событиями до такой степени, что разнообразные послевкусия от каждого из них уже слились в общую зловонную «отрыжку», уступает место фантазии, возникает из неочевидности истинности и условности реальности образ Царя, обзаведшегося чудесным, как ему казалось, даром… впрочем, давайте по порядку, дело было так…
Мидас, властитель мигдонийцев, только что собственноручно вручил лучезарному Дионису на попечение Силена, коего главный Виночерпий Олимпа весьма пафосно величал своим учителем, хотя старик не отличался столь же изрядной любовью к возлияниям, как его «ученик», – за что выпросил у небожителя, искренне расчувствовавшегося при появлении неведомо куда запропастившегося кормильца живым и здоровым, некую способность и теперь гордо восседал на гнедом жеребце, раздумывая о применении обретенного дара, стараясь при этом не касаться руками сбруи.
Каштаны изумрудными семипалыми лапами цеплялись за царственный головной убор, осыпая его белоснежными лепестками свечек, но Мидас, полностью погруженный в поток лихорадочных желаний и торопливых умозаключений о грядущем несметном богатстве, практически «пребывающем» в его руках, готовых объять и соответствующую такому «успеху» власть, не замечал ровным счетом ничего вокруг. Творец совершенно спокойно мог заменить «каштановый снегопад» на рой смертоносных стрел, сыплющихся как из рога изобилия на «счастливчика», – он бы даже не поморщился. По этой самой причине выросшей как из-под земли перед мордой ошалевшего гнедого нищенке пришлось самой схватить царского коня под уздцы, дабы не быть раздавленной на месте.
Размечтавшийся Мидас, оберегавший доселе собственные руки от неясных последствий возможного прикосновения, чтобы не вылететь из седла, уперся оными в холку гнедого. Бедное животное в тот же миг обернулось слитком золота весьма внушительного размера.
Пораженный произведенным эффектом, царь-алхимик возопил: «О, Боги, это правда», – и, спрыгнув с блистающего на солнце «памятника», начал возбужденно бегать вокруг, проявляя прыть, совершенно не подобающую его положению в обществе. Мидас ощупывал золоченый конский волос, тер утратившие привычную черноту теперь желтые глаза гнедого и даже покусал голень – удостовериться, что драгоценный металл, произведенный им в одно касание, настоящий и высшего качества. Нищенка стояла в стороне, терпеливо дожидаясь, когда царственная особа наиграется со своим дорогостоящим творением и обратит внимание на нее.
Бурных восторгов Мидаса хватило на четверть часа, после чего немного успокоившийся господин ткнул пальцем в сухую ветку, лежащую под ногами, та сразу же пожелтела и, соответственно, взлетела, даже все еще находясь внизу, в цене. Затем, довольный собой, он обернулся к женщине:
– Своим необдуманным появлением ты могла покалечить или даже убить меня, но, хвала Зевсу, все обошлось. В честь моего чудесного спасения я дарую тебе эту золотую ветвь, иди и прославляй великого Мидаса.
– В пору не славить, а оплакивать беднягу, – еле слышно пролепетала нищенка, с состраданием поглядывая на царскую особу, продолжающую наглаживать свое первое детище.