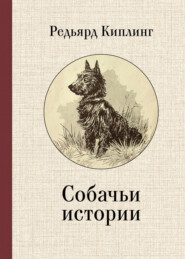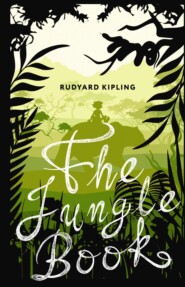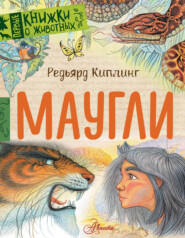По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рикша-призрак (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, не смерть, но самое умирание, – сказал Телец и умер.
Земледелец, который был его хозяином, очень огорчился, потому что его поле оставалось невозделанным.
В это-то время Лев сложил песню о Тельце, который был раньше богом, но забыл об этом, и он так пел эту песню, что половина всех юношей, слушавших его, приходили к убеждению, что они тоже, может быть, были богами, но не знали об этом. Половина этой половины развила чрезмерно свой ум и рано умерла. Половина остальных, стремясь стать богами, потерпела поражение, но зато вторая половина совершила вчетверо больше того, что сделала бы при других условиях.
Позже, много лет спустя после этого, в одно из своих странствий с целью забавлять людей, Лев увидел однажды на берегу ручья Близнецов, которые сидели там и ждали, когда Рыбы приплывут за ними и унесут их с собой. Они не выказывали ни малейшего страха и рассказали Льву, что у женщины в хижине был теперь собственный ребенок, и, когда этот ребенок вырос настолько, чтобы сделаться жестоким, он нашел себе хорошо воспитанного котенка, позволившего ему дергать себя за хвост. Тут за ними приплыли Рыбы, но люди видели только, как двое детей упали в ручей, и хотя это очень опечалило их приемную мать – она только крепче прижала к груди своего собственного ребенка и была благодарна богам, что это случилось с подкидышами.
После этого Лев сочинил песню о Близнецах, которые забыли, что они были богами, и играли в пыли, чтобы позабавить свою приемную мать. Песня эта разошлась по всему свету среди женщин. Она заставляла их плакать и смеяться и крепче прижимать к груди своих детей; а некоторые женщины, еще помнившие Деву, говорили:
– Это, безусловно, голос Девы. Только она одна так хорошо знала нас.
Сложив эти три песни, Лев пел их постоянно одну за другой до тех пор, пока они не стали для него пустыми словами и люди, слушая его, скучали, а сам Лев испытывал прежнее искушение раз навсегда бросить пение. Но он вспоминал тогда слова умирающей Девы и продолжал петь.
Один из его слушателей прервал его однажды словами:
– Целых сорок лет ты говоришь нам о том, чтобы мы не боялись. Не споешь ли ты нам что-нибудь новенькое?
– Нет, – отвечал Лев, – это единственная песня, которую мне позволено петь. Вы не должны бояться Созвездий даже тогда, когда они будут убивать вас.
Человек повернулся со скучающим видом и хотел идти прочь, но в это время в воздухе со свистом промелькнула стрела, летевшая по направлению к земле и устремлявшаяся в сердце человека. Тот выпрямился во весь рост и стоял так до тех пор, пока стрела вонзилась, куда было предназначено.
– Я умираю, – сказал он спокойно. – Как хорошо, Лев, что ты пел все эти сорок лет.
– Тебе страшно? – спросил Лев, склонившись над ним.
– Я ведь только человек, а не бог, – сказал умирающий. – Я убежал бы прочь, если бы не твои песни. Мой труд окончен, и я умираю, не выказывая страха.
– Это хорошая награда мне, – сказал Лев сам себе. – Теперь, когда я сам вижу, что сделали мои песни, я буду петь еще лучше.
Он пошел по дороге, собрал небольшую кучку своих слушателей и запел песню о Деве. В середине песни он почувствовал холодное прикосновение клешни Рака к своему горлу. Он поднял руку, задохнулся и на минуту перестал петь.
– Пой, Лев! – закричали ему из толпы. – Ты никогда еще так хорошо не пел эту старую песню.
Лев оправился и продолжал петь, пока не кончил песни, чувствуя, как сердце его холодеет от страха. Когда он окончил петь, у него было такое ощущение, как будто кто-то схватил его за горло. Он был уже стар, он потерял Деву, он знал, что уже наполовину утратил искусство пения, он с трудом подходил к ожидавшей его небольшой кучке слушателей и почти не различал их, когда они окружали его; но тем не менее он сердито закричал Раку:
– Почему ты пришел за мной именно теперь?
– Ты родился под моим созвездием – как же мне не прийти за тобой? – устало спросил Рак. – Всякое человеческое существо, убиваемое Раком, задает тот же самый вопрос.
– Но я только что начал понимать, что сделали мои песни, – сказал Лев.
– Вот, может быть, потому я и пришел, – сказал Рак и еще сильнее сжал горло Льву.
– Ведь ты же сказал, что не придешь до тех пор, пока я не покорю весь мир, – прошептал Лев, падая.
– Я всегда держу свое слово. Ты сделал это трижды своими тремя песнями. Чего же ты хочешь еще?
– Позволь мне пожить еще, пока я не увижу, что люди сознают это, – умолял Лев. – Позволь мне увериться, что мои песни…
– Ободряют людей? – сказал Рак. – Хотя это и не мешает тому, что есть люди, которые все же боятся. Дева была храбрее тебя. Полно же…
Лев лежал подле самого безостановочно двигавшегося ненасытного рта Рака.
– Я забыл об этом, – просто сказал он. – Да, Дева была храбрее. Но я тоже бог, и я не боюсь тебя.
– Мне это безразлично, – сказал Рак.
Тут у Льва отнялся язык, и он лежал тихо, ожидая смерти.
Лев был последним из детей Зодиака. После его смерти появилось поколение малодушных людей, вечно хнычущих, колеблющихся и поющих от того, что созвездия убивают их и их близких, и желающих жить вечно без всяких огорчений. Этим они не могли продлить свою жизнь, но страшно увеличивали свои мучения, и не было детей Зодиака, чтобы подбодрить их; а большая часть песен Льва была забыта.
Но они сами вырезали на могильной плите Девы последний стих из песни о ней, и это-то и послужило основанием для нашего рассказа.
Один из детей человека, придя к ней спустя тысячелетия, очистил плиту от покрывавшего ее мха и прочел надпись, но воспользовался ею совершенно иначе, чем думал Лев. Люди поверили ему, что он сам сочинил эти стихи, но они принадлежат Льву, сыну Зодиака, и говорится в них о том, что, как бы ни сложились обстоятельства, мы, люди, не должны ничего бояться.
Ворота Ста Скорбей
Это не мое сочинение. Приятель мой, Габраль Мисквитта, смешанной касты, изложил весь этот рассказ целиком, между заходом луны и утром, за шесть недель до своей смерти; я лишь записал рассказ по его ответам на мои вопросы. Итак, вот что он поведал:
– Они находятся между канавой медника и кварталом торговцев чубуками, в каких-нибудь ста ярдах, по птичьему полету, от мечети Вазир Хана. Я, конечно, согласен поделиться с кем угодно своими сведениями, но все же никому не найти ворот, хотя бы вы и воображали, что знаете город вдоль и поперек. Можно пройти сто раз около той канавы, где они находятся, и не заподозрить о том. Мы звали эту рытвину канавой «Черного Дыма», но туземное ее название, разумеется, совершенно иное. Она так узка, что между ее стенами не пройти нагруженному ослу; а в одном месте, уже подходя к самым воротам, фасад одного дома так выступает вперед, что людям приходится протискиваться боком.
Собственно говоря, это не ворота. Это попросту дом. Первым его хозяином был старый Фун-Чин, лет пять назад. Он раньше был башмачником в Калькутте и, как говорят, убил с пьяных глаз жену. Вот почему он бросил базарный дом и перешел к Черному Дыму.[6 - Подразумевается опиум.] Некоторое время спустя он перекочевал на север и открыл Ворота – заведение, в котором можно было покурить в мире и покое. Имейте в виду, что это была вполне почтенная курильня, не чета тем душным «чанду-хана», которые встречаются на каждом шагу в городе. Нет, старик основательно знал свое дело и был вдобавок очень опрятен для китайца. С виду это был одноглазый человечек не более пяти футов ростом, без среднего пальца на обеих руках. Это не мешало ему скатывать черные пилюли проворнее кого бы то ни было. Надо добавить, что курево не оказывало на него ни малейшего действия, и то, что он выкуривал днем и ночью, ночью и днем, служило ему только как бы противоядием. Сам я знаком с куревом добрых пять лет и могу потягаться с любым курильщиком, но в сравнении с Фун-Чином я не более как мальчишка. Тем не менее старик очень любил деньги, очень; и вот этого-то я никак не могу понять. Я слышал, что он скопил хороший куш перед смертью, но все его деньги достались его племяннику; старик же отправился восвояси в Китай, чтобы быть погребенным на родине.
Большая комната наверху, где собирались его посетители, всегда была безукоризненно чиста. В одном из углов стоял божок Фун-Чина, и перед его носом всегда курились свечки, но запах их заглушался дымом трубок. Напротив божка стоял гроб Фун-Чина. Он истратил на него немалую долю своих сбережений, и всякий раз, как Ворота посещал новичок, его неизбежно знакомили с гробом. Он был покрыт черным лаком, с красными и золотыми письменами, и уверяли, будто Фун-Чин привез его из самого Китая. Не знаю, правда ли это, но знаю одно, что, если мне удавалось прийти первым, я расстилал свою циновку у самого его подножия. Тут, видите ли, был самый тихий уголок и в окно время от времени задувал ветерок с переулка. Кроме циновок в комнате не имелось мебели, если не считать гроба да старого божка, позеленевшего и посиневшего от времени и чистки.
Фун-Чин так и не объяснил нам, почему назвал свое заведение «Воротами Ста Скорбей». (Это единственный из известных мне китайцев, который употреблял неблагозвучные клички. Большинство из них любят цветистые обороты. Посмотрите в Калькутте.) Но мы сами дознались до смысла этого названия. Ничто так не порабощает человека, если сам он белый, как черное курево. Желтый человек иначе создан. На него оно почти не действует. Но черные и белые очень ему подвержены. Конечно, бывают и такие, на которых курево действует сначала не более чем табак. Чуточку только подремлют, как бы естественным сном, и на следующее утро почти способны работать. То же было и со мной вначале, но я пять лет тянул лямку не отрываясь, и теперь уж я не тот, что прежде. Была у меня тетка, она жила на пути в Агру, и мне кое-что досталось после ее смерти. Около шестидесяти рупий в месяц. Шестьдесят рупий – не Бог весть что. Помнится мне время, сотни и сотни лет назад, когда я получал их триста в месяц, не считая доходов, когда работал по поставке леса в Калькутте.
Недолго я состоял при этом деле. Черное курево не оставляет большого простора для посторонних занятий; и хоть я сравнительно мало от него страдаю, все же не мог бы теперь провести день за работой, под страхом смертной казни. В конце концов, мне только и нужно, что шестьдесят рупий. Пока был жив старик Фун-Чин, он обычно получал за меня деньги, выдавал мне около половины на жизнь (я мало ел), а остальное оставлял себе. Я волен был посещать Ворота во все часы дня и ночи, спать и курить там сколько душе угодно, и больше мне ничего не было нужно. Я знаю, что старик извлекал из этого выгоду, но это, впрочем, неважно. Ничто теперь не кажется мне важным; вдобавок деньги исправно получались каждый месяц.
Когда заведение впервые открылось, нас сходилось в Воротах всего десять человек. Я да два молодца из какого-то правительственного учреждения в Анаркулли (но эти лишились места и не могли больше платить; ни один человек, которому приходится работать днем, не в состоянии предаваться курению долгое время кряду), еще один китаец, приходившийся Фун-Чину племянником, рыночная торговка, сколотившая каким-то образом целую уйму денег; англичанин-бродяга, какой-то там Мак, я позабыл, как дальше; курил он без конца, но, по-видимому, ничего не платил (говорят, что он спас жизнь Фун-Чину в бытность свою адвокатом на суде в Калькутте); еще один субъект вроде меня из Мадраса, женщина смешанной касты и два человека, говоривших, что пришли с севера. Полагаю, что это были персы или афганцы. Теперь нас осталось всего пять человек, но мы зато посещаем заведение аккуратно. Что случилось с чиновниками, не могу сказать; но торговка умерла полгода спустя после открытия Ворот, и сдается мне, что Фун-Чин присвоил себе ее браслеты и кольца для носа. Впрочем, я не уверен в этом. Что касается англичанина, он не только курил, но еще и пил вдобавок, и потому скоро отбился от дома. Один из персов убит давным-давно, в свалке у большого колодца вблизи мечети, и полиция закрыла колодец, – очень уж скверный шел из него запах. На дне оказался его труп. Итак, как видите, остались всего-навсего я, китаец, женщина смешанной касты, которую мы звали Мемсахиб (она жила с Фун-Чином), тот другой – евразиат, второй – перс. Мемсахиб выглядит теперь очень старой. Кажется, она была совсем молодой женщиной при открытии Ворот; но если на то пошло, мы все тут старики. Нам сотни и сотни лет. Очень трудно вести счет времени в Воротах, притом время для меня не важно. Свои шестьдесят рупий я получаю исправно каждый месяц. Давным-давно, когда я зарабатывал триста пятьдесят рупий в месяц, не считая побочных доходов, на лесном подряде в Калькутте, у меня было нечто вроде жены. Но теперь ее нет в живых. Уверяют, будто я убил ее тем, что пристрастился к черному куреву. Возможно, что и так, но это случилось так давно, что теперь уже неважно. В первое время, что я бывал в Воротах, мне иной раз становилось жаль ее; но все это прошло и забыто давным-давно; свои шестьдесят рупий я получаю аккуратно каждый месяц и чувствую себя вполне счастливым. Не одурманенным, понимаете ли, но всегда спокойным, умиротворенным и довольным.
Каким образом я пристрастился к нему? Началось это в Калькутте. Я стал пробовать еще у себя дома, так сказать, любопытства ради. Лишнего я себе не позволял, но все же думается, что тогда-то и умерла моя жена. Как бы то ни было, я очутился здесь и довелось мне познакомиться с Фун-Чином. В точности не припомню, как это произошло; но он сказал мне о Воротах, и я принялся туда заходить, и почему-то так и не выбрался из них никогда. Имейте в виду, однако, что Ворота были почтенным учреждением во времена Фун-Чина; вы получали там все удобства: ничего общего с теми «чанду-хана», в которые ходят негры. Нет; было чисто и тихо, и никакой давки. Разумеется, бывали и другие, кроме нас десяти да хозяина; но каждый из нас имел отдельную циновку с ватным шерстяным изголовьем, покрытым черными и красными драконами и всякими штуками, точь-в-точь как на гробе в углу.
В конце третьей трубки драконы принимались шевелиться и драться между собой. Много ночей напролет я провел, наблюдая за ними. Этим способом я научился регулировать свое куренье: теперь требуется двенадцать трубок, чтобы привести их в движение. Вдобавок они все изорваны и засалены, равно как и циновки, а старик Фун-Чин помер. Он помер года два тому назад и оставил мне трубку, из которой я всегда и курю теперь, – она серебряная, с диковинными зверьками, которые лазают вверх и вниз по приемнику внизу чашечки. До этого у меня был длинный бамбуковый чубук с очень маленькой медной чашечкой и зеленым яшмовым мундштуком. Он был немного потолще трости для прогулки, и дым из него шел ароматный, бесконечно ароматный. Бамбук как бы всасывал дым. А серебро не всасывает, и мне приходится время от времени чистить эту трубку, что очень хлопотно, но все же я курю ее в память старика. Пусть он извлек из меня выгоду, но зато всегда давал мне чистые циновки и подушки и лучший товар, который только имеется в продаже.
Когда он умер, племянник его Цин-Лин взялся вести учреждение, но переименовал его в «Храм Трижды Одержимых»; но мы, старые завсегдатаи, по-прежнему вспоминаем о «Ста Скорбях». Племянник ведет дело как скряга, и думается, что в этом его поддерживает Мемсахиб. Она живет с ним, как раньше жила со стариком. Они пускают в дом негров и всякий сброд, да и само черное курево уже не того качества, как бывало. Сколько раз я находил в трубке жженые отруби. Старик умер бы, если бы что-либо подобное случилось в его время. Вдобавок комната никогда не убирается, циновки все истрепаны и оборваны по краям. Гроба уже нет – он возвратился в Китай, со стариком и двумя унциями курева внутри, на случай, если бы оно понадобилось покойнику в дороге.
Перед божком сжигается теперь меньше свечек, чем он к тому привык: это плохая примета, верная, как смерть. Кроме того, он весь пожелтел, и никто его не чистит. Я знаю, что это дело рук Мемсахиб; потому что, когда Цин-Лин пытался сжигать перед ним золоченую бумагу, она ворчала, что это лишний расход. Поэтому мы теперь раздобыли свечки, смешанные с клеем; они горят на полчаса дольше и пахнут очень скверно; не говоря уже о запахе в самой комнате. Никакое дело не пойдет, если заводить такие шашни. Божку ведь это не по нутру. Я отлично это вижу. Иной раз, поздно ночью, он примется отливать самыми диковинными цветами – синим, и зеленым, и красным, – точь-в-точь, как бывало во времена Фун-Чина; и вращает глазами и топает ногами, как настоящий бес.
Сам не знаю, почему бы мне не бросить это место и не отправиться курить в собственной комнатке на базаре! Но легко может случиться, что Цин-Лин убьет меня, если я его брошу, – ведь мои-то шестьдесят рупий получает теперь он; да вдобавок чересчур это хлопотно, и уж очень я привязался к Воротам. Неказистое это место, не то, что было при старике; но расстаться с ним не могу. Я перевидал здесь столько людей, входящих и выходящих вон. И столько видел их умиравшими здесь на циновках, что побоялся бы теперь умереть на открытом воздухе. Много видал такого, что другие могли назвать странным; но ничто не кажется странным тому, кто во власти черного курева, за исключением самого черного курева. А если бы даже и было что странное, то это неважно. Фун-Чин был очень разборчив и никого бы не впустил такого, кто способен был заварить кашу своей смертью и наделать людям хлопот. Племянник его далеко не так осторожен. Всем и каждому выбалтывает о своем «первоклассном» заведении. Никогда не потрудится ввести человека спокойненько и устроить его уютненько, как это делал Фун-Чин. Потому-то Ворота и сделались более известными, чем бывало. Среди негров, разумеется. Племянник не смеет впустить белого человека, даже метиса. Разумеется, ему приходится мириться с нами тремя – мной, и Мемсахиб, и тем другим. Мы неискоренимы. Но чтобы сделать нам кредит на одну трубку – ни за что на свете!
В один прекрасный день, надеюсь, что я умру в Воротах. Перс и мадрасский житель сильно сдали. Им теперь требуется мальчик, чтобы зажигать трубки. Я свою всегда раскуриваю сам. Должно быть, еще увижу, как их вынесут ногами вперед. Но едва ли мне пережить Мемсахиб или Цин-Лина. Женщины дольше выдерживают черное курево, а в жилах Цин-Лина недаром течет кровь старика, хотя он и курит дешевый товар. Торговка знала за два дня вперед, что пришел ее конец, и померла она на чистой циновке с хорошей подушкой, и старик повесил ее трубку как раз над самым божком. Сдается мне, что он всегда был расположен к ней. Но браслеты-то ее все-таки присвоил.
Хотелось бы мне умереть так, как умерла торговка – на чистой, прохладной циновке, с трубкой хорошего курева в зубах. Когда почувствую, что пришла пора, я попрошу Цин-Лина дать мне то и другое, а он за это может получать мои шестьдесят рупий один месяц за другим, сколько его душе угодно. Тогда я улягусь спокойно и уютно и буду смотреть, как черные и красные драконы сойдутся в последней великой битве; потом…
Ну, да это неважно. Ничто не представляется мне особенно важным, хотелось бы только, чтобы Цин-Лин не подмешивал отрубей в черное курево.
notes