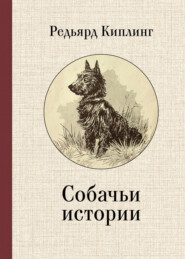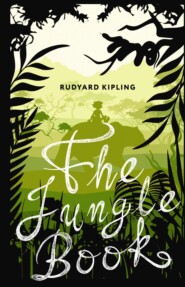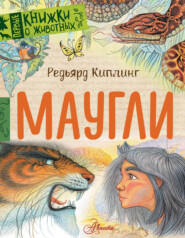По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Арест поручика Голайтли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Редьярд Джозеф Киплинг
«Если поручик Голайтли мог чем-нибудь гордиться перед всеми, так это тем, что в нем „сразу был виден офицер и джентльмен“.
Он говорил, что одевается так тщательно ради чести полка, но те, кто знал его ближе, утверждали, что он делает это из личного тщеславия. Вообще дурного в Голайтли не было ничего – ни унции. Встречая лошадь, он сразу узнавал, что это такое, и умел делать ещё кое-что, кроме наливания вин в стаканы. Поручик хорошо играл на бильярде и мастерски – в вист. Все любили его, и никому не приходило в голову, что его можно в один прекрасный день увидеть как дезертира, в ручных кандалах на одной станционной платформе. Но именно такая прискорбная вещь случилась…»
Редьярд Киплинг
Арест поручика Голайтли
* * *
Если поручик Голайтли мог чем-нибудь гордиться перед всеми, так это тем, что в нем «сразу был виден офицер и джентльмен».
Он говорил, что одевается так тщательно ради чести полка, но те, кто знал его ближе, утверждали, что он делает это из личного тщеславия. Вообще дурного в Голайтли не было ничего – ни унции. Встречая лошадь, он сразу узнавал, что это такое, и умел делать ещё кое-что, кроме наливания вин в стаканы. Поручик хорошо играл на бильярде и мастерски – в вист. Все любили его, и никому не приходило в голову, что его можно в один прекрасный день увидеть как дезертира, в ручных кандалах на одной станционной платформе. Но именно такая прискорбная вещь случилась.
Он возвращался верхом из Дальхоузи в конце своего отпуска, который продлил, насколько было возможно, и теперь очень спешил.
В Дальхоузи было уже тепло, и, зная, чего можно ждать внизу, он оделся в новый костюм оливково-зеленого цвета, плотно облегавший его; ярко-синий галстук, белый воротничок и ослепительно белый шлем дополняли костюм. Поручик считал для себя почётным иметь щеголеватый вид даже во время путешествия верхом или на почтовых. Вид у него был молодецкий, и он так углубился в созерцание своей наружности, что даже забыл захватить с собой что-нибудь, кроме кое-какой мелочи. Все свои бумаги он тоже оставил в гостинице. Денщик его должен был уехать раньше и ждать его в Патанкоте с вещами. Это поручик называл «путешествием налегке». Он родился с организаторским талантом.
В двадцати двух милях от Дальхоузи полил дождь – не горный ливень, а настоящий продолжительный дождь, какие бывают во время муссонов. Голайтли встревожился и пожалел, что не захватил с собой зонта.
Пыль на дороге превратилась в грязь, а пони то и дело попадал в лужи. Гетры поручика все были забрызганы грязью. Но он бодрился и пытался думать, как приятна прохлада.
Следующий пони, на которого он пересел, не хотел сдвинуться с места и, пользуясь тем, что мокрые поводья скользили в руках Голайтли, сбросил его на повороте. Поручик погнался за пони, поймал его и живо вскочил ему на спину. Падение не улучшило состояния его платья или расположение духа, да кроме того, он потерял одну шпору. Приходилось довольствоваться оставшейся.
В продолжение этого перегона пони скакал и брыкался вволю, и, несмотря на дождь, Голайтли обливался потом. Ещё через полчаса мир скрылся из глаз поручика за сырым тягучим туманом. Дождь превратил его высокий просмолённый шлем в вонючее тесто, он облепил его голову, как полусгнивший гриб. Начала линять и зелёная подкладка.
Голайтли не сказал ничего, что бы стоило упоминать. Он сорвал и выжал, насколько мог, поля шлема, нависшие на глаза, и продолжал плестись дальше. Задний козырёк шлема ударял его по шее, боковые кости упирались в уши, но ремешок и зелёная подкладка держались, так что шлем не сваливался, а только болтался.
Наконец, смолистая масса и зелёная краска образовали тягучую массу, которая потекла по Голайтли потоками – по спине и груди, не разбирая дороги. Цвет хаки тоже начал линять-скверная была, линючая краска, – и костюм Голайтли окрасился в бурый цвет, местами с фиолетовыми пятнами, оранжевыми краями и ярко-красными полосами. Кое-где выступали совершенно белые пятна, что, очевидно, зависело от особенностей и свойств краски. Когда Голайтли взялся за платок, чтобы вытереть лицо, и зелёная краска подкладки, слившись с красной краской от ремня, потекла по шее, то эффект получился изумительный.
– Около Дхари дождь перестал, выглянуло вечернее солнце и слегка обсушило поручика. Оно также закрепило и краски. В трех милях от Патанкота последний пони упал от изнеможения, и Голайтли был вынужден идти пешком. Он отправился разыскивать по городу своего слугу, не зная того, что его кхитмагар остановился по дороге и напился, а на другой день, явившись в город, будет уверять, что он растянул себе ногу.
Поручик нигде не мог найти своего денщика; грязь и глина засохли на его сапогах, и на всем теле он чувствовал пыль. Голубой галстук полинял не меньше хаки. Голайтли снял его вместе с воротником и бросил. Выбранив слуг вообще, поручик постарался достать себе содовой с ромом. Он заплатил восемь анна за питьё и тут увидал, что у него осталось всего-навсего шесть анна в карманах или вообще в мире, при положении дел в настоящую минуту.
Он отправился к начальнику станции, чтобы попытаться выхлопотать билет первого класса до Кхасы, где стоял его полк. Кассир сказал что-то начальнику станции, начальник станции шепнул что-то телеграфисту, и все трое с любопытством взглянули на Голайтли. Они попросили его подождать полчаса, чтобы получить разрешение из Умритсара. Он стал ждать; пришли четыре констебля и расположились живописной группой вокруг него. Как раз в ту минуту, когда он намеревался попросить их удалиться, начальник станции сказал, что даст сахибу билет до Умритсара, если сахиб потрудиться пройти с ним в контору.
Голайтли исполнил желание начальника, и тут первое, в чем ему пришлось убедиться, было то, что в каждую из его рук и ног вцепилось по констеблю, а начальник станции пытался накинуть ему на голову мешок.
Произошла схватка, и Голайтли рассёк себе лоб, ударившись об угол стола. С констеблями ему оказалось не под силу справиться, и они с помощью начальника станции связали его по рукам и ногам. Когда с него сняли мешок и поручик начал высказывать своё мнение, констебль заговорил:
– Наверное, это тот самый английский солдат, которого мы ищем. Послушайте, как ругается!
Тогда Голайтли спросил у начальника, что значат эти слова и все предыдущее. На это начальник станции ответил ему, что он «рядовой Джон Бинкль N-ского полка, 5 футов 9 дюймов, блондин, с серыми глазами и на вид неряшливый; на теле особых примет нет», бежавший две недели тому назад.
Голайтли начал было пространное объяснение, но чем больше он распространялся, тем меньше верил ему начальник станции. Он сказал, что никогда поручик не может иметь такого оборванного вида, как у Голайтли, и что ему приказано отправить задержанного в Умритсар под надлежащей охраной.
Поручик чувствовал себя угнетённым; ему было не по себе, а его выражения не годились бы для печати даже в смягчённой форме.
Четверо констеблей благополучно проводили его до Умритсара в «отдельном купе», и он все четыре часа пути поносил их всеми ругательствами, какие только находились в его лексиконе.
В Умритсаре его высадили на платформу и передали в руки капрала и двух солдат N-ского полка. Голайтли собрался с силами и пытался изложить все связно. Он не чувствовал себя свободным в ручных кандалах, с двумя констеблями за спиной и кровью из раны на лбу, запёкшейся на левой щеке. Капрал тоже не был расположен шутить. Голайтли не успел договорить, что «это все, молодцы, ошибка», как он крикнул ему: «Молчать!» И приказал следовать за ним. Поручик просил остановиться и выслушать его объяснения и, действительно, начал излагать все очень обстоятельно, но капрал оборвал его:
– Вы офицер! Вот именно такие, как вы, и позорят нас! Нечего сказать, хорош офицер! Я знаю ваш полк. Откуда вы теперь? Конечно, бродяжничали. Вы – позор для всего сословия.
Голайтли сдержался и опять принялся объяснять все с самого начала. После этого его из-под дождя отвели в станционный буфет, где посоветовали не валять дальше дурака. Его собирались «отвести» в форт Говиндар, а «отвод» – это почти такая же унизительная процедура, как «лягушачий марш».
С Голайтли чуть не сделался припадок от ярости, холода, всей этой путаницы, кандалов и головной боли, вызванной раной на лбу. Он опять начал объяснять, как все произошло. Когда он кончил и у него даже в горле пересохло, один из солдат сказал:
– Видал я нищих, которые притворялись и слепыми, и калеками, и помешанными, ну а такого, чтобы он выдавал себя за офицера, не видал.
Солдаты не сердились на Голайтли; они даже восхищались им. В буфете, приказав подать себе пива, они угостили и своего арестанта за то, что он «страсть как хорошо ругался». Они просили его рассказать все о приключениях рядового Джона Бинкля, когда он бродил на свободе, и это окончательно взбесило поручика. Если бы он владел собой, он стал бы ждать, пока не придёт офицер, но он попытался бежать.
Спине приходится очень больно от прикосновения к ней приклада Мартини, а промоченное, сморщившееся хаки очень легко рвётся, когда вас схватят за воротник два дюжих солдата.
У Голайтли сильно кружилась голова, когда он поднялся на ноги с сорочкой, разорванной спереди и почти во всю длину на спине. Он покорился уже своей судьбе, но в эту минуту подошёл лагорский поезд, а в нем оказался один из майоров, знавший Голайтли.
Вот как майор рапортует об этом деле:
«В буфете второго класса слышалась какая-то возня. Я пошёл туда и увидел перед собой самого отъявленного бродягу, какого я когда-либо видел. Сапоги и шпоры его были все в грязи и пивных пятнах. На голове у него было что-то вроде грязновато-белой навозной кучи, спускавшейся лохмотьями на плечи, довольно-таки поцарапанные. Рубашка была разорвана почти пополам, и он просил сторожа прочесть имя на её подоле. Так как рубашка была завёрнута через голову, я не мог сначала рассмотреть его лицо, но по тому, как он ругался, оправляя свои лохмотья, заключил, что он должен быть одним из низших чинов. Когда же он повернулся ко мне и я смог рассмотреть лицо с раной над одним глазом, размалёванное зеленой краской и с лиловыми полосами вокруг шеи, то я узнал Голайтли. Он очень обрадовался мне и выразил надежду, что я не стану рассказывать всей этой истории в собрании. Я и не рассказывал, но вы, если желаете, можете, так как Голайтли уехал теперь домой».
Голайтли провёл большую часть этого лета, разыскивая капрала и двух солдат. Их судили военным судом за то, что они арестовали офицера и джентльмена. Они, конечно, выразили полное раскаяние в случившемся недоразумении, просили прощения, но потом все-таки рассказали другим обо всем в полковом буфете, а оттуда рассказ обошёл всю провинцию.