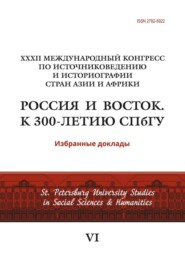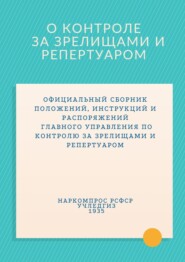По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русское искусство II. Неучтенные детали
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Sidorov A. A. Drevnerusskaya knizhnaya graviura [The Old Russian Book Engravings]. Moscow: The USSR Academy of Sciences Publ., 1951. 396 p.
Sidorov A. A. Graviura XVI veka [16
century Engravings] // Grabar’ I. E., Kemenov V. S., Lazarev V. N. (eds.). Istoriya russkogo iskusstva [History of Russian Art], vol. 3. Moscow: The USSR Academy of Sciences Publ., 1955. P. 610–625.
Solovjova I. D. K voprosu o hudozhestvennom oformlenii staropechatnyh naprestol’nyh Evangelij [On the Problem of Decoration of the Ancient Printed Altar Gospel] // Trudy Otdela drevnerusskoj literatury [Proceedings of the Medieval Russian Literature Department], vol. 38. Leningrad: Nauka Publ., 1985. P. 451–456.
Solovjova I. D. Ansambl’ miniatiur 1670-h godov iz sobraniya M. P. Pogodina [A Set of Miniatures from 1670s in the former M.P. Pogodin Collection] // Stranicy istorii otechestvennogo iskusstva. Sbornik statej po materialam nauchnoj konferencii [Pages of History of Our Home Art. Collected Papers of the Scientific Conference], vol. 28. Saint Petersburg: The State Russian Museum Publ., 2016. P. 35–46.
Svirin A. N. Iskusstvo knigi Drevnej Rusi XI–XVII vv. [The Art of Book Decoration in Old Russia, 11
– 17
centuries]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1964. 300 p.
The Kilgour Collection of Russian Literature, 1750–1920. With Notes on Early Books and Manuscripts of the 16
and 17
Centuries. Harvard College Library. Cambridge, Massachusetts, 1959. No pagination.
Vikan G. Walters Lectionary W. 535 (AD 1594) and the Revival of Deluxe Greek Manuscript Production after the Fall of Constantinople // Yiannias J.J. (ed.). The Byzantine Tradition after the Fall of Constantinople. Charlottesville and London: University Press of Virginia, 1991. P. 181–243.
Yuhimenko E. M. (ed.). Drevnosti i duhovnye sviatyni staroobriadchestva. Ikony, knigi, oblacheniya, predmety cerkovnogo ubranstva Arhierejskoj riznitsy i Pokrovskogo sobora pri Rogozhskom kladbishche v Moskve [Antiquities and Spiritual Relics of the Old Believers. Icons, Books, Vestments, and Liturgical Items of the Metropolitan Sacristy and the Intercession Cathedral at the Rogozhskoje Cemetery in Moscow]. Moscow: Interbuk-biznes Publ., 2005. 284 p.
«Недочитанные строки» в произведениях русской живописи XVIII века
А. А. КАРЕВ[86 - Карев Андрей Александрович, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории отечественного искусства МГУ имени М. В. Ломоносова, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (НИИ РАХ).Karev Andrey Aleksandrovich, Doctor of Art History, Professor at the Department of Russian Art History, Moscow Lomonosov State University, Principal Research Associateat the Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts (RAH).]
“UNFINISHED LINES” IN THE WORKS OF RUSSIAN PAINTING OF THE 18
CENTURY
A. A. KAREV
Аннотация. Как недочитанный текст, так и неучтенные детали в «тексте» произведения изобразительного искусства могут стать причиной упущенной возможности понимания важных граней целостного образа. В статье поставлена задача внимательно вглядеться в композиционные «окраины» полотна XVIII столетия, которые обычно воспринимаются как кулисы или обрамление главной сцены, что предусматривала и сложившаяся в искусстве Нового времени иерархическая система построения иллюзорного пространства в картине. Вместе с тем в ряде случаев периферия композиции может содержать важный для расшифровки основного смысла работы код. Своей спецификой обладают расположенные на переднем плане кулисы полотен бытового жанра. Природное тяготение этих работ к повествованию, накладывает отпечаток и на «кулисы», которые порой воспринимаются как своего рода «вставные новеллы». В исторических картинах кулисный план порой содержит близкий к эмблеме комментарий к главной сцене, о чем свидетельствуют работы С. Торелли и А. П. Лосенко. Детальное рассмотрение аксессуаров портрета, особенно если это цветы, означает обращение к проблеме иносказательной характеристики модели. Акцент на спрятавшейся в тени лилии в портрете М. И. Лопухиной В. Л. Боровиковского позволяет обсудить еще один нюанс в содержании известного полотна, а значит, как и в других случаях, двигаться в сторону аутентичного прочтения изобразительных «текстов» века Просвещения в России.
Ключевые слова: век Просвещения, русская живопись, композиция, кулисы, деталь, эмблема, бытовой жанр, историческая картина, портрет, аксессуары.
Abstract. Both the text that is not read to the end and the unaccounted details in the “text” of a work of fine art can cause a missed opportunity to understand some important facets of a holistic image. The article aims at looking closely at the compositional “margins” of the 18
century paintings, which are usually perceived as scenes or framing of the main stage. The hierarchical system of constructing illusory space in the picture, which developed in the art of the New Time, provided for this. However, in some cases, the periphery of the composition may contain important clue to decipher the basic meaning of the code. The foreground scenes of paintings of the genre have their specific features. The natural tendency of these works to the narrative, makes and an imprint on the “scenes”, which are sometimes perceived as a kind of “inserted short stories”. In historical paintings, the backstage plan sometimes contains a comment close to the emblem of the main stage, as in the works of S. Torelli and A. P. Losenko. Detailed examination of portrait accessories, especially if they are flowers, means touching the allegorical characteristics of the model. The emphasis on the lily hidden in the shadow in the portrait of M. I. Lopukhina by V. L. Borovikovsky allows us to discuss another nuance in the content of the famous canvas, and therefore, as in other cases, to move towards an authentic reading of the visual “texts” of the Enlightenment century in Russia.
Keywords: Enlightenment century, Russian painting, composition, scenes, detail, emblem, genre, historical painting, portrait, accessories.
Не секрет, что неоднократное обращение к хрестоматийным полотнам подобен процессу перечитывания уже знакомых книг. И то, и другое позволяет увидеть детали, ранее ускользнувшие из сферы внимания. Размышление над ними порой способно спровоцировать целый ряд вопросов, а те, в свою очередь, имеют склонность неистово размножаться и порой приводить к решительному изменению представления о теме, сюжете, смысле и, соответственно, названии произведения. Подобные примеры описаны на западноевропейском материале в книге известного французского историка и теоретика искусства Даниэля Арраса «Деталь в живописи»[87 - Аррас Д. Деталь в живописи / Пер. с фр. Г. А. Соловьевой. СПб., 2010.]. Правда, автор справедливо предостерегает от абсолютизации процесса поиска и интерпретации деталей вне общего контекста произведения, историко-художественной ситуации и других обстоятельств.
В истории русского искусства Нового времени выявление значимых, но ранее неучтенных деталей имеет настолько обширную историографию, что она заслуживает отдельного внимания. Это связано как с атрибуцией, так и с уточнением и стремлением перетолковать смысловую сторону вопроса. Однако деталь как особый феномен русской художественной культуры XVIII–XIX столетий в различных видовых и жанровых вариантах еще не стала объектом специального научного интереса. Двигаясь в данном направлении, в предложенной статье хотелось бы поделиться рядом наблюдений, рожденных интересом к русской живописи эпохи Просвещения.
Особенно привлекательны поиски незамеченных ранее деталей в известных и, как кажется, хорошо изученных произведениях. Таковым вполне может считаться полотно «Юный живописец» (ГТГ), созданное И. И. Фирсовым между 1765 и 1768 годами в Париже, скорее всего, под присмотром Ж. М. Вьена[88 - О нем см.: Алексеева Т. В. Исследования и находки. М., 1976. С. 36–51; Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Живопись XVIII века. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2015. С. 261.]. Судя по всему, эта тихая обаятельная сцена имеет поучительную моральную подоплеку[89 - Подробнее см.: Русское искусство. Идея. Образ. Текст / Отв. ред. В. В. Седов, А. П. Салиенко, Д. А. Андреев. СПб.: Алетейя, 2019. (Труды исторического факультета МГУ. Вып. 98. Сер. II: Исторические исследования, 52). С. 108–110.]. Полноценной идиллии противоречит сам образ главного героя полотна, если его детально рассмотреть. Растрепанные волосы еще можно принять за раннюю артистическую небрежность. Но откровенно разорванный рукав кафтанчика и в сюжетном, и в эмблематическом плане вызывает сомнения в общем благополучии ситуации. В ходе «прочтения» полотна как повествования, что вполне в духе намерений «домашних упражнений», напрашивается вопрос относительно статуса юного живописца. Он ученик, находящийся в мастерской своего учителя, сын владельца мастерской или еще кто-то? Он выполняет частный заказ или учебную работу? Его нещадно эксплуатируют, и оттого у него недостаточно средств на новую одежду или он просто небрежен в повседневной жизни? Взгляд же сквозь эмблематическую призму «подсказывает», что рваная одежда – это знак душевных ран[90 - По мнению автора «Словаря символов» Хуана Эдуардо Керлота, лохмотья «символизируют глубокие душевные раны» // Керлот Х. Э. Словарь символов. М., 1994. С. 296.]. В любом случае, зрителю предъявлено красноречивое свидетельство мастерства юного дарования, о чем можно судить, глядя на создаваемое им полотно, образ которого предстает не только композиционным центром картины, но и важной смысловой ее части, своего рода «конклюзии» нравоучительного повествования, не лишенного рокайльной занимательности.
Свои результаты может дать и внимательное рассматривание композиционных «окраин» полотна, которые в XVIII столетии обычно используются как кулисы или обрамление главной сцены, особо интригующее в бытовом жанре в силу своей нарративности. Так, в картине «Празднество свадебного договора» (1777, ГТГ) М. Шибанова и в приписываемой И. М. Танкову работе «Сельский праздник» (1790-е, ГРМ) в правом нижнем углу организуются «амурные уголки», как вставные новеллы, дополняющие основной мотив[91 - См.: Русское искусство. Идея. Образ. Текст. С. 119–124.]. Их вполне, вслед за Д. Аррасом, можно назвать «юмористическими деталями», тесно связанными с темой эротики[92 - Аррас Д. Указ. соч. С. 322–326.].
Cмысловые корреляции кулис и главного второго плана можно наблюдать и в исторической живописи второй половины XVIII века. Так, на картине Стефано Торелли «Аллегория на победу Екатерины II над турками и татарами» (1772, ГТГ) роль левой кулисы выполняет группа представителей освобожденных народов, которые буквально с распростертыми объятьями встречают свою благодетельницу. Правая кулиса по законам уравновешивающей оппозиции посвящена трофеям, среди которых центральное место занимает опрокинутое знамя османской империи. Между тем образ нагруженного вещами верблюда в духе риторики этого времени отсылает воображение к актуальной теме. Как известно, каждая из главнейших частей света в пространстве эмблематики имела своих полномочных представителей животного мира. Европа обозначалась лошадью, Африка – слоном, Америка – черепахой, а Азия – верблюдом. Согласно иконологическому описанию, Азия «… изображается в виде жены, облеченной в голубую одежду и в желтую епанчу, зардевшейся, показывающей на лице гордость и суровость, сидящей на верблюде…; глава ее покрыта белою чалмой с желтыми полосками и украшена перьями цапли… Пред ней лежат знамена, литавры, бубны, сабли, луки и стрелы»[93 - Эмблемы и символы. 2-е, исправл. и дополн. изд. с оригинальными гравюрами 1811 г. / Вступ. ст. и комм. А. Е. Махова. М., 2000. С. 60, № 334.]. В. В. Гаврин в опоре на приведенное иконологическое описание и «хитроумие инвентора» считает, что образ Азии представлен Торелли фигурой «знатной пленницы из находящихся у колесницы (ближайшей к зрителю)»[94 - Гаврин В. Иносказание в портретной живописи России второй половины XVIII века // Искусствознание’1/03 (XXI). М., 2003. С. 279.]. Имея в виду то же качество автора полотна, можно допустить, что Торелли не ограничивается в репрезентации Азии одной фигурой с близлежащими атрибутами, используя также околичности изобразительного поля, включая «кулисы».
Строго говоря, отвоеванные земли находились и находятся на европейском континенте. Однако турки и татары в эпоху Просвещения воспринимались восточными, а потому азиатскими народами, что находит отражение и в эмблематике. Помимо всего прочего, и Восток представлялся «в виде Азии, либо в образе восточных стран жителя, одетого по тамошнему обыкновению…»[95 - Эмблемы и символы. С. 61, № 338.]. Торелли не поскупился широко представить этот образ в женском и мужском вариантах, что, кстати, вполне могло отвечать интересу мастера рококо к экзотическим восточным мотивам.
Теме Азии на картине противопоставляются античные мотивы, символизирующие возвращение европейской цивилизации на берега Понта Эвксинского. Запряженную квадригой лошадей колесницу с Минервой в виде Екатерины II окружают воины «в древнеримских костюмах», имеющие портретное сходство с русскими генералами[96 - Подробнее о том, чего в картине Торелли «“более” – “Екатерины II в виде…” или “Минервы”, изображенной Екатериною?», а также о портретности изображенных генералов см.: Гаврин В. Указ. соч. С. 274–275.] – кавалерами учрежденного в 1769 году Военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия[97 - Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Живопись XVIII века. С. 247.]. Однако, как пишет В. Ю. Проскурина, «“римские” проекции власти не мешали возникновению новых – греческих – парадигм», особо актуальных в контексте военных планов Екатерины II и А. Г. Орлова[98 - Проскурина В. Ю. Мифы империи: Литература и власть в эпоху Екатерины II. М., 2006. C. 168.]. Как и положено в театрализованной аллегории, на глазах у зрителя демонстрируется утверждение на завоеванной территории нового символа. Недаром представленные на полотне георгиевские кавалеры ассоциируются у современного исследователя с образом крестоносцев, призванных «подавлять неверных силой»[99 - Кузнецов С. О. Серия портретов Владимирских кавалеров Д. Г. Левицкого. Из истории создания и бытования произведений // Д. Г. Левицкий. 1735–1822. Сб. научных трудов / Науч. ред. Г. Н. Голдовский. Л., 1987. С. 85.].
Представленная на колеснице Екатерина-Минерва, которая в это время легко перевоплощалась в литературе и искусстве в Палладу, всем своим видом являет визуальный эквивалент первой строки сочиненного ею Наказа: «Россия есть европейская держава». Ведь «Европа изображается наподобие Паллады в шлеме, держащей в руках скипетр и рог изобилия, со стоящим возле нее конем»[100 - Эмблемы и символы. С. 61, № 337.].
На общую композицию наглядно проецируется «образ пирамиды», один из самых поощряемых приемов в живописи эпохи классицизма. Попутно вспомним, что в европейской культуре пирамида издавна воспринималась как многослойный символ: «Квадратное основание символизирует землю. Вершина является отправной и конечной точкой всех вещей – мистического “Центра”…»[101 - Керлот Х. Э. Указ. соч. С. 397.]. Таким образом, в пространстве картины демонстрируется утверждение российской Минервы на новых землях на вечные времена и одновременно благосклонность Неба по отношению к деятельности царственной воительницы.
К подобному композиционному приему не раз прибегал и классик отечественной исторической картины А. П. Лосенко. В свете интересов избранной темы внимания заслуживает образ оруженосца Гектора, фигура которого вместе со щитом идеально соответствует «образу пирамиды», который и служит правой кулисой для главной сцены «Прощания Гектора с Андромахой» (1773, ГТГ). Уже в эскизе (1773, ГТГ) заметно изображение на щите стоящего на задних лапах льва. Как и положено, подготовительная работа написана довольно схематично. Однако образ льва выявлен ничуть не менее тщательно, чем центральные фигуры сцены, что лишний раз свидетельствует о его значимости в семантической структуре композиции. Не исчезает он и в большой картине. Форма круглого щита была привычной при изображении древнегреческих воинов в это время. К тому же Лосенко мог опираться на гомеровское описание поединка Гектора с Аяксом, который как раз и состоялся после прощания героя с женой и сыном:
…Тогда Теламонид великий,
Мощный Аякс, размахнувши, послал длиннотенную пику
И вогнал Приамиду оружие в щит круговидный…[102 - Илиада. VII, 248–250. Гомер. Илиада / Перевод Н. И. Гнедича. Изд. подготовил А. И. Зайцев. Л., 1990. С. 98.].
В литературе бытует мнение, что щит Гектора был украшен изображением льва, на что впоследствии ориентировался и Александр Македонский[103 - Вишнев В. Nine Worthies – 9 мужей славы. URL: new.chronologia.org/volume12/ vishnev.php (дата обращения 31.03.2019).]. Однако обнаружить сколько-нибудь авторитетный источник этих сведений, который мог быть известен Лосенко, пока не удалось.
В любом случае, здесь, скорее всего, мы имеем дело со своеобразной характеристикой главного героя, поскольку «Лев или Львица есть знак отважности, силы, храбрости, милости, великодушия, гнева, неистовства…»[104 - Эмблемы и символы. С. 50, № 232.]. Именно эти качества и демонстрирует Гектор в пространстве Гомеровой «Илиады».
Однако имеются и другие возможные значения образа льва на щите, правда, на щите геральдическом. Да и воспроизведенная Лосенко «позитура» льва вполне геральдическая. В «Описании Государственных Гербов Российской Империи» книги эмблем отмечено, что «лев, стоящий на задних лапах, с желтою на его главе короною, держащий в правой передней лапе длинный серебряный крест, в красном поле» представляет город Владимир и соответствующую губернию[105 - Там же. С. 66, № 382.]. Если мысленно убрать корону и крест, и повернуть фигуру в противоположную сторону, то изображенный Лосенко лев на щите Гектора окажется довольно похожим на воспроизведенную в Титулярнике 1672 года эмблему города Владимира. Вопрос состоит лишь в том, есть ли здесь ссылка на российскую тематику, что вполне возможно, или мы имеем дело с заимствованием мотива для другой цели.
При поисках значимых деталей не стоит забывать и о таких приемах живописца, как затенение. В контексте определенной стилевой ситуации, как например, в сентиментализме это может иметь свой смысловой оттенок. Так, на портрете М. И. Лопухиной (1797, ГТГ) В. Л. Боровиковский, как и в большинстве других изображений сентиментальной женской натуры этого времени откровенно сопоставляет модель с царицей цветов. Она, таким образом, становится «флористическим псевдонимом» портретируемых[106 - Об этой функции цветка в пространстве европейской культуры XVIII в. см.: Шарафадина К. И. «Алфавит Флоры» в образном языке литературы пушкинской эпохи (источники, семантика, формы). СПб., 2003. С. 33.], открывая возможности их сопоставления с теми мифологическими и аллегорическими персонажами, у которых «царица цветов» считалась атрибутом. В качестве атрибута Афродиты или Венеры она заставляла зрителя воспринимать модель современным воплощением красоты[107 - Согласно иконологическому описанию изображений «Мнимых Божков язычников», «Венера, или Афродита, богиня красоты, изображается прекрасною нагою девицею с яблоком в руке… также роза, миртовое дерево и зеркало ей посвящены». – Эмблемы и символы. С. 38, № 133.]. Частое соотнесение бутона розы с великолепием распустившегося цветка подчеркивало достижение зрелости модели, подобной красоте лучшего сезона – лета[108 - И. Ф. Урванов, например, в своем «Руководстве» наставлял: «Картина ландшафт-наго художника должна представлять лучшее летнее время». См.: Краткое руководство к познанию рисования и живописи историческаго рода, основанное на умозрении и опытах. Сочинено для учащихся художником И. У. СПб., 1793. С. 43.] и лучшего времени суток – дня. Летом и чаще всего днем с ориентацией на формулу идиллического пейзажа изображаются героини сентиментального портрета в России[109 - О формуле идиллического пейзажа в литературе русских сентименталистов см.: Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания). СПб., 1994. С. 209–213. Правда, в русской портретной живописи, в том числе и у Боровиковского, можно найти примеры соответствия и другой имеющей отношение к сентиментализму формуле, воплощенной Г. Р. Державиным: «Под древом, при заре вечерней, / Задумчиво любовь сидит…» («Водопад», 1791–1794).]. Во всяком случае, так представлена Боровиковским Лопухина. Между тем у розы в эмблематическом поле имеются и другие значения. Сама по себе земная красота в символической традиции относилась к сфере суеты сует. Не избежал таких коннотаций и «Большой розовый цветок», который в соответствии с девизом означал преходящую красоту и «маловременное удовольствие»[110 - Эмблемы и символы. С. 162, № 365.]. Скорее всего, именно эту эмблему имел в виду А. П. Сумароков в сонете «Не трать, красавица, ты времени напрасно…» (1755), когда писал: «Как розы сей, пройдет твоя пора». Кроме того, эмблематика предостерегает: «Нет розы без иголки», а ее шипы, в свою очередь, намекают: «Что лепо, и хорошо и трудно. Ничто без труда не бывает. Все требует попечения»[111 - Там же. С. 156, № 339.].
Между тем отчетливо прописанный мотив розы на разных стадиях ее цветения в портрете Лопухиной дополняется едва заметным образом лилии в затененном пространстве у левого плеча модели. В монографии о В. Л. Боровиковском Т. В. Алексеева справедливо пишет, что «пейзаж в портрете Боровиковского складывается из нескольких самостоятельных мотивов». С одной стороны, он тонко передает особенности естественного ландшафта. С другой стороны (в данном случае буквально с другой стороны от модели), «в сельский пейзаж проникают идиллические мотивы парковой природы – склоненные над мраморным постаментом розы, бледная лилия в густой тени кустов – эти символы человеческой чистоты и добродетели, столь распространенные в искусстве и литературе этого времени»[112 - Алексеева Т. В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII–XIX веков. М., 1975. С. 163.]. Действительно, белая лилия мыслилась неотъемлемым атрибутом целомудрия или чистоты[113 - Эмблемы и символы. С. 35, № 102.]. В эмблематике она ассоциировалась с девизом: «Белизна ее не портится златом. Красота не повреждается богатством»[114 - Там же. С. 100–101, № 116.]. Роза же, как видно выше, намекала на иные качества модели. К тому же сопоставление розы и лилии, при всем разнообразии их значений, так или иначе, учитывает эмблему «Пламенеющее сердце между лилиею и розою» с «подписью»: «Красота, чистота и любовь. Непорочность любви есть откровенность и чистосердечие»[115 - Там же. С. 124, № 216.]. Причем на портрете цветы-символы не рядоположены фронтально, как на рисунке эмблемы, а располагаются один за другим. Розы тщательнейшим образом выписаны и пластически выявлены подобно расположенной рядом свободно свисающей в бездействии кисти руки модели. Лилия же едва обозначена и почти сливается с окружающей фигуру девушки затененной зеленью. Вряд ли это сопоставление явственно ощутимого и сокрытого случайно. Учитывая логику «флористического псевдонима», можно «послание» мастера прочитать следующим образом: очевидная телесная красота модели дополняется и обеспечивается ее добродетельностью и душевной красотой. Затененность лилии, скорее всего, намекает, в духе сентиментализма, на сокровенность этого мира, мира «внутреннего человека» по формуле, проговоренной в русской литературе лет за тридцать до создания портрета Лопухиной: «Уже нам зримые в лице твоем черты / Являют рай твоей душевной красоты»[116 - Петров В. П. Посвящение Павлу Петровичу // Поэты XVIII века / Вступ. ст. Г. П. Макогоненко, подгот. текста и примеч. Н. Д. Кочетковой. Т. 1. Л., 1972. С. 342.]. Более явственно тема нравственного совершенства проступает в таком знаке как белое одеяние, в котором в эмблематическом опыте видится аллегория Добродетели[117 - «Добродетель вообще, дочь истины, изображается в виде жены, облеченной в белую одежду…». – Эмблемы и символы. С. 31, № 68.]. Сближенное по пластической определенности и светлой тональности «доличное» и «личное» метафорически уподобляет фигуру мраморной статуе, заключающей в себе формулу античной гармонии. Она, в свою очередь, предполагает культ природного начала, согласуясь с пейзажным фоном. Ритмическое соответствие очертаний стебля лилии с наклоном головы модели, и всей ее фигуры с контурами ландшафта позволяет риторически связать изображенную со всем символическим потенциалом как этого цветка, так и других растительных «натурщиков».
В заключение заметим, что деталь в живописи этого времени, как и в других видах «знатнейших художеств», является неотъемлемой частью целого и подобно детали в архитектурном ордере занимает свое определенное заданное композиционными правилами место. Но, как и слово в риторике независимо от его места в иерархии смысловых ценностей, так и деталь в изобразительной сфере, теснейшим образом связаны с общим смыслом и могут его дополнять и корректировать. Так, она может подразумеваться самой программой, особенно под псевдонимом «и проч.», или быть частью обозначенного мотива «по умолчанию». Например, согласно программе для полотна на звание академика, Семен Щедрин должен был «представить полдень, где требуется скот, пастух и пастушка, частию лес, воды, горы, кусты и проч.» В окончательном варианте картины «Полдень (Вид в окрестностях озера Неми)» (около 1778, ГРМ) художник, с одной стороны, вводит сугубо бытовой мотив с нагруженными донельзя осликами, с другой «дополняет изображением руин и античной скульптуры, что придает произведению элегически-пасторальный облик»[118 - Моисеева С. В. «…К лучшим успехам и славе Академии»: Живописные классы Санкт-Петербургской Академии художеств XVIII – первой половины XIX века. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. С. 159.]. К тому же античная тема вполне соответствует отсылке к общезначимой классике – лорреновскому пейзажу, проступающему в композиции полотна Щедрина и характере трактовки темного силуэта крон деревьев на фоне предельно осветленного неба.
Иными словами, в закономерности появления той или иной детали в картине, скульптуре, гравюре можно не сомневаться. Вряд ли случайно из поколения в поколение исследователи мирового искусства передают слова Аби Варбурга: «За каждой деталью стоит Господь Бог»[119 - См.: Аррас Д. Указ. соч. С. 15.]. И это очень трудно опровергнуть. Остается только позаботиться о том, чтобы внимание по отношению к любой, даже очень малой части того мира, который воспроизводился и воспроизводится старыми и новыми мастерами, не ослабевало.
Список литературы
Алексеева Т. В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII–XIX веков. М.: Искусство, 1975. 424 с.
Алексеева Т. В. Исследования и находки. М.: Искусство, 1976. 159 с.
Аррас Д. Деталь в живописи / Перевод с французского Г. А. Соловьевой. СПб.: Азбука-классика, 2010. 464 с.
Вишнев В. Nine Worthies – 9 мужей славы // URL: new.chronologia.org/volume12/vishnev.php (дата обращения 31.03.2019).
Гаврин В. Иносказание в портретной живописи России второй половины XVIII века // Искусствознание’1/03 (XXI). М., 2003. С. 250–295.
Гомер. Илиада / Перевод Н. И. Гнедича. Издание подготовил А. И. Зайцев. Л.: Наука, 1990. 572 с.
Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Живопись XVIII века. 2-е издание, дополненное и переработанное. М.: Государственная Третьяковская галерея, 2015. 408 с.