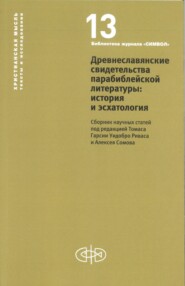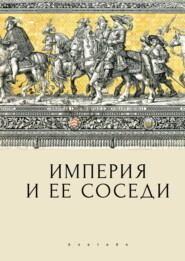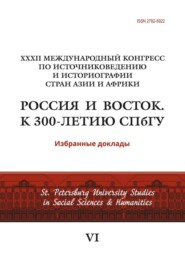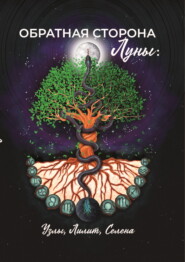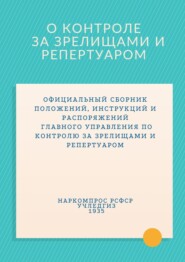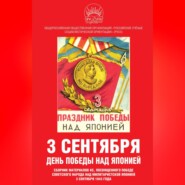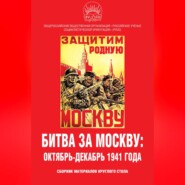По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Актуальные проблемы предпринимательского права. Выпуск IV
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
При решении вопроса о применении мер гражданско-правовой ответственности к членам органов управления важное значение имеет наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и наступившими последствиями в виде убытков. В законодательстве отсутствует понятие причинно-следственной связи. В доктрине сформировались определенные суждения относительно природы причинно-следственной связи. Наиболее распространена позиция, согласно которой «взаимосвязь причины и следствия – объективно существующая разновидность взаимосвязи явлений, которая характеризуется тем, что в конкретной ситуации из двух взаимосвязанных явлений одно (причина) всегда предшествует другому и порождает его, а другое (следствие) всегда является результатом действия первого»[42 - Гражданское право: учебник: в 2 т. T.l/Отв. Ред. Е.А.Суханов. М. 2003. С 445.].
Однако применительно к гражданско-правовой ответственности управляющих разработана и иная концепция причинно-следственной связи, в основе которой лежит теория возможности и действительности, разработанная О. С.Иоффе[43 - Иванов И.Л.Гражданско-правовая ответственность лиц, участвующих в управлении акционерных обществ в праве России и Германии: автореф. дис. канд. юрид. наук. М.1999. С. 73–75.]. Согласно данному подходу причинная связь между поведением управляющих и вредным результатом приобретает правовое значение как элемент основания их гражданско-правовой ответственности только при условии, что это поведение вызвало действительность результата или создало конкретную возможность его наступления. Поведение лица в соответствии с этой теорией создает лишь возможность наступления вредоносных последствий, превращение которой в действительность обусловлено наличием определенных обстоятельств, поскольку любое поведение, даже неправомерное, может не породить вредоносных последствий.
Таким образом, применительно к ответственностям членов органов управления, под причинно-следственной связью следует понимать условие наступления гражданско-правовой ответственности членов органов управления, в результате такой взаимосвязи между действиями (бездействиями) членов органов управления хозяйственным обществом и причинением ему убытков, при которой последнее в результате совершенного действия (бездействия) понесло убытки.
Вина в силу указания п. 2 ст. 71 Закона об АО и п. 2 ст. 44 Закона об ООО является обязательным условием гражданско-правовой ответственности членов совета директоров.
Вина в науке гражданского права понимается по-разному. Так, О. С.Иоффе пишет о том, что «виновность лица выражается в двух моментах: осознание естественной связи между совершенным действием (или воздержанием от действия) и наступившим результатом;…осознание общественной значимости совершенных действий (или воздержания от действий) и наступившего результата[44 - О.С.Иоффе Ответственость по советскому гражданскому праву//Избранные труды: в 3 т. Т. 1 СПб. 2004. С. 329.].
В данном случае вина рассматривается как психическое отношения лица к своему противоправному поведению. Другие авторы рассматривают вину не как субъективное, психическое отношение лица к своему поведению, а «как непринятие им объективно возможных мер по устранению или недопущению отрицательных результатов своих действий, диктуемых обстоятельствами конкретной ситуации. Иначе говоря, здесь вина переводится из области трудно доказуемых субъективно психических ощущений конкретного человека в область объективно возможного поведения участников имущественных отношений, где их реальное поведение сопоставляется с определенным масштабом должного поведения»[45 - Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. отв. Ред. Е.А.Суханов. М., 2010. С. 463.].
В силу этого общепризнанным в науке гражданского права стало определение вины через категорию непринятия правонарушителем всех возможных мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения, необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру лежащих на нем обязанностей и конкретным условиям оборота[46 - Там же. С. 463].
Следует учитывать, что вина членов органов управления хозяйственными обществами может быть в форме не только умысла, но и неосторожности[47 - Корпоративное право: учебник /под ред. Шиткиной И.С. С. 583.].
Учитывая, что решение принимается коллегиально, ответственность членов совета директоров является солидарной, (п. 4 ст. 71 Закона об АО, п. 4 ст. 44 Закона об ООО).
До недавнего времени в науке и в правоприменительной практике весьма актуальным оставался вопрос о распределении бремени доказывания по делам, касающимся привлечения членов органов управления к гражданско-правовой ответственности. По общему правилу, предусмотренному в ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.
К тому же, согласно пункту 3 статьи 10 ГК РФ разумность и добросовестность участников гражданских правоотношений презюмируются, значит, обязанность по доказыванию недобросовестности и неразумности действий членов органов управления, повлекших причинение убытков, возлагается на истца. Таковым является традиционное понимание распределения бремени доказывают по данной категории дел, которое до недавнего времени было преобладающим в судебной практике.
Однако в настоящий момент правоприменительная практика развивается по иному пути: в п. 2 постановления Пленума № 62 содержится правовая позиция о возможности перераспределения бремени доказывания в определенных случаях, в частности, когда директор действовал при наличии конфликта интересов; скрывал информацию от участников юридического лица, совершил сделку без требующегося в соответствии с законодательством или уставом одобрения; совершил сделку на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом.
Высший Арбитражный Суд РФ разъяснил, что если истец представил достаточно серьёзные доказательства и привел убедительные аргументы в пользу того, что сделки убыточны, бремя доказывают обратного переходит на ответчика.
Ранее Высший Арбитражный Суд РФ уже использовал возможность перераспределения бремени доказывания при рассмотрении конкретных споров, например, по делу «Кировского завода»; по делу «Акционерного банка „РОСТ“» против гражданина Горькова А.Н При этом, если ранее такие подходы были скорее исключением, чем правилом, то теперь Высший Арбитражный Суд РФ перераспределение бремени доказывания в указанных случаях рассматривает как общий подход[48 - Шиткина И.С.Комментарии к Постановлению Пленума № 62 от 30 июля 2013 года // Закон. 2013. № 3.].
К субъектам, имеющими право обратиться в суд с иском к члену совета директоров о возмещении причиненных обществу убытков, относятся само общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества (участник общества с ограниченной ответственностью, вне зависимости от размера его доли в уставном капитале общества).
По своей правовой природе иск акционера (участника) о взыскании убытков, причиненных обществу членами его органов управления является косвенным, поскольку он предъявляется в интересах общества.
С учетом характера косвенного иска акционер (участник), обращающийся с ним, рассматривается как процессуальный истец (ст. 225.8 АПК РФ); лицом, имеющим материально-правовые требования («материальным истцом»), во всех случаях следует считать общество, в интересах которого предъявляется иск[49 - См., напр.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 06.04.2011 по делу].
Следует отметить, что в судебной сложился определенный подход, согласно которому лица, предъявляющие иски о возмещении убытков по основаниям, предусмотренным ст. 71 Закона об АО, должны обладать статусом акционера на момент совершения правонарушения, иначе принадлежащие им права участника нарушенными не считаются[50 - №А32-17725/2010. См., напр., Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 января 2007 года № 09АП-17212/2006-ГК по делу № А40^14424/06-81-223].
Вместе с тем, в постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 62 содержится иной подход: «Арбитражным судам следует учитывать, что участник, обращающийся с иском о возмещении директором убытков, действует в интересах юридического лица. В связи с этим не является основанием для отказа в удовлетворении иска тот факт, что истец на момент совершения директором действий (бездействия), повлекших для юридического лица убытки, или на момент непосредственного возникновения убытков не был участником юридического лица» (и. 7).
Как видно, документ предполагает, что любой участник вправе предъявить требование о возмещении убытков вне зависимости от того, был ли он участником на момент совершения действий или нет.
Такая позиция Высшего Арбитражного Суда РФ, на наш взгляд, заслуживает одобрения, поскольку в результате неправомерных действий членов органов управления негативные имущественные последствия возникают как для участника, который имел такой статус в момент причинения обществу убытков, как и для участника, ставшего таковым после.
Правовая природа актов коллегиальных органов корпорации
Юрий Дмитриев-Ильин
Магистрант юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Введение
В связи со включением в предмет гражданско-правового регулирования корпоративных отношений (п. 1 ст. 2 ГК РФ), а также законодательного признания решений собраний как самостоятельных юридических фактов, в научной общественности с новой силой разгорелась дискуссия относительно правовой природы актов коллегиальных органов корпорации.
Целью настоящей статьи является выяснение правовой природы актов коллегиальных органов корпорации. Автор ставит своей задачей не просто доказать признание за актами коллегиальных органов корпорации значения самостоятельных юридических фактов (тем более, что данное обстоятельство уже нашло свое отражение в действующем гражданском законодательстве), но и попытаться выявить конституирующие признаки этих актов, определить их место в системе оснований возникновения гражданских прав и обязанностей.
В процессе работы над данной статьей изучению подлежат взгляды ученых-юристов на рассматриваемую проблему (доктрина), соответствующие законодательство и судебная практика.
По мнению автора собственно корпоративными актами являются только акты коллегиальных органов корпорации, обладающие рядом отличительных признаков, позволяющих отграничить их как от сделок, так и от источников права.
Вопросы, освещаемые в статье, обусловлены предметом исследования и в конечном итоге сводятся к анализу следующих основных точек зрения на правовую природу корпоративных актов:
– корпоративные акты как сделки (многосторонние, односторонние);
– корпоративные акты как источники права (локальные нормативные акты);
– корпоративные акты как самостоятельные юридические факты (выводы).
Корпоративные акты как сделки (многосторонние, односторонние)
Среди специалистов нет единого мнения относительно природы корпоративных актов. В юридической литературе широкое распространение получило понимание таких актов как разновидности сделок (многосторонних либо односторонних). Главным образом, данной концепции придерживаются представители науки гражданского права, следуя известному принципу бритвы Оккама «не следует умножать сущности без необходимости» и пытаясь применять старое, достаточно давно разработанное и отшлифованное в цивилистике понятие сделки к относительно новому правовому явлению – корпоративным актам.
Такой подход известен в правовой науке как «субсуммирование» нового правового явления в одну из известных, устоявшихся категорий с целью его признания действующим правопорядком. По этому поводу, применительно к акционерным компаниям, писал еще известный дореволюционный ученый-правовед И.Т.Тарасов: «…правовые отношения, вырабатывающиеся в акционерных компаниях, следует очень осторожно подводить под известные старые юридические построения, имея в виду, что новые формы предприятий вызывают и новые юридические отношения»[51 - Тарасов И.Т.Учение об акционерных компаниях. М.: Статут, 2000. С. 412.].
В целом, концепции, объясняющие правовую природу актов коллегиальных органов корпорации через призму гражданско-правовых сделок можно подразделить на концепции, признающие за указанными актами качества: 1) многосторонних или 2) односторонних сделок.
В первом случае участниками сделки становятся сами акционеры (участники) корпорации, действующие в рамках соответствующего коллегиального органа управления, тогда как с точки зрения авторов второй концепции лицом, совершающим сделку признается сама корпорация, действующая через свои коллегиальные органы управления.
При характеристике корпоративных актов как гражданско-правовых сделок иногда прибегают к различного рода модификациям, добавляя дополнительные признаки, характеризующие эти акты как определенную разновидность сделок, условно называемую корпоративные сделки[52 - См., например.: Козлова Н.В.Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005.С. 115, 384–387,403^404. Степанов Д.И.Устав как форма сделки// Вестник гражданского права. 2009. Т. 9. № 1. С. 4–62.].
Так, по мнению Н.В.Козловой, корпоративные акты, принимаемые коллегиальными органами организации следует считать многосторонней гражданско-правовой корпоративной сделкой. При этом понятие корпоративной сделки охватывает собой и трудовые отношения (например, коллективный договор)[53 - Козлова Н.В.Гражданско-правовой статус органов юридического лица. С. 53, 55–56.], а субъектами, ее совершающими, являются физические лица, образующие коллегиальный орган юридического лица[54 - Козлова Н.В.Правосубъектность юридического лица//СПС «КонсультантПлюс».].
Специфику гражданско-правовой многосторонней корпоративной сделки указанный автор видит в том, что она может создавать корпоративные права и обязанности для акционерного общества и акционеров даже в тех случаях, когда отдельные акционеры не принимали участия в совершении сделки или выступили против ее совершения[55 - Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица по российскому гражданскому праву: Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2004. С. 13.].
Д. И. Степанов также придерживается мнения, что корпоративные акты – суть разновидность сделок, отводя им место вида в соотношении с родом, которым в данном случае не перестает оставаться ранее известная идея, и пишет по этому поводу: «Видимо, все же на самостоятельную группу (род или тип) рассматриваемые юридические факты, что называются, не тянут, поскольку какого-либо глубинного и сущностного различия со сделками как разработанной категорией науки гражданского права корпоративные акты, принимаемые единогласно, не обнаруживают. Максимум, на что можно в таком случае пойти, это прибавить предикат корпоративности и вести речь о корпоративных сделках <17>, имея в виду указание на соотнесенность таких сделок со сферой корпоративного»[56 - Степанов Д.И.Устав как форма сделки// Вестник гражданского права. 2009. Т. 9. № 1. С. 4-62.].
Следует отметить, что признавая за корпоративными актами наличие таких признаков как обязательность подобных актов для других лиц или отсутствие у собрания участников свойства самостоятельного субъекта права, Д. И. Степанов отрицает их конституирующее значение для признания этих актов в качестве самостоятельных юридических фактов и считает, что в данном случае «… можно вполне обойтись общим понятием сделки как универсального юридического факта, в конструкцию которого включаются правомерность, волевой характер и изначально присутствующая в идее сделки нацеленность на достижение правового результата»[57 - Степанов Д.И.Там же.].
В целом, данный автор отрицает конституирующее значение принципа единогласия (согласования воль) для совершешья многосторонней сделки, указав при этом, что такая ситуация является скорее исключением, чрезвычайно редко встречающимся на практике. В обоснование своей позиции Д.И. Степанов ссылается на цивилистов, обеспечивавших, по его мнению, преемственность традиций от дореволюционного гражданского права к праву советского периода, в частности, И.С.Перетерского[58 - Перетерский И.С.Гражданский кодекс РСФСР. Сделки. Договоры. Вып. V. Институт советского права, РАНИОН. М.: Юридическое издательство НКЮ РСФСР, 1929. С. 8.], допускавшего такого рода отклонения от общего правила, а также на опыт зарубежной доктрины и иностранных правопорядков[59 - Подавляющее большинство арбитражных судов не рассматривает решения органов управления в качестве сделки. См. напр.: постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21 февраля 2001 г. по делу № КГ-А40/458-01; постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 октября 2003 г. по делу №Ф04/5420-945/А75-2003, постановление Президиума ВАС РФ от 27 апреля 2010 г. № 67/10 по делу №А40-13353/09-158-149//СПС «КонсултантПлюс».].
Однако, на наш взгляд, исключения, вопреки распространенному мнению, не подтверждают общего правила, но скорее наоборот, опровергают его, а зарубежный опыт следует с осторожностью применять к отечественным условиям, имея в виду преимущественно национальный характер системы российского права, в том числе и системы частного (гражданского) права.
Однако применительно к гражданско-правовой ответственности управляющих разработана и иная концепция причинно-следственной связи, в основе которой лежит теория возможности и действительности, разработанная О. С.Иоффе[43 - Иванов И.Л.Гражданско-правовая ответственность лиц, участвующих в управлении акционерных обществ в праве России и Германии: автореф. дис. канд. юрид. наук. М.1999. С. 73–75.]. Согласно данному подходу причинная связь между поведением управляющих и вредным результатом приобретает правовое значение как элемент основания их гражданско-правовой ответственности только при условии, что это поведение вызвало действительность результата или создало конкретную возможность его наступления. Поведение лица в соответствии с этой теорией создает лишь возможность наступления вредоносных последствий, превращение которой в действительность обусловлено наличием определенных обстоятельств, поскольку любое поведение, даже неправомерное, может не породить вредоносных последствий.
Таким образом, применительно к ответственностям членов органов управления, под причинно-следственной связью следует понимать условие наступления гражданско-правовой ответственности членов органов управления, в результате такой взаимосвязи между действиями (бездействиями) членов органов управления хозяйственным обществом и причинением ему убытков, при которой последнее в результате совершенного действия (бездействия) понесло убытки.
Вина в силу указания п. 2 ст. 71 Закона об АО и п. 2 ст. 44 Закона об ООО является обязательным условием гражданско-правовой ответственности членов совета директоров.
Вина в науке гражданского права понимается по-разному. Так, О. С.Иоффе пишет о том, что «виновность лица выражается в двух моментах: осознание естественной связи между совершенным действием (или воздержанием от действия) и наступившим результатом;…осознание общественной значимости совершенных действий (или воздержания от действий) и наступившего результата[44 - О.С.Иоффе Ответственость по советскому гражданскому праву//Избранные труды: в 3 т. Т. 1 СПб. 2004. С. 329.].
В данном случае вина рассматривается как психическое отношения лица к своему противоправному поведению. Другие авторы рассматривают вину не как субъективное, психическое отношение лица к своему поведению, а «как непринятие им объективно возможных мер по устранению или недопущению отрицательных результатов своих действий, диктуемых обстоятельствами конкретной ситуации. Иначе говоря, здесь вина переводится из области трудно доказуемых субъективно психических ощущений конкретного человека в область объективно возможного поведения участников имущественных отношений, где их реальное поведение сопоставляется с определенным масштабом должного поведения»[45 - Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. отв. Ред. Е.А.Суханов. М., 2010. С. 463.].
В силу этого общепризнанным в науке гражданского права стало определение вины через категорию непринятия правонарушителем всех возможных мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения, необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру лежащих на нем обязанностей и конкретным условиям оборота[46 - Там же. С. 463].
Следует учитывать, что вина членов органов управления хозяйственными обществами может быть в форме не только умысла, но и неосторожности[47 - Корпоративное право: учебник /под ред. Шиткиной И.С. С. 583.].
Учитывая, что решение принимается коллегиально, ответственность членов совета директоров является солидарной, (п. 4 ст. 71 Закона об АО, п. 4 ст. 44 Закона об ООО).
До недавнего времени в науке и в правоприменительной практике весьма актуальным оставался вопрос о распределении бремени доказывания по делам, касающимся привлечения членов органов управления к гражданско-правовой ответственности. По общему правилу, предусмотренному в ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.
К тому же, согласно пункту 3 статьи 10 ГК РФ разумность и добросовестность участников гражданских правоотношений презюмируются, значит, обязанность по доказыванию недобросовестности и неразумности действий членов органов управления, повлекших причинение убытков, возлагается на истца. Таковым является традиционное понимание распределения бремени доказывают по данной категории дел, которое до недавнего времени было преобладающим в судебной практике.
Однако в настоящий момент правоприменительная практика развивается по иному пути: в п. 2 постановления Пленума № 62 содержится правовая позиция о возможности перераспределения бремени доказывания в определенных случаях, в частности, когда директор действовал при наличии конфликта интересов; скрывал информацию от участников юридического лица, совершил сделку без требующегося в соответствии с законодательством или уставом одобрения; совершил сделку на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом.
Высший Арбитражный Суд РФ разъяснил, что если истец представил достаточно серьёзные доказательства и привел убедительные аргументы в пользу того, что сделки убыточны, бремя доказывают обратного переходит на ответчика.
Ранее Высший Арбитражный Суд РФ уже использовал возможность перераспределения бремени доказывания при рассмотрении конкретных споров, например, по делу «Кировского завода»; по делу «Акционерного банка „РОСТ“» против гражданина Горькова А.Н При этом, если ранее такие подходы были скорее исключением, чем правилом, то теперь Высший Арбитражный Суд РФ перераспределение бремени доказывания в указанных случаях рассматривает как общий подход[48 - Шиткина И.С.Комментарии к Постановлению Пленума № 62 от 30 июля 2013 года // Закон. 2013. № 3.].
К субъектам, имеющими право обратиться в суд с иском к члену совета директоров о возмещении причиненных обществу убытков, относятся само общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества (участник общества с ограниченной ответственностью, вне зависимости от размера его доли в уставном капитале общества).
По своей правовой природе иск акционера (участника) о взыскании убытков, причиненных обществу членами его органов управления является косвенным, поскольку он предъявляется в интересах общества.
С учетом характера косвенного иска акционер (участник), обращающийся с ним, рассматривается как процессуальный истец (ст. 225.8 АПК РФ); лицом, имеющим материально-правовые требования («материальным истцом»), во всех случаях следует считать общество, в интересах которого предъявляется иск[49 - См., напр.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 06.04.2011 по делу].
Следует отметить, что в судебной сложился определенный подход, согласно которому лица, предъявляющие иски о возмещении убытков по основаниям, предусмотренным ст. 71 Закона об АО, должны обладать статусом акционера на момент совершения правонарушения, иначе принадлежащие им права участника нарушенными не считаются[50 - №А32-17725/2010. См., напр., Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 января 2007 года № 09АП-17212/2006-ГК по делу № А40^14424/06-81-223].
Вместе с тем, в постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 62 содержится иной подход: «Арбитражным судам следует учитывать, что участник, обращающийся с иском о возмещении директором убытков, действует в интересах юридического лица. В связи с этим не является основанием для отказа в удовлетворении иска тот факт, что истец на момент совершения директором действий (бездействия), повлекших для юридического лица убытки, или на момент непосредственного возникновения убытков не был участником юридического лица» (и. 7).
Как видно, документ предполагает, что любой участник вправе предъявить требование о возмещении убытков вне зависимости от того, был ли он участником на момент совершения действий или нет.
Такая позиция Высшего Арбитражного Суда РФ, на наш взгляд, заслуживает одобрения, поскольку в результате неправомерных действий членов органов управления негативные имущественные последствия возникают как для участника, который имел такой статус в момент причинения обществу убытков, как и для участника, ставшего таковым после.
Правовая природа актов коллегиальных органов корпорации
Юрий Дмитриев-Ильин
Магистрант юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Введение
В связи со включением в предмет гражданско-правового регулирования корпоративных отношений (п. 1 ст. 2 ГК РФ), а также законодательного признания решений собраний как самостоятельных юридических фактов, в научной общественности с новой силой разгорелась дискуссия относительно правовой природы актов коллегиальных органов корпорации.
Целью настоящей статьи является выяснение правовой природы актов коллегиальных органов корпорации. Автор ставит своей задачей не просто доказать признание за актами коллегиальных органов корпорации значения самостоятельных юридических фактов (тем более, что данное обстоятельство уже нашло свое отражение в действующем гражданском законодательстве), но и попытаться выявить конституирующие признаки этих актов, определить их место в системе оснований возникновения гражданских прав и обязанностей.
В процессе работы над данной статьей изучению подлежат взгляды ученых-юристов на рассматриваемую проблему (доктрина), соответствующие законодательство и судебная практика.
По мнению автора собственно корпоративными актами являются только акты коллегиальных органов корпорации, обладающие рядом отличительных признаков, позволяющих отграничить их как от сделок, так и от источников права.
Вопросы, освещаемые в статье, обусловлены предметом исследования и в конечном итоге сводятся к анализу следующих основных точек зрения на правовую природу корпоративных актов:
– корпоративные акты как сделки (многосторонние, односторонние);
– корпоративные акты как источники права (локальные нормативные акты);
– корпоративные акты как самостоятельные юридические факты (выводы).
Корпоративные акты как сделки (многосторонние, односторонние)
Среди специалистов нет единого мнения относительно природы корпоративных актов. В юридической литературе широкое распространение получило понимание таких актов как разновидности сделок (многосторонних либо односторонних). Главным образом, данной концепции придерживаются представители науки гражданского права, следуя известному принципу бритвы Оккама «не следует умножать сущности без необходимости» и пытаясь применять старое, достаточно давно разработанное и отшлифованное в цивилистике понятие сделки к относительно новому правовому явлению – корпоративным актам.
Такой подход известен в правовой науке как «субсуммирование» нового правового явления в одну из известных, устоявшихся категорий с целью его признания действующим правопорядком. По этому поводу, применительно к акционерным компаниям, писал еще известный дореволюционный ученый-правовед И.Т.Тарасов: «…правовые отношения, вырабатывающиеся в акционерных компаниях, следует очень осторожно подводить под известные старые юридические построения, имея в виду, что новые формы предприятий вызывают и новые юридические отношения»[51 - Тарасов И.Т.Учение об акционерных компаниях. М.: Статут, 2000. С. 412.].
В целом, концепции, объясняющие правовую природу актов коллегиальных органов корпорации через призму гражданско-правовых сделок можно подразделить на концепции, признающие за указанными актами качества: 1) многосторонних или 2) односторонних сделок.
В первом случае участниками сделки становятся сами акционеры (участники) корпорации, действующие в рамках соответствующего коллегиального органа управления, тогда как с точки зрения авторов второй концепции лицом, совершающим сделку признается сама корпорация, действующая через свои коллегиальные органы управления.
При характеристике корпоративных актов как гражданско-правовых сделок иногда прибегают к различного рода модификациям, добавляя дополнительные признаки, характеризующие эти акты как определенную разновидность сделок, условно называемую корпоративные сделки[52 - См., например.: Козлова Н.В.Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005.С. 115, 384–387,403^404. Степанов Д.И.Устав как форма сделки// Вестник гражданского права. 2009. Т. 9. № 1. С. 4–62.].
Так, по мнению Н.В.Козловой, корпоративные акты, принимаемые коллегиальными органами организации следует считать многосторонней гражданско-правовой корпоративной сделкой. При этом понятие корпоративной сделки охватывает собой и трудовые отношения (например, коллективный договор)[53 - Козлова Н.В.Гражданско-правовой статус органов юридического лица. С. 53, 55–56.], а субъектами, ее совершающими, являются физические лица, образующие коллегиальный орган юридического лица[54 - Козлова Н.В.Правосубъектность юридического лица//СПС «КонсультантПлюс».].
Специфику гражданско-правовой многосторонней корпоративной сделки указанный автор видит в том, что она может создавать корпоративные права и обязанности для акционерного общества и акционеров даже в тех случаях, когда отдельные акционеры не принимали участия в совершении сделки или выступили против ее совершения[55 - Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица по российскому гражданскому праву: Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2004. С. 13.].
Д. И. Степанов также придерживается мнения, что корпоративные акты – суть разновидность сделок, отводя им место вида в соотношении с родом, которым в данном случае не перестает оставаться ранее известная идея, и пишет по этому поводу: «Видимо, все же на самостоятельную группу (род или тип) рассматриваемые юридические факты, что называются, не тянут, поскольку какого-либо глубинного и сущностного различия со сделками как разработанной категорией науки гражданского права корпоративные акты, принимаемые единогласно, не обнаруживают. Максимум, на что можно в таком случае пойти, это прибавить предикат корпоративности и вести речь о корпоративных сделках <17>, имея в виду указание на соотнесенность таких сделок со сферой корпоративного»[56 - Степанов Д.И.Устав как форма сделки// Вестник гражданского права. 2009. Т. 9. № 1. С. 4-62.].
Следует отметить, что признавая за корпоративными актами наличие таких признаков как обязательность подобных актов для других лиц или отсутствие у собрания участников свойства самостоятельного субъекта права, Д. И. Степанов отрицает их конституирующее значение для признания этих актов в качестве самостоятельных юридических фактов и считает, что в данном случае «… можно вполне обойтись общим понятием сделки как универсального юридического факта, в конструкцию которого включаются правомерность, волевой характер и изначально присутствующая в идее сделки нацеленность на достижение правового результата»[57 - Степанов Д.И.Там же.].
В целом, данный автор отрицает конституирующее значение принципа единогласия (согласования воль) для совершешья многосторонней сделки, указав при этом, что такая ситуация является скорее исключением, чрезвычайно редко встречающимся на практике. В обоснование своей позиции Д.И. Степанов ссылается на цивилистов, обеспечивавших, по его мнению, преемственность традиций от дореволюционного гражданского права к праву советского периода, в частности, И.С.Перетерского[58 - Перетерский И.С.Гражданский кодекс РСФСР. Сделки. Договоры. Вып. V. Институт советского права, РАНИОН. М.: Юридическое издательство НКЮ РСФСР, 1929. С. 8.], допускавшего такого рода отклонения от общего правила, а также на опыт зарубежной доктрины и иностранных правопорядков[59 - Подавляющее большинство арбитражных судов не рассматривает решения органов управления в качестве сделки. См. напр.: постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21 февраля 2001 г. по делу № КГ-А40/458-01; постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 октября 2003 г. по делу №Ф04/5420-945/А75-2003, постановление Президиума ВАС РФ от 27 апреля 2010 г. № 67/10 по делу №А40-13353/09-158-149//СПС «КонсултантПлюс».].
Однако, на наш взгляд, исключения, вопреки распространенному мнению, не подтверждают общего правила, но скорее наоборот, опровергают его, а зарубежный опыт следует с осторожностью применять к отечественным условиям, имея в виду преимущественно национальный характер системы российского права, в том числе и системы частного (гражданского) права.