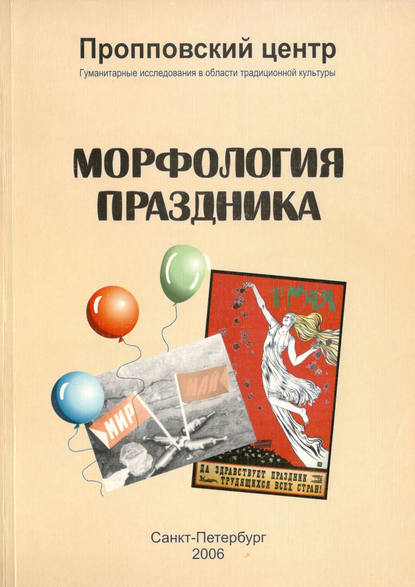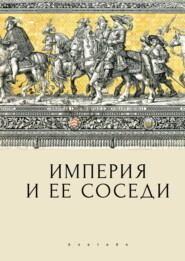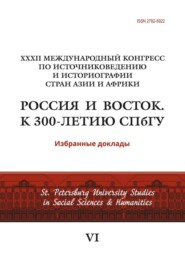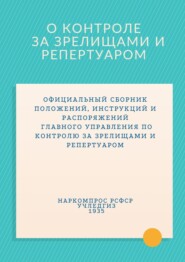По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Морфология праздника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шифман 1987: Шифман И. Ш. Культура древнего Угарита. М., 1987.
Якобсон 1988: Якобсон В. А. Куда Гильгамеш ходил за кедрами? // Древний Восток. Вып. 8. Ереван, 1988.
Angim: Cooper J. S., Bergmann E. An-gim dim
-ma: The Return of Ninurta to Nippur. Rome, 1978.
Annus 2002: Annus A. The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia. Helsinki, 2002.
Behrens, Steible 1983: Behrens H., Steible H. Glossar zu den Altsumerischen Bau- und Weihinschriften. Wiesbaden, 1983.
Cohen 1993: Cohen М. E. The Cultic Calendars of the Ancient Near East. Bethesda, 1993.
Ее: Lambert W. G. Enuma elis. Oxford, 1966.
Laroche 1965: Laroche E. Textes mythologiques hittites en transcription // Revue hittite et asiatique 23 (1965).
Livingstone 1986: Livingstone A. Mystical and Mythological Explanatory Works of Assyrian and Babylonian Scholars. Oxford, 1986.
Lugale: Dijk J. J. A., van. Lugal ud me-lаm-bi nir-gаl; La rеcit еpique et didactique des Travaux de Ninurta du Deluge et de la nouvelle Crеation. 2 vols. Leiden, 1983.
Историческая поэтика: музыкальный язык фольклора как процесс (из ненаписанной главы)
Е. Е. Васильева, В. А. Лапин
Начну с того, что я вынужден вас дважды обмануть. Во-первых, сообщение делается от имени двух авторов (позднее станет понятно, почему). Во-вторых, тема выступления – не совсем та, которая объявлена в программе («Календарно-обрядовые песни и отечественное этномузыкознание»). Я поддался на активный нажим организатора конференции, С. Б. Адоньевой, и предложил самую нейтральную формулировку, которая бы отвечала стержневой теме конференции и, в то же время, ответила на крик души С. В. (в том смысле, что просто расскажите, что у вас, музыкантов, делается в этой области – мы же здесь, на филфаке, ничего об этом не знаем!).
Дав обещание, я стал примеряться к теме выступления с разных сторон и скоро понял, что не могу справиться с этим заданием в регламенте доклада. Мало того, что календарно-обрядовая песенность в той или иной мере присутствует в сфере научных интересов большинства научных этномузыкологических центров России и соответствующих вузовских кафедр и лабораторий. Появились основательные исследования, в которых отчетливо сказывается воздействие идей и метода В.Я. Проппа, предложенных в «Русских аграрных праздниках». Нужно было бы рассказать о монографии И.И. Земцовского, в которой автор, ученик В.Я. Проппа, попробовал повторить опыт своего учителя на музыкальном, главным образом, восточнославянском материале [Земцовский]. (Показательно уже название введения книги – «Календарные песни как цикл»). Нужно было бы рассказать об авторах, которые, в известной мере отталкиваясь от идей В.Я. Проппа, исследовали фольклорно-обрядовые комплексы отдельных праздников, например, [Бернштам, Лапин], [Тавлай]. Сравнительно недавно О.А. Пашина защитила в качестве докторской диссертации исследование, в значительной степени опирающееся на концепцию В.Я. Проппа [Пашина]. Нужно было бы рассказать о методиках экспедиционо-полевых исследований и о принципах подготовки фундаментальных региональных публикаций или крупных сводов календарно-обрядового фольклора Псковщины и Смоленщины (подготовленные, соответственно, фольклористами Петербургской консерватории и Академии музыки им. Гнесиных) [Традиционная музыка русского Поозерья], [Народная традиционная культура Псковской области], [Смоленский музыкально-этнографический сборник] и т. д. Очевидно, что это тема даже не для лекции, а для небольшого лекционного спецкурса.
Тогда я вновь перелистал, а кое-что внимательно перечитал в «Русских аграрных праздниках» В. Я. Проппа. Вспомнил и обдумал наши недавние методологически ожесточенные (но психологически вполне дружеские!) баталии с нашими московскими коллегами-соавторами. И я понял, о чем нужно вам рассказать.
Цель всякой науки – описание своего объекта, рассматриваемого и изучаемого в различных связях, поворотах, в изменяющихся пропорциях и объеме. Для этого необходим специальный язык – язык научного описания, который наука постепенно вырабатывает в общении со своим предметом. Все части этих отношений подвижны: меняются со временем точки зрения, меняется сам предмет, объем сведений об объекте изучения; меняется отношение к смежным научным дисциплинам. Соответственно и язык науки постепенно трансформируется и переоформляется, заимствуя и изобретая, удерживая одни элементы и отказываясь от других.
Может показаться несколько неожиданным то, что к настоящему времени наука о музыкальном фольклоре в наибольшей степени освоила междисциплинарные аспекты, граничащие:
с этнографией – функциональный контекст бытования, этнографическая реальность поэтики некоторых жанров в целом и конкретных локальных традиций как формы жизни фольклора, обрядовая музыкальная драматургия и т. д.;
с диалектологией – опыты выявления ареалов отдельных фольклорных явлений и их картографирование;
с историей, археологией и этнолингвистикой – попытки соотнесения некоторых музыкально-фольклорных ареалов с этноплеменным членением восточных славян; выявление ареала восточнославянской архаики (школа Н. И. Толстого); соотнесение данных музыкальной фольклористики с невероятно устойчивыми во времени очертаниями «историко-культурных зон» [Герд, Лебедев, 1999, 2001] и др.;
со структурной лингвистикой и этнологией – опыты построения музыкально-структурных типологий разного масштаба.
В то же время перед музыкальной фольклористикой остается открытой задача осмысления общих закономерностей традиционного музыкального мышления. Оно проявляется в непрерывном потоке повторяемых и одновременно обновляющихся текстов (это фундаментальное свойство традиции). Но традиционное музыкальное мышление не предполагает саморефлексии (во всяком случае, в русском фольклоре), не описывает себя самое, поэтому одну из важнейших задач науки о музыкальном фольклоре в самом общем плане можно определить как необходимость дополнить внутреннее, имманентное бытие фольклора его осмыслением, не вступая с ним в противоречие.
Если мы представим себе многократно возникающий в рассуждениях о традиционной культуре образ череды поколений, то наш путь (восхождение к пониманию фольклора) окажется кратким частным опытом общего нерасчленимого движения, а фольклор в целом откроется как некий процесс, медлительный и в масштабах своего времени несоизмеримый с единичным сознанием – разве что с самосознанием этноса. Что можно поставить рядом с этим самодвижущимся явлением, чему уподобить – кроме языка?!
Значит, сокровенная суть, которую мы должны постичь, входя в область музыкального фольклора, накапливая и пополняя фактический материал, набираясь слухового опыта и осваивая приемы аналитического описания – это музыкально-поэтический язык фольклора и формирующее его музыкальное мышление. Разумеется, становление традиционного музыкального мышления и поэтической системы взаимосвязаны и переплетены между собой, но мы обязаны рассматривать этот процесс со своей стороны, с позиции музыкантов.
Процесс жизни музыкально-фольклорной традиции состоит из множества параллельных рядов, бесконечных повторов, переплетений, смещений, изменений и трансформаций. И потому бессмысленно претендовать на то, что его становление можно описать последовательно и исчерпывающим образом. Традиционное музыкальное мышление как сложное процессуальное целое не поддается словесному описанию, но, анализируя и сопоставляя музыкальные тексты, мы можем пережить реальность этого процесса в разных масштабах: в единичном исполнительском акте одного певца или сложившегося певческого ансамбля; в музыкальной драматургии обрядовой формы или крупной песенно-хороводно-игровой композиции молодежной беседы или Троицких гуляний; в долговременном действии жанрово-стилевой доминанты локальной традиции, своеобразно формирующей или переформирующей ее жанрово-стилевую систему; наконец, в соотношении стадиально разных слоев фольклора.
В каждом из этих масштабов – своя работа, свои методики. Подобных опытов и более или менее проработанных частных методик в фольклористической литературе множество. Но в конечном итоге самой общей задачей остается, с одной стороны, поиск соотношения целого и его частей, распределение материала по группам нескольких соотнесенных уровней, но в пределах заданного целого; с другой – определение некоторых крупных вех, с помощью которых можно было бы разметить путь исторического формирования и развития традиционного музыкально-песенного мышления и системы музыкального фольклора в целом. Эту, самую сложную и «вечную» проблему помогает решать логическая классификация.
До сих пор в русскую музыкальную фольклористику включаются целые пласты прежде неизвестных или незамеченных, неосмысленных фактов. Фольклорные экспедиции открывают новые песенные традиции или восполняют представление об уже известных; в поле зрения активно входят явления, которые прежде вообще не принято было включать в область музыкального фольклора. Обозначим хотя бы три новые позиции, активно осознанные этномузыкознанием в последнее десятилетие:
1) полноценная фольклорная жизнь канонических богослужебных песнопений, в частности, пасхального и рождественского тропарей – в традиционной многоголосно-вариантной фактуре, с новым хронотопом функционирования и т. д.[29 - Назовем прежде всего как одну из первых публикаций исследование: [Енговатова].];
2) вокальные бестекстовые мелодии-сигналы ((а)уканья), которые долго и тщательно собирал и исследовал М. А. Лобанов [Лобанов];
3) весь спектр звукопроизводства и звукотворчества детей – фундаментальное исследование Т. И. Калужниковой, с большим приложением, в которое вошли виртуозно выполненные автором нотации звукозаписей, сделанных ею от детей в возрасте от 2,5 до 10 лет[30 - [Калужникова]. Работа недавно защищена в качестве докторской диссертации.].
Наконец, только-только начала приоткрываться огромная сфера «рукописных песенников» (в том числе нотных) и запечатленная ими устно-письменная песенная культура XVII–XVIII вв. Тут, кроме частных статей, нужно назвать два основательных тома впервые публикуемых материалов [Рукописный песенник XVIII века], [Русские канты от Петра Великого до Елизаветы Петровны], см. также: [Васильева, Лапин: 290–314].
Какой же должна быть наука, способная вмещать этот поток новых материалов и отзываться на него, сохраняя свою цельность? Освоенные музыкально-этнографические подходы помогают понять, в каких обстоятельствах живут музыкально-поэтические тексты, какие потребности их порождали и что вызывает их к жизни снова и снова. Благодаря долгой работе собирания, сопоставления материалов становится понятным развертывание локальных песенных традиций в пространстве и их своеобразие. Представление об особенном, вариантном способе существования фольклорного текста постепенно переросло в понимание множественной его природы. Наконец, в рамках локально-регионального подхода сложился метод системного описания музыкально-фольклорного материала в широком обрядово-этнографическом контексте и одновременно в форме структурной типологии. Так выполнено уже упомянутое, на наш взгляд, лучшее сейчас издание подобного типа «Смоленский музыкально-этнографический сборник», подготовленный группой московских этномузыкологов школы Е. В. Гиппиуса.
Такой подход по отношению к русской обрядовой песенности очевидно и плодотворно объединяет методологические принципы В.Я. Проппа, идущие от «Русских аграрных праздников», и музыкально-аналитический структурно-типологический метод, разработанный Е. В. Гиппиусом.
Этот же подход представлен в новом вузовском учебнике по русскому народному музыкальному творчеству, который только что вышел из печати [Народное музыкальное творчество]. Поэтому я не буду сейчас останавливаться на нем подробно (в тайне надеясь, что кто-нибудь из любознательных слушателей в него заглянет). Замечу лишь, что этот комплексный подход не только позволяет охватить множество близких, однородных явлений и обосновать регулирующие их жизнь закономерности как изменчивые и вместе с тем устойчивые связи, но и, казалось бы, естественно перейти к более широким и общим проблемам. Однако тут-то и возникают новые трудности. И поскольку нам с Е. Е. Васильевой, как членам авторского коллектива названного учебника, не удалось преодолеть некоторые из подобного рода трудностей, то далее вашему вниманию предлагается эскиз основных положений той главы, которая не вошла в структуру учебника и потому не была написана.
Как остроумно заметила в свое время Л. С. Мухаринская, одна из ветеранов современной белорусской этномузыкологии, при региональных исследованиях возникают такие вопросы, «на которые мы либо вовсе не умеем ответить, либо отвечаем как бы по слогам и немного заикаясь» [Мухаринская: 262]. В самом деле, смоленская весенняя закличка, вологодское причитание, мезенская старина, белгородская протяжная или историческая песня донских казаков – где, на каком уровне они встречаются и соединяются в предмете науки и в объеме познающего сознания? Чем больше мы знаем и любим конкретные произведения устной песенной традиции, чем ярче выявляется неповторимое своеобразие каждой локальной или региональной традиции, тем более сложным и в то же время неизбежным становится этот вопрос. И тогда далее – что такое русский музыкальный фольклор как целое, вмещающее такие разные вещи? Мыслимо ли представить его в образе дерева, корни, ствол и крона которого не знают друг друга, хотя живут только в единстве?
20 лет назад, размышляя над феноменом локальной традиции как категорией традиционной музыкальной культуры, один из авторов предложил следующую исходную общую формулировку: «…русский музыкальный фольклор в целом предстает системой локальных традиций разного масштаба и исторической глубины, разных уровней местной специфики и национальной общности» [Лапин 1995: 4]. Теперь настало время отойти от проблематики внешней, объективной истории, внешней по отношению к фольклору, и поразмышлять над историей внутренней, имманентной жизни самого музыкального фольклора, т. е. историей его собственного музыкального языка.
Кажется уже предосудительным обращаться в качестве аналогии к древнегреческой античной триаде, ставшей моделью западноевропейской эстетики, – так много приняла она в себя всякого рода дополнительных толкований и переносных значений. Но все же именно в триаде эпос-лирика-драма мы находим логическую возможность сопоставления видов фольклора как возрастов или стадий его жизни.
Разумеется, сопоставление с античным искусством возможно лишь в самом общем плане. Русский фольклор располагает большим числом членов, которые не удается свести к античной триаде. Не случайно В.Я. Пропп в «Русских аграрных праздниках» не один раз подчеркивает, что система фольклорных жанров, связанных с календарными ритуалами восточных славян, стадиально гораздо более архаична, чем известная нам античная. Поэтому из названного сопоставления возьмем сейчас на заметку только одну общую мысль: виды фольклора возникают не одновременно; они наследуют один другому, не теряя ничего из уже выработанного языком и сознанием достояния. Собственно, фактические утраты должны быть, конечно, неисчислимы, но поскольку в живом процессе остается только живущее, мы никогда не узнаем того, что было окончательно забыто. Вспомним ставшее классическим определение, которое замечательный английский этномузыколог С. Шарп (S. Sharp) дал еще в 1907 году и которое полвека спустя легло в основу международного определения фольклора, принятого ЮНЕСКО. Согласно Шарпу, музыкальный фольклор есть продукт устной традиции, которая определяется тремя факторами – непрерывностью (преемственностью), вариантностью (изменчивостью) и избирательностью (отбором среды). Понятно, что потери, часто необратимые, относятся на счет отбора. С этим нужно не просто смириться, но принять как неизбежное проявление ограниченности нашего научного познания.
Обобщения о фольклоре мы всегда делаем со стороны, с позиции наблюдателя. Народная терминология, фиксирующая внимание к некоторым явлениям певческой культуры и обрядовой жизни, чрезвычайно важна для фольклористики, но сама по себе не составляет единой системы и существует фрагментарно внутри определенных локальных традиций[31 - Назовем недавний и, на наш взгляд, самый удачный опыт, выполненный на материале донской казачьей традиции: [Рудиченко].]. Эта живая система не выработала собственной аутентичной теории, она, надо полагать, и не нуждалась в целостном самоописании, в саморефлексии и в дополнительном самоутверждении. Даже рассказы носителей традиции оказываются лишь материалом для выстроенной исследователем картины – полнота представлений опытной хороводницы или свадебной песняхорки не может уместиться в рассказе, она во всей ее жизни и в личном, индивидуальном опыте. Значит, вопрос заключается прежде всего в том, из какой посылки строить общую картину фольклора.
Опираясь на представления о фольклоре как процессе и его бытии как особенной жизни, сопоставимой с жизнью языка, попробуем выстроить наши рассуждения в виде стадиально-иерархической классификации. Уточним, что при таком подходе классификация не должна рассматриваться только как способ того или иного упорядочивания материала, его систематизации. Она должна стать одним из важнейших орудий исследования фольклора как целостной, живой и действенной системы. Конечно, мы вынуждены входить в плоть традиционного фольклора со своим современным сознанием, памятью, навыками, сложившимися вне его, в других системах. Но выбора у нас нет – мы должны войти в систему языка фольклора. Потому что только тогда его собственная история начнет приобретать определенные очертания; только тогда может становиться доступной внутренняя, собственная жизнь фольклора, соотносимая с неоднозначным, разнонаправленным, медлительным, но все же ощутимым движением музыкального мышления, запечатленным его многообразными формами. Крупные разделы классификации должны быть осознаны как вехи исторического развития русского музыкального фольклора. И как ступени нашего пути к нему и к его постижению.
Не затрагиваем сейчас историю вопроса и существующие опыты классификаций всего русского фольклора (В. Я. Пропп, В. Е. Гусев, В.Н. Аникин и др.) – думаем, что такая сквозная классификация в принципе едва ли возможна. Точно также не будем касаться истории многочисленных обсуждений этой проблемы в этномузыковедении. Остановимся только на немногих ключевых категориях и понятиях нашего подхода, чтобы обозначить некоторые ориентиры в этой сложной и достаточно запутанной проблеме.
Итак, за исходную позицию принимается предложение Е. В. Гиппиуса делить весь русский музыкальный фольклор на два рода – обрядовый фольклор и необрядовый фольклор. Следующие уровни классификации – виды и жанры музыкального фольклора.
Вид – стадиально-историческая категория, по сумме важнейших признаков объединяющая некоторую совокупность музыкально-песенных жанров. Например: вид – песенно-повествовательный фольклор (эпос в широком значении); образующие его жанры – былины, духовные стихи, скоморошины, баллады, исторические песни. В классификационном плане можно сказать, что вид образует определенная система жанров. В историко-процессуальном плане – вид развертывается во времени и пространстве, развиваясь в систему жанров.
Жанр – термин и понятие принадлежат как логической, так и феноменологической внутривидовой классификации. Несколько переформулируя Е. В. Гиппиуса, можно предложить следующее определение. Жанр – это некоторая совокупность фольклорных текстов, образно-поэтическое содержание и структура которых типизированы определенной функцией. Следуя этому определению, можно выделять жанр как категорию песенного фольклора разного объема, как внутри определенной локальной традиции, так и в пределах взаимосвязанной обрядовой системы (календарь или жизненный цикл) и в объеме всего корпуса песенного фольклора. Однако последнее представляет наибольшую трудность, так как в связи с различной структурой и объемом локальных песенных традиций очертания жанра становятся менее определенными, поскольку жанры в разных традициях взаимодействуют, трансформируются, функционально взаимозаменяют друг друга и т. д. (Поэтому, в частности, в систематике школы Е.В. Гиппиуса приняты дифференцирующие уточнения – обрядово приуроченные и неприуроченные жанры).
Вовсе не претендуя на единственное и окончательное решение проблемы, предлагаем далее рабочую таблицу жанрово-видового состава основного, классического корпуса русского музыкального фольклора.
Русский музыкальный фольклор
Каждый вид песенного фольклора стремится в пределе к максимально полному моделированию и толкованию своими поэтическими и выразительными средствами целостной картины мира, как она существует на данной стадии развития в коллективных представлениях социума. Вид – определенная стадия развития фольклора в целом и как таковая поддается общему классификационному обобщению. В то же время вид разворачивается во времени – развиваясь в систему жанров, и в пространстве – реализуясь в специфических локально-региональных жанровых системах. Отсюда следует несколько существенных выводов.
Во-первых, периоды продуктивного развития тех или иных жанров как будто скользят внутри вида, меняя общий рельеф его функционирования в целом.
Во-вторых, продуктивно развивающийся жанр словно втягивает в себя или во взаимодействие с собой другие жанры внутри вида, а иногда и выходя за пределы своего вида.