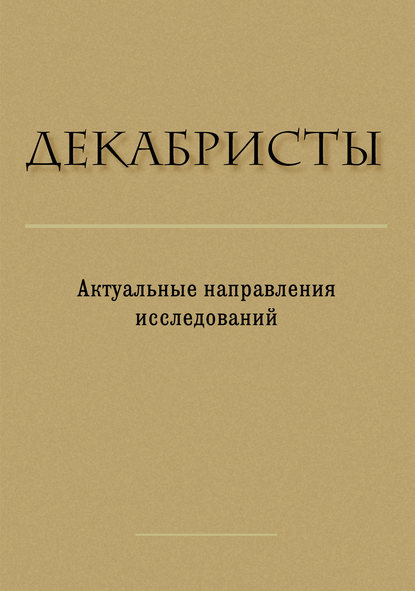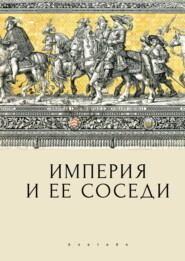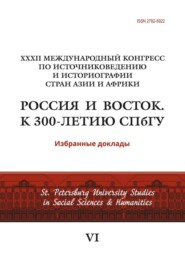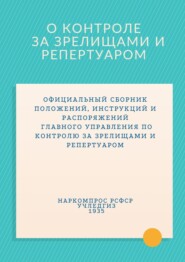По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Декабристы. Актуальные направления исследований
Автор
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ожидание скорого введения русской конституции, отношение к представительному образу правления как гарантии мирного и быстрого развития страны обусловили внимание писателя к историческим примерам, подтверждавшим его убеждения. И в «Записной книжке» П.?А. Вяземского – общепризнанном источнике по истории либеральной общественной мысли 1800-х – 1850-х гг. – около 1820 г. появилась следующая запись: «Феопомпий, спартанский царь, первый присоединил эфоров к правлению государственному; испуганное его семейство, говорит Аристотель, укоряло его в ослаблении могущества, предоставленного ему предками. “Нет, – отвечал он – я передам его еще в большей силе преемникам, потому что оно будет надежнее”»[74 - Вяземский П.?А. Записные книжки (1813–1848). М., 1963. С. 32.]. Возможно, этот рассказ о Феопомпе заимствован Вяземским через посредство французских либеральных публицистов времен Реставрации, например Б. Констана, хотя нельзя полностью исключать и вероятность непосредственного знакомства поэта с текстами Аристотеля, Плутарха или Валерия Максима. В то же время лаконичность записи арзамасца явно контрастирует с многословием Г. Мабли, чье сочинение в данном случае не оказало влияния на «Записные книжки». В любом случае, эта запись Вяземского показывает, что доводы Феопомпа, точнее, Аристотеля, В. Максима и Плутарха в пользу ограничения царской власти находили живой отклик в среде русских конституционалистов царствования Александра I.
Необходимо, однако, указать на существование в эпоху формирования тайных обществ иной, охранительной, интерпретации истории Спарты. Это государство рассматривалось уже не как пример для подражания, а как негативный пример. Эфорат рисовался сплошными черными красками, а ограничение царской власти оценивалось как результат антинародного заговора аристократии.
Особенно четко подобная тенденция прослеживается в составленном И.?К. Кайдановым в середине 1810-х гг. учебнике древней истории. Особенно важно, что это издание было составлено на основе лекций, прочитанных знаменитому первому выпуску Царскосельского лицея. Раздел учебника, посвященный Спарте, носил резко полемический характер по отношению к ее просветительской идеализации: «Спартанцы унизились до зверского состояния[75 - Кайданов И.?К. Основания всеобщей политической истории. Ч. 1. Древняя история. СПб.: Печатано при Императорской Академии наук, 1814. С. 128.]. <…> Ликург преобразил спартанцев в диких бесчеловечных людей[76 - Там же.]. <…> Мысль о равенстве всех граждан была безрассудна и нимало не делает честь уму сего законодательства[77 - Там же.].<…> Народ вскоре сделался жертвою властолюбия хитрых демагогов. Под видом защищения народной свободы они присвоили себе неограниченную власть над царями, сенатом и народом. Это были эфоры. Учреждение эфоров некоторые приписывают Ликургу, а другие царю Феопомпу»[78 - Там же. С. 130.]. Итак, Кайданов полностью переосмыслил античную традицию. Феопомп из мудрого правителя превратился в слабого государя, отдавшего свою полезную для государства власть в руки демагогов. И в данном случае интерпретация спартанской истории становится инструментом в идеологической борьбе, только уже не против абсолютизма, а за самодержавие. Справедливости ради заметим, что усилия Кайданова по защите устоев российской монархии оказались не вполне удачными, судя по участию в тайных обществах многих и лучших его учеников. Однако подавление восстания 14 декабря 1825 г. не могло не заставить прежних «либералистов» подвергнуть суровому переосмыслению не только свои взгляды на желательное устройство России, но и воззрения на историю античности.
В июле 1830 г. декабрист А.?О. Корнилович направил на имя А.?Х. Бенкендорфа записку, в которой, раскаиваясь в прежних «преступлениях», давал различные рекомендации по улучшению воспитания молодого поколения. Признавая неизбежные несовершенства неограниченных монархий, А.?О. Корнилович всё же отмечал, что «они имеют на своей стороне преимущества, которые, без сомнения, заставят всякого незараженного предрассудками человека предпочесть их всем другим правительствам»[79 - Корнилович А.?О. Записки из Алексеевского равелина. М.: Российский архив, 2004. С. 180.]. Главным препятствием к приобретению таких же взглядов молодежью Корнилович считал отсутствие «беспристрастия» у античных писателей[80 - Там же.]. Бывший декабрист «желал бы, чтоб нас остерегали от заблуждения, в которое они нас приводят; чтоб мы перестали себя обманывать и взирали на их героев, как на героев в романах и трагедиях, которых характеры и речи нам нравятся, восхищают нас, но не производят над нами решительного влияния: ибо мы знаем, что они составлены в воображении автора»[81 - Там же.]. Корнилович не ограничивался общими рассуждениями, а рекомендовал использовать в качестве противоядия античному республиканизму книгу английского торийского историка У. Митфорда “History of Greece”. Автор записки оптимистически пророчествовал, что издание этого исследования на русском языке «принесет ту пользу, что рассеет множество заблуждений, разочарует нашу молодежь насчет древности и ослабит доверие к читаемым у нас классикам»[82 - Там же. С. 181.].
Следует заметить, что в современной Корниловичу английской историографии действительно был распространен скептицизм относительно позитивного влияния античных классиков, особенно Плутарха, на европейские революции. Даже убежденный конституционалист, знаменитый британский историк Т.?Б. Маколей писал в 1832 г., несколько идеализируя опыт своей родины: «Англичане удовлетворялись собственной национальной памятью и своими собственными английскими именами. Они никогда не искали для себя образцы в Древней Греции или Риме. Французы же, не видя в своей истории ничего привлекательного, обратились к великим сообществам древности. Но делали это не по оригинальным сочинениям, а по романтическим вымыслам педантических моралистов, писавших спустя долгое время после исчезновения там свободных обществ. Они предпочли Плутарха Фукидиду. Ослепнув сами, они брали себе слепых поводырей»[83 - Маколей Т.?Б. Истоки Французской революции // Маколей Т.?Б. Англия и Европа. Избранные эссе. СПб.: Алетейя, 2001. С. 189.].
Т.?Б. Маколей обратил внимание на важную особенность ссылок на античный опыт в европейской традиции вообще и в российской общественной мысли в частности – ориентацию не на древних историков, а на моралистов и философов, воспринимавших исторический процесс лишь как повод для цитирования и сочинения поучительных сентенций, подобных апокрифической фразе Феопомпа.
Нам не удалось обнаружить следов влияния рекомендаций А.?О. Корниловича на историческую литературу николаевского царствования. Парадоксально, но в учебных изданиях той, как принято считать, консервативно-охранительной поры отношение к ограничению власти спартанских царей значительно более толерантно, чем в курсе И.?К. Кайданова, составленном в эпоху преобладания конституционалистских настроений. Так, в пришедшем в 1840 г. на смену кайдановскому руководству учебнике древней истории С.?Н. Смарагдова не только восхвалялось «взаимное ограничение властей государственных» в Спарте[84 - Смарагдов С.?Н. Руководство к познанию древней истории для средних учебных заведений. СПб.: Иждивением С.-Петербургского Воспитательного дома, 1840. С. 167.], но и заявлялось, что «до тех пор, пока спартанцы исполняли законы его <Ликурга. – Л.Г.>, государство их наслаждалось миром и спокойствием внутри»[85 - Там же. С. 171.]. Таким образом, Смарагдов возвращался на уже проторенную дорогу апологетики «спасительного ограничения царской власти» в Спарте Ликургом и Феопомпом.
Время правления Николая I отличалось слабым распространением конституционалистских идей, что объяснялось отнюдь не только цензурными запретами. Ослаблению антиабсолютистских настроений в русском обществе способствовали вера в то, что только самодержавие способно положить конец крепостному праву, разочарование в западноевропейском либерализме и общее предпочтение социальных реформ политическим. По-видимому, этим и объясняется отсутствие в русской публицистике той эпохи упоминаний о диалоге Феопомпа с женой. Но с началом нового царствования ситуация изменилась.
В пореформенной России значительно улучшились цензурные условия для научной литературы, стали печататься исторические книги западных авторов либерального и радикального направлений, которые воспринимались как своеобразные учебники политики. Особое значение среди них получила переведенная под редакцией Н.?Г. Чернышевского многотомная «Всемирная история» немецкого либерала Ф.?К. Шлоссера. Ее роль в формировании исторических взглядов русских демократов-разночинцев достаточно изучена[86 - Володин А.?И., Карякин Ю.?Ф., Плимак Е.?Г. Чернышевский или Нечаев? О подлинной и мнимой революционности в освободительном движении России 50–60-х годов XIX века. М., 1976. С. 65–90.]. Для нас же важно, что Шлоссер ясно высказал свое отношение к политической реформе Феопомпа. Германский автор намеренно не включал в текст книги исторические анекдоты, наподобие разговора спартанского царя с женой, не только из-за стремления к большей серьезности, но и поскольку эти рассказы были известны немецкому читателю, хорошо знакомому с сочинениями Плутарха. Вместе с тем Феопомпу посвящен достаточно интересный отрывок Шлоссера: «Влияние эфоров начало возрастать через сто тридцать лет после Ликурга, когда, по предложению царя Теопомпа, их сделали царскими наместниками на время отсутствие царей. С этого времени эфоры, подобно народным трибунам Рима, стали чисто демократическим учреждением и выступали как представители прав народа против царей и сената»[87 - Шлоссер Ф.?К. Всемирная история. Т. 1. СПб.: А. Серно-Соловьевич, 1861. С. 288.]. Итак, Шлоссер, в своей интерпретации реформы Феопомпа, четко следовал античным авторам. Как и они, он сближал эфоров с народными трибунами и подчеркивал народный характер эфората. Феопомп у Шлоссера оказывался преобразователем государственного устройства Спарты в демократическом духе. Такой спартанский царь не мог не вызвать симпатии и у редактора русского издания «Всемирной истории» – Чернышевского, и у последователей автора «Что делать?». И рассказы о реформах Феопомпа были как нельзя кстати во время напряженной общественной борьбы в годы «великих реформ».
В конце 1860 г. журнал «Русское слово», близкий по своему направлению к «Современнику» Н.?Г. Чернышевского и не скрывавший сочувствия к конституционным идеям, начал печатать в качестве приложения отрывки из «Истории Греции» Дж. Грота. Это сочинение считалось в тот период классическим трудом по изучению античности не только из-за своей несомненной научной ценности, но и по причине политической направленности многотомного исследования. Его автор «принадлежал не только к философским радикалам… но и к политическим. Грот питал особенную любовь к республике»[88 - Бузескул В.?П. Введение в историю Греции. Обзор источников и очерк разработки греческой истории в XIX и в начале XX в. СПб.: Издательский дом «Коло», 2005. С. 337.]. Целью Грота была реабилитация афинской демократии, вопреки нападкам английских торийских исследователей. Как отмечалось в литературе, «несмотря на свой радикализм, Дж. Грот типичный английский либерал своего времени. Он полагал, что достаточно создать либеральные учреждения – и социальные беды будут устранены»[89 - Хвостов М.?М. История Греции: курс лекций. М., 2007. С. 31.]. Для Грота, как, впрочем, и для его консервативных оппонентов, история античности оставалась «политикой, опрокинутой в прошлое». Он сознательно противопоставлял свой труд книге У. Митфорда, которую А.?О. Корнилович в свое время призывал использовать в охранительных целях. Понятно, что перевод отрывка из книги Грота, посвященного развитию греческих политических институтов, имел политический оттенок. К тому же, эта часть «Истории Греции» печаталась под одной обложкой с явно «неблагонамеренными» статьями авторов «Русского слова», в котором именно тогда начинал сотрудничать высоко ценивший Грота[90 - Писарев Д.?И. Наша университетская наука // Писарев Д.?И. Полное собрание сочинений и писем в 12 томах. Т. 5. М.: Наука, 2002. С. 22.] «пророк молодого поколения» Д.?И. Писарев.
Дж. Грот, разумеется, не мог не упомянуть про сентенцию Феопомпа, которая идеально подходила для апологии конституционной монархии наподобие английской: «Что власть царей потеряла в обширности, то, по весьма верному изречению царя Феопомпа, она выиграла в прочности»[91 - Грот Дж. Из истории Греции Грота // Русское слово. № 12. 1860. Приложение. С. 3.]. Грот не скрывал, что рассматривал самоограничение царской власти в Спарте как единственное условие ее спасения: «В Спарте, где наследственное царское достоинство было удержано, оно сохранилось с несравненно уменьшенным блеском и влиянием, и, по-видимому, такое своевременное уменьшение значения его было одним из существенных условий сохранения самого существования царской власти»[92 - Там же. Русское слово. № 11. 1860. Приложение. С. 22.]. Нетрудно убедиться, что Грот лишь пересказывает апокрифическую фразу Феопомпа. В условиях, когда революции объяснялись неспособностью властей вовремя ввести конституционные свободы, слова о «своевременном уменьшении» значения царской власти читались отнюдь не как академические рассуждения. Так читатели «Русского слова», основываясь на политически препарированном античном материале, проникались конституционалистскими взглядами.
Вместе с тем в том же самом «Русском слове» в начале 1861 г. появилась совершенно оригинальная интерпретация фразы Феопомпа, ставшая одним из признаков размежевания либералов-конституционалистов с социалистами. Как мы видели, ранее Феопомп подвергался критике исключительно справа, с точки зрения приверженцев абсолютизма, но в канун крестьянской реформы спартанский царь был атакован с достаточно радикальных позиций. Жестко критикуя лидера британских вигов Дж. Росселя за умеренность, редактор «Русского слова» Г.?Е. Благосветлов одобрительно цитировал английского памфлетиста Г. Ритчи: «Его превосходительство <Дж. Россель. – Л.Г.> либеральный государственный человек, но совершенно в том же виде, как спартанский эфор; когда жена обвиняла его за то, что он отказался от половины привилегий своих детей, эфор ответил ей, что он поступил так с намерением, чтоб сохранить для них другую половину»[93 - Благосветлов Г.?Е. Несколько слов по поводу «Отечественных записок» и «Русской речи» // Русское слово. № 4. 1861. С. 21.].
В итоге Россель обвинялся в лицемерии и попытках ценой незначительных уступок сохранить основные привилегии аристократии. Таких радикалов уже не устраивала конституционная монархия и принцип разделения властей. В той схеме государственного устройства, которую предполагали русские революционеры, не было места для компромиссов с имущими классами. Заметим, кстати, что Ритчи (и цитировавший его Благосветлов) явно по памяти излагали античное предание (спартанский царь назван эфором) и существенно его переосмыслили. Они резко критиковали его, как в свое время и И.?К. Кайданов, но не за отказ от абсолютной власти, а за сохранение хоть каких-то полномочий. Как видим, неприятие политических сделок и договоренностей роднило российских революционеров и крайних консерваторов, что видно и на их отношении к анекдоту о царе Лакедемона.
Но, справедливости ради, заметим, что значительно чаще история про Феопомпа трактовалась весьма позитивно, чему способствовал общий политический контекст «эпохи великих реформ».
Начало 1860-х гг. стало для России временем «конституционного кризиса». Этому способствовал не только общий «кризис верхов», но и серьезные перемены политической карты Европы. С 1859 по 1862 г. былые цитадели абсолютизма в Италии и Австрии или прекратили свое существование, или были вынуждены ввести конституцию. Лишь Российская и Османская империи сохранили самодержавный строй, однако лишь немногие верили в его устойчивость. Даже министр внутренних дел России П.?А. Валуев в конце 1861 г. в обширной записке на имя императора писал: «Меньшинство гражданских чинов и войско суть ныне единственные силы, на которые правительство может вполне опираться и которыми оно может вполне располагать»[94 - Записка П.?А. Валуева Александру II «Общий взгляд на положение дел в Империи с точки зрения охранения внутренней безопасности государства» // Судьбы России. Проблемы экономического развития страны в XIX – начале XX вв. Документы и мемуары государственных деятелей. СПб., 2007. С. 134.]. Император с глубокой печалью признал этот вывод «грустной истиной»[95 - Там же.].
Совсем с другим настроением воспринимали временную слабость русского абсолютизма приверженцы «перемены образа правления». Ведущий публицист русского конституционализма, находившийся в эмиграции П.?В. Долгоруков торжествующе констатировал: «Без политических учреждений дельных, без конституции никакая страна в мире не может пользоваться благоденствием, ни даже безопасностью»[96 - Долгоруков П.?В. Правда о России, высказанная князем Петром Долгоруковым. Т. 2. Париж: A. Franck, 1861. С. 264.]. Призывы к императору ввести представительное правление в России сопровождались аргументами о том, что только конституция может сохранить власть династии Романовых и спасти страну от кровавой революции:
«Великорусс» – 1861 г.:
Согласившись на введение конституционного устройства, вы <Александр II. – Л.Г.> только освободите себя от тяготеющего над вами владычества лжи, заменив нынешнее ваше подчинение чистой и полезной покорностью истине… Только правительство, опирающееся на свободную волю самой нации, может совершить те преобразования, без которых Россия подвергнется страшному перевороту. Благоволите, государь, созвать в одной из столиц нашей русской родины… представителей русской нации, чтобы они составили конституцию для России[97 - «Великорусс» № 3 // Чернышевский Н. Г. Письма без адреса. М.: Современник. 1983. С. 314.].
Долгоруков П. В. – 1862 г.: Государь! Подобный порядок вещей не может устоять; он ведет нас к переворотам; он ведет нас, русских, к бедствиям; он ведет Вашу династию к падению и к изгнанию! От Вас зависит, Государь, спасти нас и спасти себя от этих опасностей. <…> Созовите Земскую Думу из выборных людей всего земства; учредите в России представительный образ правления; составьте сообща с Думою Земскою мудрый Государственный Устав… и Вы, Государь, сделаетесь благодетелем России??[98 - Долгоруков П. В. Письмо Императору Александру II // Правдивый. 1862. 27 марта. № 1. С. 4–5.].
Проект адреса петербургского Шахматного клуба (наиболее вероятный автор – Б.?И. Утин) – 1862 г.: Дарование России конституции спасет Россию от тяжких смут и волнений и вместо раздора даст мир и новую жизнь?[99 - Дело Чернышевского. Сборник документов. Саратов, 1968. С. 593.].
Содержание этих заявлений вполне гармонировало с сутью античного анекдота о Феопомпе: ограниченная власть монарха более устойчива, чем самодержавие.
Этой мысли не были чужды и революционеры-народовольцы. В передовой статье их органа, газеты «Народная воля», было напечатано: «Ограничение власти монарха вовсе не есть обессиление власти вообще, как уверяют наши кулацкие публицисты. Напротив, ограничение монархии – это единственное средство для того, чтобы дать власти надлежащую силу и авторитет»[100 - <Л. А. Тихомиров?> < С чего начинать преобразование?> // Народная воля. 1881. 23 октября. № 6. С. 6.]. В данной цитате нетрудно увидеть пересказ, вероятно, опосредованный, античной сентенции о большей долговечности ограниченной монархии в сравнении с абсолютизмом.
И если даже народовольцы оказались под влиянием этой идеи, то еще больший интерес к ней проявили конституционалисты, изучавшие древнегреческую политическую мысль. И в конце 1860-х – 1870-е гг. мы вновь встречаем в либеральной публицистике и исторических сочинениях, явно адресованных современности, имя спартанского царя Феопомпа.
В 1869 г. вышла в свет книга В.?Г. Васильевского, в будущем знаменитого византиниста, посвященная кризису древнегреческой полисной системы. Несмотря на внешнюю академичность темы, автор воспользовался ею для либеральных высказываний по актуальным вопросам современности. Главным идейным лейтмотивом работы стал призыв к своевременным реформам, способным предотвратить революцию: «Крайняя и упорная неподвижность ведет в политической жизни к крайним и разрушительным переворотам»[101 - Васильевский В.?Г. Указ. соч. С. 100.]. Доказательством этого тезиса стал уже известный нам пример: «Сами цари спартанские понимали и прямо высказывали, что, сделав свою власть менее обширною, они сделали ее тем более прочною и долговечною. Было бы большим благом для спартанского государства, если бы в нем всегда господствовал только такой мудрый и умеренный консерватизм. Но этого не было»[102 - Там же. С. 101.].
Итак, «мудрый и умеренный консерватизм» Феопомпа противопоставлен крайнему консерватизму, в итоге, по мнению В.?Г. Васильевского, погубившему Спарту. Сочувствие к конституционализму и обобщенный характер суждений о сути подлинного консерватизма, выходящий за рамки антиковедения, очевидны.
В 1875 г. к теме Феопомпа обратился маститый историк-античник М.?С. Куторга. Итоги своих исследований формирования древнегреческого полиса он поместил на страницах «Русского вестника» – авторитетного журнала, издававшегося М.?Н. Катковым. Хотя редактор издания и отказался от своих прежних конституционалистских воззрений, всё же, в отличие от ежедневных «Московских ведомостей», в объемистом «Русском вестнике» допускалось определенное разнообразие мнений. Этим и воспользовался М.?С. Куторга, чтобы на нескольких страницах статьи выразить восхищение мудростью спартанского преобразователя[103 - Куторга М.?С. Борьба димократии (sic!) с аристократией в древних эллинских республиках пред персидскими войнами // Русский вестник. № 11 (1875). С. 17–25.]. Подобно предшественникам, обращавшимся к данному историческому сюжету, историк указывал на необыкновенную дальновидность Феопомпа, спасшего своей реформой Спарту от революции: «Едва ли можно сомневаться, что Феопомп не только спас, но и возвысил свое отечество, сделав вовремя уступку при виде грозившей опасности»[104 - Там же. С. 17–18.]. Куторга не скрывал восторга перед Феопомпом и впадал в апологетический тон, явно намекая на политическую ситуацию в России середины 1870-х гг.: «Феопомп, знаменитый своими победами над мессенцами, покорением всей Мессении, оказывается не менее знаменитым государственным мужем, ибо своею мудростью и своею дальновидностью он водворил спокойствие в Спарте и приготовил ей первенство между всеми республиками Пелопоннеса»[105 - Там же. С. 19.]. Весьма вероятно, что исследователь тем самым выражал надежду на продолжение «великих реформ» и «увенчание» их здания центральным выборным представительством. Феопомп, таким образом, выглядел как назидательный пример для правителей Российской империи.
Но еще более актуальным оказалось использование имени Феопомпа выдающимся историком-юристом Б.?Н. Чичериным. К началу 1870-х гг. он уже во многом расстался со своей былой верой в реформаторский потенциал самодержавия и в университетском курсе «История политических учений» подробно пересказал рассказ Аристотеля о спартанском царе[106 - Чичерин Б.?Н. История политических учений. Т. 1. СПб.: Издательство РХГА, 2006. С. 86.]. Заметим, что, несмотря на, казалось бы, академичный и подцензурный характер курса, в нем встречались следующие недвусмысленные заявления: «Политическая наука требует свободы. <…> Поэтому государства, в которых утвердилась неограниченная власть, представляют мало пищи для политического мышления»[107 - Там же. с. 404.]. Неслучайно поэтому свидетельство известного экономиста и студента Московского университета И.?И. Янжула: «Мы довольно рано в университете знакомились тогда от Чичерина со всеми выгодными сторонами и важностью для государства представительных учреждений; Чичерин своими серьезными и спокойными лекциями… сделал гораздо больше для пропаганды и популярности среди тогдашних студентов конституционализма, чем все остальные в университете»[108 - Янжул И.?И. Воспоминания о пережитом и виденном в 1864–1909 гг. М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2006. С. 53.]. И среди героев этой чичеринской антисамодержавной пропаганды был царь Феопомп.
В одном из своих неподцензурных сочинений 1870-х гг. уже к тому времени бывший профессор прямо связал легенду о Феопомпе с требованием введения русской конституции. Написанная Б.?Н. Чичериным в 1876 г. и не опубликованная при жизни автора статья «Конституционный вопрос в России» завершалась следующим образом: «В истории народа не может быть более торжественной минуты, как та, когда власть, управлявшая им в течение веков, сросшаяся со всей его жизнью, сознает наконец, что времена переменились, что созрели новые исторические плоды и что пришла пора себе самой положить границы и призвать подданных к участию в государственном управлении. Наступила ли для нас эта пора? Мы убеждены, что мы к этому идем и не теряем надежды видеть воочию то, что доселе представлялось только в смутных мечтаниях. Закончим анекдотом из классической древности. Известно, что спартанский царь Феопомп сам предложил и провел ограничение царской власти эфорами. Когда его жена укоряла его за то, что он власть, завещанную предками, передает умаленной потомкам, царь отвечал: “Не умаленной, ибо более прочной”»[109 - Чичерин Б.?Н. Конституционный вопрос в России // Опыт русского либерализма. Антология. М., 1997. С. 75.]. Очевидна аллюзионность этого текста. Чичерин надеялся, что Александр II последует примеру спартанского царя, поскольку ученый считал реформы сверху самым оптимальным и безболезненным путем развития для страны, и в годы правления Царя-освободителя такие расчеты могли казаться хоть отчасти обоснованными.
К середине 1890-х гг. вера Б.?Н. Чичерина в способность русского абсолютизма к самоограничению значительно ослабла. Политика Александра III и его окружения не могла выглядеть как подготовка страны к конституционным преобразованиям. Историк всё больше и больше страшился за чреватое катаклизмами будущее страны. В конце XIX в. Чичерин издал 3-томный монументальный «Курс государственной науки» – итог эволюции взглядов ученого. В историографии уже анализировалось значение этого труда для пропаганды либерально-конституционалистской политической программы[110 - Китаев В.?А. «Курс государственной науки» Б.?Н. Чичерина как политический документ // Китаев В.?А. XIX век: пути русской мысли. Нижний Новгород, 2008. С. 307–327.]. Особенно же подробные и конкретные рекомендации по важнейшим вопросам российской жизни содержались в 3-й части «Курса…», которая так и называлась: «Политика» и вышла в свет в 1898 г., за 6 лет до смерти ее автора. Именно тогда Чичерин вновь обратился к легенде о Феопомпе. Глубоким пессимизмом и скепсисом веяло от нового обращения к спартанской теме: «Обаяние власти и сопряженные с нею преимущества так велики, интересы лиц, окружающих престол и управляющих государственными делами, так сильны, что решимость изменить существующий порядок вещей составляет весьма редкое исключение. Аристотель в своей “Политике” повествует о спартанском царе Феопомпе, который сам предложил ограничение царской власти эфорами, и когда жена его упрекала за то, что он передает своим детям власть умаленною против той, которую он получил от предков, он с спартанским лаконизмом отвечал: нет, ибо более прочною. Но это именно приводится как пример, выходящий из ряда вон. Обыкновенно же подбираются всевозможные доводы для сохранения удобного положения»[111 - Чичерин Б.?Н. Курс государственной науки. Ч. III: Политика. М., 1898. С. 118–119.].
Очевидно, что Чичерин очень желал увидеть на престоле «русского Феопомпа», но не мог отождествить с ним реально царствующего Николая II, уже произнесшего речь о «бессмысленных мечтаниях». Последствия же нежелания власти уступить необходимую долю полномочий обществу и подражать легендарному Феопомпу были для Чичерина очевидны: «На деле такого рода политика, недоверчиво смотрящая на всякого рода общественную самостоятельность, в конце концов может породить только смуту. Подготовляемые жизнью перемены ускоряются ошибками правительств»[112 - Там же. С. 119.]. Чичерин, таким образом, уже в третий раз обращался к примеру Феопомпа и умер за год до начала первой русской революции, которая стала проверкой его предсказаний. Таково было эффектное завершение темы «Феопомп и русский конституционализм», поскольку постепенно античные реминисценции стали всё меньше и меньше использоваться в политической борьбе, особенно в левооппозиционной публицистике.
Итак, мы выявили устойчивое использование на протяжении столетия в русских конституционалистских сочинениях – от А.?Н. Радищева до Б.?Н. Чичерина – рассказа Плутарха и особенно Аристотеля о политических реформах Феопомпа. При этом публицистов совершенно не интересовала конкретно-историческая ситуация в Спарте архаического и раннеклассичекого периода, однако им нравился эффектный и запоминающийся афоризм, приписывавшийся Феопомпу традицией. Суть этой сентенции – большая прочность ограниченной монархии по сравнению с самодержавием – полностью соответствовала идеологии русского конституционализма. Именно поэтому не самый известный спартанский царь и стал одним из героев российской либерально-конституционной оппозиции. Отметим, что публицисты использовали рассказ о Феопомпе совершенно независимо друг от друга. Изложение П.?А. Вяземским диалога Феопомпа с женой совершенно не похоже на интерпретацию данного сюжета Г. Мабли, а В.?Г. Васильевский и Б.?Н. Чичерин не читали еще не опубликованных «Записных книжек» П.?А. Вяземского. Все эти авторы самостоятельно обратились к анекдоту из спартанской истории, который удачно вписывался в их политическое мировоззрение.
С некоторыми оговорками можно сказать, что Феопомп Аристотеля, Валерия Максима и Плутарха (историчность которого немногим менее апокрифична, чем его диалог с женой) стал одним из основателей русского конституционалистского дискурса. Сложно сказать, кого именно из трех античных авторов, писавших о спартанском царе, использовали российские авторы, поскольку и Аристотель, и Валерий Максим, и Плутарх излагали этот сюжет совершенно идентично, делая тождественные выводы. Гораздо важнее, как нам представляется, выявить исторический контекст, в котором публицисты обращались к данному эпизоду.
Анекдот о Феопомпе цитировался в те периоды русской истории, когда усиливались конституционалистские настроения, а вера в незыблемость абсолютизма переживала кризис: А.?Н. Радищев – начало 1770-х гг. – увлечение французскими просветителями и написание конституционного проекта Н.?И. Панина – Д.?И. Фонвизина; П.?А. Вяземский – конец 1810-х гг. – эпоха расцвета правительственного и общественного конституционализма; Б.?Н. Чичерин и В.?Г. Васильевский – 1860-е – середина 1890-х гг., когда многим казалось, что вслед за отменой крепостного права последует и отказ от «политического крепостничества». Очевидно, что легенда о Феопомпе и русский конституционализм неразрывно связаны друг с другом.
В целом же нам представляется важным проследить судьбу различных древнегреческих и латинских политических сентенций в русской общественной мысли. Таким образом станет возможным установление круга чтения тех или иных публицистов, эволюции восприятия одних и тех же античных суждений в контексте постоянно меняющихся исторических условий. Идеализированные Древняя Греция и Рим явились, вопреки намерениям охранителей, возлагавших надежды на классическое образование, почвой для развития либеральной и республиканской идеологий Нового времени, в том числе и в России.
Политические идеи декабристов и традиции западного либерализма: проблемы сопоставления
Т.?Н. Жуковская
При всем многообразии политических и идейных воздействий на русское общество в 1810-х – первой половине 1820-х гг., когда складывалась декабристская конспирация, одна тенденция кажется преобладающей: благодаря культурной открытости страны дворянская интеллигенция испытала в то время мощное влияние европейского либерализма.
Либерализм западного типа (английский, французский, в меньшей степени немецкий) стал мощным катализатором российской политической ментальности наравне с национально-освободительными движениями, активизировавшимися в то же время в странах Южной и Центральной Европы. Моментом зрелости идей конституционного/либерального преобразования в России стали программы декабристов. Само выступление 14 декабря 1825 г., которое готовилось как военная революция во избежание революции социальной, можно рассматривать как попытку повторить западный (испанский) опыт политических переворотов под либеральными лозунгами.
В исследовательской литературе до сих пор остается дискуссионным вопрос о характере идейно-политической поляризации русского общества 1810-х – начала 1820-х гг., результатом которой стало складывание первой массовой политической оппозиции власти в лице декабристского «тайного общества»[113 - См. об этом: Андреева Т.?В. Тайные общества в России в первой трети XIX в.: правительственная политика и общественное мнение. СПб.: Лики России, 2009. 912 с. (2-е изд. СПб., 2011).]. Несмотря на появление серьезных обобщающих публикаций по истории политических понятий и политического языка в России XVIII – первой половины XIX в.[114 - См: «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода. Т. 1. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Т. 1–2; Тимофеев Д.?В. Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного российского подданного первой четверти XIX века. Челябинск: Энциклопедия, 2011; Каменев Е.?В. Понятие «закон» в мировоззрении декабристов // Россия XXI. 2013. № 6. С. 74–103; Его же. «Союз Благоденствия»: семантика названия в контексте идеологии // Власть, общество, армия: от Павла I к Александру I. Сборник научных статей / Труды исторического факультета СПбГУ. Вып. XI. СПб., 2013. С. 220–230.], в современной историографии декабризма пока не сложилось единства мнений о том, в каких понятийных, идейных, политических рамках развивалась «идеология декабристов» до момента их выступления на Сенатской площади. Сам конструкт «идеология декабристов» то смешивается исследователями с формами конспирации и практической деятельности, апробированными в 1816–1825 гг., то отождествляется со взглядами отдельных участников тайных обществ, высказанными десятилетия спустя. Еще и сейчас понятие «декабристы» ассоциируется с клише «дворянские революционеры». Причем «революционность» декабристов, которая выразилась в их готовности к политическому перевороту и выборе тактики военной революции, часто прямо проецируется на политические идеалы[115 - См.: Эрлих С.?Е. Декабристы по «понятиям»: определения словарей (1863–1998) // 14 декабря 1825 года. Источники. Исследования. Историография. Библиография. Вып. 2. СПб.; Кишинев, 2000. С. 295–299.
?И. Пестель в своих показаниях говорил о Союзе благоденствия: «Тайное наше общество было революционное с самого начала и во все свое продолжение не переставало никогда быть таковым. Перемены, в нем происходившие, касались собственного его устройства и положительного изъяснения его цели, которая всегда пребывала революционная» (Восстание декабристов. Документы. (далее – ВД). Т. XIX. М., 2001. С. 39–40). Это утверждение современным исследователем нередко понимается буквально. К.?Г. Ляшенко в предисловии к публикации материалов следствия комментирует высказывание Пестеля, переводя субъективное суждение Пестеля на уровень «положительного» знания: «Это свидетельство… говорит о том, что “Зеленая книга”, ее 1-я часть и легальная деятельность Союза благоденствия были конспиративными формами прикрытия его революционной сущности» (ВД. Т. XIX. С. 9).] и тем самым противопоставляется либеральной программе «тайного общества». Соотнесение исследователями революционной тактики и либеральной программы декабристов порождает взаимоисключающие выводы о природе движения тайных обществ как российского «пронунсиаменто» или российской политической оппозиции.
Данная статья – лишь попытка обозначить основные проблемы интерпретации феномена декабризма в России в контексте современных ему европейских политических идей. Задача системного изучения разнонаправленных идейных и политических влияний на русское общество, а значит, изучения генезиса декабризма как идеологии не может считаться решенной, пока нет ясного представления о том, как усваивались и какое место в конечном счете заняли идеи классического либерализма в сознании декабристов, как они сосуществовали с консервативными идеями, национально-патриотическими, сословными, корпоративными ценностями. В сущности, смешение всех этих идейно-политических конструкций и поведенческих моделей образует то, что принято именовать «идеологией декабристов».
При колоссальном количестве литературы, написанной в последнее столетие и обслуживающей эту проблему, ощущается недостаток квалифицированных компаративных исследований, которые бы показали степень и характер воздействия на декабристов западных политических идей и практик[116 - Новейшие работы на эту тему всё еще немногочисленны. См.: Парсамов В.?С. Проблема «Россия – Запад» в мировоззрении декабриста М.?С. Лунина // Историографический сборник. Вып. 19. Саратов, 2000. С. 16–32; Его же. Жозеф де Местр и Михаил Орлов (К истокам политической биографии декабриста) // Отечественная история. 2001. № 1. С. 24–46; Декабристы и французский либерализм. М., 2001 (2-е изд.: М., 2010) (см. мою рецензию на книгу В.?С. Парсамова в сб.: 14 декабря 1825 года. Источники. Исследования. Историография. Библиография. Вып. 6. СПб.: Нестор-История, 2004. С. 498–513); Его же. Декабрист А.?В. Поджио о русском и европейском путях исторического развития // 14 декабря 1825 года… Вып. 6. С. 334–363; Жуковская Т.?Н. Тайные общества 1810–1820-х годов: европейское влияние и российский контекст // Политическая культура XIX века: Россия и Европа. М., 2005. С. 71–84.].
В этой связи нас интересует именно идеология декабристов, а не вопрос о форме воплощения ожидаемого идеала (тактике переворота), который не решался ими однозначно, предполагал в разное время и мирное содействие власти, и ненасильственное давление, и военную революцию. Рассмотрение декабризма через призму только событий 14 декабря, либо отождествление его с «дворянской революционностью» или только с «дворянским либерализмом» ведет к неразрешимым историографическим спорам[117 - Историографический обзор понятийных, идеологических и методологических разночтений в историографии движения декабристов, включая различное понимание их «революционности», см.: Фельдман Д.?М. Декабристоведение сегодня: терминология, идеология, методология // Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы / Отв. ред. О.?И. Киянская. М.: РГГУ, 2008. С. 663–713.].
Очевидна зависимость мировоззрения декабристов от официального курса Александра I с его либеральным идеологическим обрамлением, с одной стороны, а с другой – от различных национальных моделей действующих конституционных учреждений и наиболее привлекательных либеральных доктрин второй половины XVIII – первой четверти XIX в.
Еще в 1909 г. В.?И. Семевский детально охарактеризовал источники политической идеологии декабристов, среди которых определяющим было названо чтение классиков просветительской и либеральной мысли и наблюдение за развитием конституционных учреждений в странах Европы и США[118 - Семевский В.?И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909. С. 65–66, 180–183, 210–240, 256–257.]. В историографии последних десятилетий произошел переход от рассмотрения национальных моделей либерализма через призму узкоклассовых оценок к многостороннему и объективному его анализу. Исходя из того, что ранний российский либерализм первой четверти XIX в. был производным от западного (если не сказать подражательным), представляется важным исследовать источники заимствований, особенности восприятия и степень трансформации и приспособления западных идей к потребностям воспринимающей среды.
Важно отметить, что современные декабризму западные наблюдатели уверенно соотносили декабристов с европейской политической традицией. Это прозвучало как во французской, так и в английской политической публицистике 1825–1826 гг., в виде отклика на события 14 декабря. В английской печати декабристов изображали как просвещенных офицеров из дворян, воодушевленных идеями западного конституционализма. В стране, достигшей более высокой степени политической зрелости, полагали английские публицисты, выступление декабристов приняло бы характер не вооруженного восстания, а парламентской петиции или обращения к монарху[119 - Алексеев М.?П. Английские мемуары о декабристах // Исследования по отечественному источниковедению. М., 1964. С. 246.]. Сами декабристы тоже так считали. Эта мысль развернута у Н.?И. Тургенева, для которого Англия стала местом политического убежища.
Что касается условий существования либеральных идей в русском обществе, то в первые два десятилетия царствования Александра I они были исключительно благоприятны. Мягкость цензуры, европоцентричность общественных дискуссий в период войн с Наполеоном и послевоенного переустройства Европы провоцировали повышенное внимание к западному политическому опыту. У постоянного читателя политической публицистики и газет создавалась иллюзия «присутствия» при строительстве новой парламентской системы во Франции. Дебаты в английском парламенте или французской Палате депутатов были предметом живейшего обсуждения. «Восходя постепенно от одного мнения к другому, пристрастился к чтению публицистов французских и английских до того, что речи в Палате депутатов и House of commons занимали меня, как француза или англичанина», – признавался А.?А. Бестужев[120 - ВД. Т. I. М.; Л., 1925. С. 430.]. Усложнение политического языка и проблематики публикаций коснулось русскоязычной периодики, периодических изданий, выходивших на других языках, в том числе польских газет и журналов[121 - Сироткин В.?Г. Русская пресса первой четверти XIX в. на иностранных языках как исторический источник // История СССР. 1977. № 4. С. 77–97; Календарова В.?В. Либеральные идеи в России в начале XIX в.: попытки правительственной пропаганды (опыт количественного анализа содержания первых министерских журналов) // Источник. Историк. История: Сб. науч. работ. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2001. Вып. 1. С. 52–72; Тимофеев Д.?В. Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного российского подданного… С. 60–63.].
Недолгая и довольно относительная «свобода мнений» порождала в 1816–1820 гг. иллюзию сближения общественных условий России и Франции. Политизированная молодежь после войны, следя за успехами конституционного правления в других странах, строила иллюзии на счет того, что и в России достигнута свобода общественного мнения. «Мы говорим с полной свободой и рассуждаем так же, как говорят в парижской Палате депутатов или в императорском парламенте Лондона», – писал весной 1816 г. о петербургских делах С.?Р. Воронцову в Лондон арзамасец П.?И. Полетика[122 - Архив князя Воронцова. Т. 30. М., 1884. С. 436–437.].
Н.?И. Тургенев в своих воспоминаниях пишет о том, что печать, в том числе российская, содействовала политическому воспитанию молодежи: «Пресса больше прежнего занималась тем, что происходило в других странах, и особенно во Франции, где производился опыт введения новых учреждений. Имена знаменитых французских публицистов были в России так же популярны, как у себя на родине, и русские офицеры… сроднились с именами Бенжамена Констана и некоторых других ораторов и писателей, которые как будто предприняли политическое воспитание европейского континента»[123 - Тургенев Н.?И. Россия и русские. Т. 1. М., 1915. С. 59–63, 67–69. Ср.: Тургенев Н.?И. Россия и русские. М., 2001. С. 49.]. Конечно, мемуарист имеет в виду товарищей по тайному обществу, «сроднившихся» с сочинениями либеральных писателей. Но так ли был широк круг читателей и приверженцев доктрины Б. Констана среди декабристов?
Кого в контексте данной статьи можно считать объектом изучения? Это в первую очередь «идеологи» декабризма, лидеры движения, авторы программных документов или их критики, участники дискуссий в тайном обществе 1820–1821 гг., декабристы с высоким «образовательным цензом» (по определению В.?И. Семевского), постоянные читатели политической литературы, публицистики и периодики. С другой стороны, это те, кого можно назвать «средним» или «рядовым» декабристом из числа младших офицеров, имевших незначительный опыт деятельности в рамках конспирации, не выдвигавшихся на первые роли. Однако сам тип политического мышления «идеологов» вполне может быть сопоставлен с представлениями «декабристской массы»: быть может, менее образованной, менее начитанной, но также видевшей основные политические цели тайного общества в установлении конституционного правления, правовых и социальных свобод. Нюансы в восприятии либеральных идей определялись как раз уровнем политической культуры и обычной начитанности, которая не могла быть обширной у многих «рядовых» декабристов, с 16 лет бывших «в огне» или «во фрунте». Из числа тех, кто имел огромное влияние в тайном обществе, также не все были глубокими «идеологами». О публицистических выступлениях М.?Ф. Орлова П.?А. Вяземский был, например, невысокого мнения, говоря, что нельзя требовать многого «от пера, очиненного шпагою».