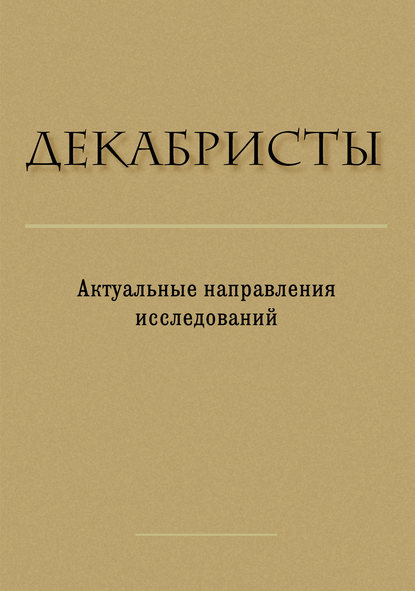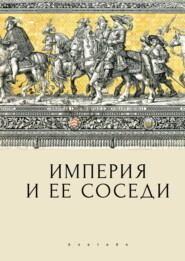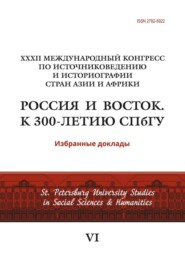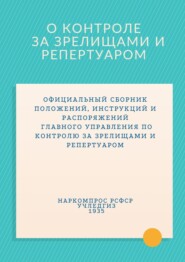По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Декабристы. Актуальные направления исследований
Автор
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Постоянно существующая с момента возникновения декабристоведческой традиции проблема соотношения российской факторов и западных идейных влияний в формировании декабризма, вызывавшая множество споров и дискуссий в советский период (происходивших нередко под воздействием вненаучного идеологического давления, антизападных кампаний и т. д.), на последнем этапе развития историографии трансформировалась наконец в интегральную постановку вопроса – о совокупном и взаимосвязанном воздействии обеих групп факторов.
К этому необходимо добавить, что расширение фактической базы, заполнение лакун «фактической истории» декабристского движения всегда являлись важнейшей научной задачей для исследователей, что подчеркивалось не только на начальных этапах декабристоведческой историографии, но и на последующих стадиях. М.?В. Нечкина назвала эту всегда актуальную задачу историков, наряду с другой, неразрывно связанной с ней задачей – введением в научный оборот новых материалов, накоплением данных – «само собой разумеющимися» исследовательскими вопросами[34 - Нечкина М.?В. 150-летний юбилей восстания декабристов. С. 18.]. Не менее традиционной является актуальная проблема создания биографических исследований жизненного пути, личностного облика деятелей декабристского движения. Причем, в последние периоды историографии эта проблема все чаще ставится в отношении не только лидеров движения (о которых, несмотря на имеющуюся литературу, мы далеко не все еще знаем), но, главным образом, малоизвестных и вовсе неизвестных его участников, рядовых деятелей тайных обществ. В этом контексте отметим, что в последние десятилетия обозначена проблема декабристов, избежавших наказания, часто вовсе не затронутых изучением[35 - Там же. С. 23–24. Ср.: Ильин П.?В. Предисловие // Декабристы в Петербурге. Новые материалы и исследования. СПб., 2009. С. 9–10.].
Очевидно, этот выявленный нами набор важнейших научных проблем и направлений исследований является, как показывают сформулированные на разных этапах научной традиции актуальные проблемные задачи, центральными и системообразующими для научного изучения проблем истории декабризма.
Сохраняют ли обозначенные выше проблемы и направления исследований свою привлекательность для историков, занимающихся историей декабристского движения на современном этапе историографической традиции, или сменились новыми приоритетными направлениями, актуальными для научного осмысления декабристской истории? Судить об этом можно, обратившись к исследованиям, статьям, сборникам трудов, появившимся в последние годы.
* * *
Предлагаемый вниманию интересующегося читателя сборник вносит свой вклад в осмысление актуальности тех или иных направлений в рамках декабристоведческих исследований на нынешнем этапе развития научной традиции.
Идейные влияния, способствовавшие формированию мировоззрения декабристского типа, политические образцы, которые оказывали то или иное воздействие на складывающееся политическое движение – тема, продолжающая оставаться актуальной на современном этапе исследований. Авторы сборника представили свой вклад в разработку данной проблематики.
Л.?Ю. Гусман осветил в своей работе влияние античного политического мифа об укреплении царской власти посредством ее ограничения неизменяемыми законами на российскую оппозиционную общественную мысль и публицистическую традицию на протяжении конца XVIII–XIX вв. Некоторые особенности восприятия декабристами идей западного либерализма, их преломления в декабристской среде находятся в центре внимания Т.?Н. Жуковской, в работе которой ставится целый ряд дискуссионных, спорных вопросов, в том числе об «аутентичности» восприятия либеральных образцов как «идеологами» декабристского движения, так и рядовыми его участниками. Вопрос о влиянии отечественной политической традиции смены власти, получившей известность как традиция «дворцовых переворотов», специально рассматривается Д.?С. Артамоновым. Симптоматично, что воздействие этого политического образца на организационно-тактические воззрения и практические планы военного выступления декабристов не привлекало значительного интереса в период советской историографии (если не считать единичных работ отдельных исследователей, шедших против основного потока[36 - См., например: Сыромятников Б.?И. Последний дворцовый переворот // Право и жизнь. 1926. № 1. С. 3–15; Гош Ю.?А. Восстание декабристов как наивысшая форма дворцового переворота // Декабристские чтения. Вып. 3. Киев, 1990. С. 124–129; Он же. Перевороты XVIII века и 14 декабря 1825 года // Там же. Вып. 4. Киев, 1991. С. 64–68.]) и до сих пор все еще не стало предметом особого внимания исследователей; статья в какой-то мере заполняет эту лакуну. Новаторский взгляд на формирование и развитие декабристской программы, организационных и тактических правил сквозь призму польского вопроса, главным образом – влияние на декабристов правительственной политики в отношении Польши, предложил М.?М. Сафонов. Выход на новую парадигму изучения истоков движения, обусловленную патриотическим и националистическим чувством инициаторов декабристских организаций, несмотря на нетрадиционность и дискуссионность предложенного взгляда, представляет немалый интерес. В.?А. Шкерин затрагивает почти не исследованную тему: служебная и общественная деятельность оправданных и не привлекавшихся к следствию бывших участников тайных обществ декабристов после 1825–1826 гг. Как известно, избежав наказания, часть бывших деятелей декабристских организаций продолжила свою службу, некоторым из них удалось достичь «степеней известных». Автор, подготовив недавно вышедшее новаторское по своему содержанию исследование о декабристах, продолжавших находиться на службе в царствование Николая I[37 - Шкерин В.?А. Декабристы на государственной службе в царствование Николая I. Екатеринбург, 2009.], в публикуемой статье обратился к конкретному сюжету, характеризующему, в некоторой степени, эволюцию общественно-политических представлений и взглядов, свойственных этой категории: внимание исследователя привлекло участие бывших членов Союза благоденствия В. А. и Л.?А. Перовских, И.?П. Липранди, а также бывшего участника Северного общества Я.?И. Ростовцева, в «деле петрашевцев» (1849).
В исследованиях, составивших настоящий сборник, представлены и вопросы, связанные с изучением политической деятельности и программных требований декабристов. Важно отметить: для того чтобы эта проблематика изучалась на современном уровне, актуальные методы исторической науки требуют анализа политического языка, смыслового содержания политических понятий и терминов, без чего нелегко понять более общие вопросы, связанные с исследованием декабристской программы, тактики, организационных правил. Семантический анализ политического языка, текстов программных документов находятся постоянно в центре внимания Е.?В. Каменева, статья которого, помещенная в составе сборника, посвящена уяснению мотивов конспирации в период существования Союза благоденствия: на основе определения смысла понятия «неблагонамеренный человек» выявляется социальная группа, которая, по мнению декабристов, представляла угрозу для деятельности тайного общества. Анализ содержания программных документов, принадлежащих декабристам, по-прежнему занимает одно из центральных мест в работах исследователей. В сборник включена статья А.?В. Россохиной, освещающая сложное решение аграрного вопроса в проекте П.?И. Пестеля «Русская Правда», в частности – предлагаемую декабристом систему новых земельных правоотношений. Интерес историков вызывает не только содержание программных установок декабристов, но и конкретные стороны их конспиративной, политической деятельности, в том числе – в условиях кризиса междуцарствия, положившего предел существованию декабристских союзов. М.?С. Белоусов исследует деятельность С.?П. Трубецкого – одного из ведущих фигур декабристского движения, накануне событий декабря 1825 г. В статье предлагается определенное переосмысление мотивации поступков одного из лидеров заговора, его взаимоотношений с другими ведущими участниками тайных обществ, в частности – К.?Ф. Рылеевым.
Как уже отмечалось, изучение декабристской персоналистики, биографические труды занимали важное место на всех этапах декабристоведческой историографии. Современные историки, в связи с уточнением и пополнением сведений о биографиях декабристов, созданием (насколько это возможно) исчерпывающего представления о всех категориях лиц, вовлеченных в декабристские союзы, вплоть до предполагаемых участников, уделяют этой тематике особое внимание. В сборнике публикуется биографическая работа С.?И. Афанасьева, реконструирующая факты биографии декабриста В.?А. Дивова на основе вновь привлеченных источников. В статье П.?В. Ильина впервые освещаются некоторые стороны биографии предполагаемого участника Южного общества И.?Б. Шлегеля, который избежал наказания и впоследствии занял пост президента Военно-медицинской академии.
Актуальной и научной значимой проблемой для исследователей продолжает оставаться отношение к декабристам современного им российского общества, представителей различных его слоев и кругов, различных общественных направлений и течений, общественная реакция на события политического кризиса 1825 г., восприятие в обществе этих событий и последующих репрессивных действий власти. Отдельной темой, связанной с этой проблематикой, являются отзывы и оценки иностранных наблюдателей, находившихся в России или посетивших страну в эти годы. Отзывы и оценки одного из таких иностранных путешественников Ф. Ансело анализирует в публикуемой работе Т.?В. Андреева. С точки зрения потребностей историографии все более значимой проблемой видится изучение родственных, дружеских, служебных отношений, связей декабристов и их современников, взаимных представлений и образов. Коллизии отношений с участниками декабристских обществ такого заметного представителя высшей бюрократии царствования Николая I, как воспитанник Лицея 1-го пушкинского выпуска М.?А. Корф, стали предметом внимания И.?В. Ружицкой. Восприятие в русском обществе (как в либерально настроенных, так и в консервативных кругах) Н.?С. Мордвинова – известного своими оппозиционными настроениями сановника, государственного и общественного деятеля, тесно связанного с декабристами и намечавшегося ими в состав нового правительства, затрагивается в статье С.?В. Березкиной. Отношение современников к декабристам в некоторой степени характеризует и освещение такой специфической стороны общественной жизни, как обращения к власти и доносы. В статье Т.?А. Перцевой рассматривается круг вопросов, возникающих при исследовании сибирских доносов на сосланных декабристов.
В настоящем сборнике представлены также фундаментальные фактографические справочные материалы, относящиеся к таким важнейшим событиям истории декабристов, как судебно-следственный процесс, а также исследования историко-краеведческого характера.
Именной и топографический указатели мест содержания декабристов и других лиц, привлеченных к следствию по их делу, на территории Санкт-Петербургской (Петропавловской) крепости подготовлен известным исследователем этой темы М.?В. Вершевской. Итог многолетней кропотливой работы, проделанной автором, базируется на большом массиве архивных свидетельств и представляют собой фундаментальный справочный свод данных. По сравнению с опубликованными в 1996 г. этим же исследователем справочными материалами[38 - Вершевская М.?В. Места заключения декабристов в бастионах и куртинах Петропавловской крепости // Краеведческие записки. Исследования и материалы. Вып. 4. СПб., 1996. С. 91–141.] данная публикация в полном объеме охватывает все места заключения подследственных в Петропавловской крепости, содержит значительно дополненные и уточненные, практически исчерпывающие сведения. Публикуемые указатели, несомненно, наделены весьма ценной справочной функцией и будут служить необходимым пособием для дальнейших исследовательских работ.
Образец основательного исследования историко-краеведческого характера представляет работа Н.?Б. Алексеевой о Комендантском доме Петропавловской крепости – месте допросов подследственных и оглашения приговора осужденным по «делу декабристов». Автор музейной экспозиции в Комендантском доме в своем тщательно подготовленном труде, в настоящее время получившем уже значение своеобразного историографического памятника (датирован 1964 г.), подробнейшим образом реконструировал события конца 1825 – лета 1826 г., происходившие в помещениях музеефицированного ныне исторического здания.
В поле зрения авторов сборника – проблемы декабристской историографии. Процесс формирования образа декабристов в исторической литературе и публицистике во 2-й половине XIX – начале ХХ в., через призму публикаций на страницах трех главных исторических журналов дореволюционной России, стал предметом внимания Е.?Б. Васильевой. Результаты работы, ранее не проводившейся с таким масштабом и подробностью, позволяют посмотреть свежим взглядом на генезис различных представлений о декабристах, выявить важнейшие факторы, влиявшие на формирование в русском обществе (и в исторической литературе) различных «образов» участников декабристского движения, охарактеризовать основные этапы их развития, установить тематические предпочтения публикаций исторических журналов. Особенности развития историографии в период расцвета парадигмы «единого революционного движения» в советской историографии представлено в статье известных специалистов по истории декабристоведения Г.?Д. Казьмирчука и Ю.?В. Латыша. Авторы характеризуют идеологические рамки, в которые было жестко поставлено развитие научных представлений, вместе с тем, несмотря на очевидные негативные последствия идеологического давления, монополии одной концептуальной схемы, исследователи отмечают значительные результаты, достигнутые в этот период, связанные с исследованием конкретно-исторических вопросов, выяснением многих проблемных сюжетов, введением в оборот новых источников, наследия декабристов.
Затрагивая вопросы историографии, невозможно обойти вниманием проблемы современной научной литературы. Некоторые образцы современной историографии с присущими им достоинствами и недостатками стали предметом анализа и критики в развернутом отклике А.?Б. Шешина и рецензии М.?А. Пастуховой. Преобладание критических оценок в отзывах рецензентов обусловлено первоочередным вниманием к отразившимся в этих работах серьезным ошибкам и недостаткам, которые нередко встречаются в трудах последних десятилетий. В частности, речь идет о недостаточно обоснованных выводах, недоброкачественных оценках публицистического характера, спорных гипотетических версиях, которые выдаются за объективно и прочно установленные, доказанные научные положения. В основе этого – стремление к сенсационности, неосновательному пересмотру прежних представлений, следование заранее принятым схемам, под которые подгоняются факты, извлеченные из источников. Публикуемые отклики и рецензии заставляют читателя задуматься о необходимости критического отношения ко многим «сенсационным» выводам, которые в условиях освобожденного от идеологического диктата авторского творчества можно встретить в книгах и исследованиях даже историков-специалистов, о важности сравнения и сопоставления данных, представленных в различных исследованиях.
В целом, содержание сборника, как хотелось бы надеяться, отражает некоторые из направлений в изучении декабристского движения, которые привлекают к себе исследовательский интерес на современном этапе историографии и в значительной степени отвечают потребностям дальнейшего развития научных представлений.
I. Декабристы в историческом процессе
Античный политический миф о спартанском царе Феопомпе (VIII в. до н. э.) и русская общественная мысль XVIII–XIX вв. н. э
Л.?Ю. Гусман
Русскую общественную мысль дореволюционного времени невозможно исследовать без обращения к ее западноевропейским и античным источникам. Изучение классических сочинений древнегреческих и древнеримских мыслителей являлось обязательной частью обучения дворянина из хорошей семьи в конце XVIIII – середине XIX в. Стремление властей императорской России насаждать классическое образование нередко приводило к результатам, далеким от намерений охранителей. Желание «жить по Плутарху» было характерно для многих представителей русской политической мысли послепетровского периода отечественной истории. Те или иные эпизоды древней истории становились орудием идейно-политической борьбы и экстраполировались на современность. При этом объектами интерпретации становились не только знаменитости античного мира, такие как Ликург, Солон, Цицерон, но и малознакомые современному, пусть даже и весьма образованному, читателю. В данной статье мы проанализируем, как на протяжении приблизительно 100 лет противники российского самодержавия регулярно обращались к деятельности спартанского царя VIII в. до н. э. Феопомпа, историчность существования которого отнюдь не бесспорна, в качестве примера превосходства конституционной монархии над абсолютизмом. При этом конституционалисты использовали авторитет Аристотеля (IV в. до н. э.), римского историка-моралиста (I в. н. э.) Валерия Максима и Плутарха (II в. н. э.), которые примерно в идентичных выражениях и с одинаковыми идеологическими выводами передали поистине лаконические слова Феопомпа:
Аристотель:
Сохранение царского строя обеспечивается вводимыми ограничениями. Чем меньше полномочий будет иметь царская власть, тем дольше, естественно, она останется в неприкосновенном виде: в таком случае сами цари становятся менее деспотичными, приближаются по образу мыслей к своим подданным и в меньшей степени возбуждают в этих последних зависть. Поэтому царская власть долго удерживалась у молоссов, также и у лакедемонян, именно вследствие того, что там она с самого начала была поделена между двумя лицами, а также благодаря тому, что Феопомп ограничил ее различными мерами, в том числе установил должности эфоров; ослабив значение царской власти, он тем самым способствовал продлению ее существования, так что в известном отношении он не умалил ее, а, напротив, возвеличил. Говорят, что это он ответил своей жене, которая сказала ему, не стыдно ли ему, что он передает своим сыновьям царскую власть в меньшем объеме, нежели сам унаследовал от отца: «Нисколько не стыдно, так как я передаю ее им более долговечной»[39 - Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 4. М.: Мысль. 1983. С. 559.] <курсив мой. – Л.Г.>.
Валерий Максим:
Уместно привести пример терпимости спартанского царя Феопомпа. Он первым ввел выборы эфоров, которые стали противостоять царской власти, подобно тому, как в Риме народные трибуны противостоят власти консулов. Его жена попеняла ему за то, что сыновьям он, таким образом, оставляет более слабую власть. «Да, – ответил он, – но зато более продолжительную» <курсив мой. – Л.Г.>. И был совершенно прав, потому что власть сохраняется лишь тогда, когда ограничивает себя в силе. Таким образом, смирив оковами свою царскую власть, Феопомп стал ближе к доброжелательности сограждан, чем если бы отдался необузданности[40 - Валерий Максим. Достопамятные деяния и изречения. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета. 2007. С. 162.].
Плутарх:
Ликург придал государственному управлению смешанный характер, но преемники его, видя, что олигархия всё еще чересчур сильна, что она, как говорил Платон, надменна и склонна ко гневу, набрасывают на нее, словно узду, власть эфоров-блюстителей – приблизительно сто тридцать лет спустя после Ликурга, при царе Теопомпе. <…> Говорят, жена бранила Теопомпа за то, что он оставит детям царское могущество меньшим, нежели получил сам. «Напротив, большим, поскольку более продолжительным», – возразил царь <курсив мой. – Л.Г.>. И верно, отказавшись от чрезмерной власти, спартанские цари вместе с тем избавились и от ненависти, и от зависти; им не пришлось испытать того, что мессенцы и аргивяне учинили со своими правителями, не пожелавшими поступиться ничем в пользу народа[41 - Плутарх. Ликург // Плутарх. Сравнительные жизнеописания в трех томах. Т. 1. М.: Наука. 1961. С. 58.].
Схожесть данных отрывков, очевидно, объясняется тем, что они восходят к общему источнику – несохранившейся «Лакедемонской политии» Аристотеля[42 - Печатнова Л.?Г. История Спарты (период архаики и классики). СПб., 2002. С. 29–30.]. Главной же для нас является общая идеологическая направленность текстов. И Аристотель, и Плутарх, и Валерий Максим, один из популярнейших в годы Средневековья и Нового времени античных авторов[43 - Подробнее о нем см.: Трохачев С.?Ю. Валерий Максим и его история в поучительных анекдотах // Максим Валерий. Указ. соч. С. 3–15.], использовали деятельность, а особенно очевидно апокрифическую фразу Феопомпа, для четкого и недвусмысленного вывода: «басилейа» (царская власть) может не бояться падения только в случае законодательного (по сути, конституционного) ограничения царской власти, неограниченная же «монархия» обречена на перерождение в тиранию и на неминуемую гибель.
Одобрительно о реформах Феопомпа, как гарантировавших выживание спартанской царской власти, упоминал и Платон, хотя он и не цитировал диалога царя с его женой: «Третий… спаситель вашего государства <Спарты. – Л.Г.>, видя, что его всё еще обуревают страсти, как бы узду набросил на него в виде власти эфоров, близкой к выборной власти. Потому-то у вас царская власть, возникнув из смеси надлежащих частей, была умеренной и, сохранившись сама, оказалась спасительной и для других»[44 - Платон. Законы // Платон. Сочинения в трех томах. Т. 3. Ч. 2. М.: Мысль. 1972. С. 163.]. Платона, как и других древнегреческих мыслителей, интересовал вопрос: почему царская власть в античной Греции сохранилась только в одном полисе – в Спарте? Ответ, дававшийся философами, оказался на удивление схож: потому что власть лакедемонских царей была существенно ограничена Феопомпом и его предшественниками.
Ксенофонт, чьи сочинения о Спарте служили источниками для Аристотеля и Плутарха, также указывал на ограничения полномочий спартанских монархов как на причину долговечности их власти: «Государство спартанцев никогда не пыталось свергнуть их <царей. – Л.Г.> с престола, проникшись завистью к их главенствующему положению, а сами цари никогда не стремились выйти за пределы тех полномочий, на условиях которых они с самого начала получили царскую власть»[45 - Ксенофонт. Агесилай. Сократические сочинения. М., 2003. С. 630.].
Характерно, что в современном переводе Плутарха государственный строй Спарты именуется современным термином «конституционная монархия»[46 - Плутарх. Застольные беседы. Л.: Наука, 1990. С. 139.]. Заметим, что и некоторые современные исследователи приходят к выводу о том, что «компромисс, заключенный между царями и обществом, способствовал сохранению в Спарте гражданского мира и приданию устойчивости ее государственного строя»[47 - Печатнова Л.?Г. Указ. соч. С. 63.].
Отрицательное отношение к институту неограниченной монархии, даже в руках добродетельного и просвещенного царя, не являлось чем-то исключительным в античности. Напротив, это общее место в политической идеологии тогдашних приверженцев «смешанной» формы правления. Необходимо напомнить, что эта весьма распространенная политическая концепция, берущая начало от пифагорейца Архита, Фукидида и Платона, основывалась на том, что единственная стабильная и справедливая форма правления – смешанная, сочетающая преимущества монархии (по Полибию – «басилейи»), аристократии и «политии» (в варианте Полибия – демократии) – трех «правильных» типов государственного устройства. Не претендуя на подробный анализ этой теории (у которой уже тогда были противники, например, Тацит[48 - Тацит. Анналы // К. Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 1. Л.: Наука, 1969. С. 129.]), надолго пережившей античность, отметим, что примерами подобной смешанной формы правления в древности служили Спарта и республиканский Рим (неслучайно в приведенной цитате из Плутарха указывается на смешанный характер спартанской политической структуры). Даже наилучшая неограниченная монархия рассматривалась сторонниками этой теории как близкая к тирании и лишенная свободы форма правления. Приведем соответствующие заявления стоика Гипподама, знаменитого оратора Цицерона и последнего языческого историка (V в. н. э.) Зосима:
Гипподам:
Монархия есть некоторое подобие божественного промысла, но человеческой слабости трудно сохранить за нею этот характер, и она тотчас извращается роскошью и насилием. Итак, не следует пользоваться монархией без границ, но сохранить для нее столько власти, сколько должно, в размере, полезном для государства[49 - Цит. по: Васильевский В. Г. Политическая реформа и социальное движение в Древней Греции в период ее упадка. СПб., 1869. С. 135.].
Цицерон:
Хотя знаменитейший перс Кир и был справедливейшим и мудрейшим царем, всё же к такому «достоянию народа» (а это <…> и есть государство), видимо, не стоило особенно стремиться, так как государство управлялось мановением и властью одного человека?[50 - М. Т. Цицерон. О государстве // Цицерон. Диалоги. М.: Наука, 1966. С. 22.]… Государство, подорванное порочностью одного человека, очень легко гибнет… Вообще, народу, находящемуся под царской властью, недостает многого и, прежде всего, свободы, которая состоит не в том, чтобы иметь справедливого государя, а чтобы не иметь никакого[51 - Там же. С. 45.].
Зосим:
Он <Октавиан Август. – Л.Г.> не устраивал тех, кто в иных случаях тоже мог бы управлять огромными массами различного населения. С другой стороны, то, что он отказывался ограничить монархию, мог стать тираном, подталкивать управление к хаосу, прощать преступников, торговать справедливостью и считать граждан рабами, – всё это подтверждает известную истину о том, что неограниченная власть правителя есть всеобщее бедствие[52 - Зосим. Новая история. Кн. 1 // Античный мир. Белгород: Издательство БГУ, 1999. С. 157.].
Не вдаваясь в анализ конкретно-исторических суждений Цицерона о царе Кире, в которых очевидна полемика с «Киропедией» Ксенофонта и влияние повествующего о Кире отрывка из «Законов» Платона, не полемизируя с явными анахронизмами Зосима в его критике «республиканской монархии» принципата, выделим то общее, что характерно для приведенных цитат. Их авторы подвергали резкой критике не только тиранию, но и сам институт неограниченной монархии, идею Платона о «философе на троне», и призывали к законодательному ограничению власти царя. В этом смысле поступок Феопомпа, добровольно отказавшегося от части своих полномочий и сохранившего благодаря этому царскую власть за своими потомками, представлялся оптимальным примером для правителей – «спасительным ограничением царской власти»[53 - Платон. Письма VIII // Платон. Сочинения в трех томах. Т. 3. Ч. 2. М.: Мысль, 1972. С. 556.], как выразился и сам Платон. Поэтому неслучайно, что о реформах Феопомпа одобрительно отзывался республиканец Цицерон[54 - М.?Т. Цицерон. Указ. соч. С. 49–50.].
Несомненно, что антисамодержавные высказывания античных мыслителей и царей, пусть порой и апокрифические, становились неиссякаемым источником вдохновения для позднейших противников абсолютной монархии, действовавших в совершенно иных, нежели античный мир, исторических условиях. К. Демулен весьма красноречиво указал в 1792 г. на роль классического образования в формировании «гражданского республиканизма» Великой французской революции: «Нас воспитывали в идеях Рима и Афин, воодушевляли республиканской гордостью для того, чтобы жить в уничижении монархии, под властью Клавдиев и Вителлиев. Безумное правительство думало, что мы могли восторгаться отцами отечества Капитолия и не питать отвращения к версальским людоедам, восхищаться прошлым, не осуждая настоящего»[55 - Олар А. Политическая история французской революции. М.: Соцэкгиз, 1938. С. 15.].
Точно так же было бы наивно рассчитывать на то, чтобы российские читатели уже известных нам отрывков из Аристотеля и Плутарха не усомнились в преимуществах абсолютизма. И спартанский царь Феопомп в версии античных авторов уже во 2-й половине XVIII в. стал союзником критиков русского самодержавия.
В 1773 г. в Петербурге был издан перевод книги знаменитого французского философа Г. Мабли «Размышления о греческой истории». Ее автор, родной брат другого известного просветителя Э. Кондильяка, был одним из пропагандистов весьма распространенной в век Просвещения теории «республиканской монархии» как лучшей формы правления. В своей книге Мабли обличал и деспотизм, и крайности демократии, восторгался, хотя и небезоговорочно, вольностями античных полисов и федеративных союзов. В историю русской общественной мысли это сочинение вошло благодаря его переводчику – А.?Н. Радищеву. Он сопроводил текст несколькими примечаниями. В одном из них Радищев коснулся реформы Феопомпа. Полемизируя с утверждением Мабли о том, что институт эфората был создан Ликургом, комментатор писал: «Аристотель и Плутарх определяют учреждение Ефоров при царях Феопомпе и Полидоре… которое мнение мне кажется есть справедливое. <…> Учреждение Ефоров можно почесть средством, употребленным к восстановлению тишины и спокойствия»[56 - Радищев А.?Н. [Примечания] // Мабли Г.?О. Размышления о греческой истории или о причинах благоденствия и несчастия греков. СПб.: Иждивением Общества, старающегося о печатании книг при Императорской Академии наук, 1773. С. 17.]. Итак, очевидно знакомство Радищева с рассказами Аристотеля и Плутарха о добровольном отказе Феопомпа от части своей власти. В этот период Радищев уже весьма негативно относился к абсолютизму. В другом своем примечании к книге Мабли Радищев заявлял: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Мы не… можем дать над собою неограниченной власти»[57 - Там же. С. 126.].
Несомненно, мнение Феопомпа о большей прочности ограниченной монархии не могло не вызвать сочувствия Радищева, учитывая, что учреждение эфората рассматривают в современной историографии как «победу общины над суверенной царской властью»[58 - Печатнова Л.?Г. Указ. соч. С. 66.].
Источниками знаний о Феопомпе будущего автора «Путешествия из Петербурга в Москву» могли послужить не только упомянутые им Аристотель и Плутарх, но и сочинения Валерия Максима, вышедшие в русском переводе в 1772 г., за год до радищевского издания Мабли. Раздел о «спартанском конституционалисте», доступный российскому, не знавшему иностранных языков читателю, завершался весьма недвусмысленным выводом: «Феопомп: “хотя я оставлю власть и меньше, но прочнее”, и подлинно он ответствовал весьма справедливо. Ибо то могущество безопасно, когда мы силам полагаем меру. Чего ради Феопомп, власть царскую обязав законными узами, чем более удалил от своевольства, тем ближе привел в любовь гражданство»[59 - Валерия Максима изречений и дел достопамятных книг девять. Ч. 2. СПб.: При Императорской Академии наук, 1771. С. 381.]. Подобное нравоучение могло казаться весьма актуальным в России XVIII в., когда проблема безопасной передачи власти была одной из самых острых. Самоограничение царской власти по спартанскому образцу выглядело неплохим лекарством от постоянной опасности дворцовых переворотов.
Существует и иная интерпретация радищевского примечания о преобразованиях Феопомпа, принадлежащая Ю.?М. Лотману[60 - Лотман Ю.?М. Радищев и Мабли // Лотман Ю.?М. Избранные статьи. Т. 2. Таллин, 1992. С. 113–114.]. Он полагал, что переводчик осуждал эту реформу, поскольку рассматривал эфорат исключительно как ограничение прав народного собрания и, следовательно, как антидемократическую меру. Однако Лотман не обратился к первоисточникам – текстам Аристотеля и Плутарха, хотя на них ссылался сам Радищев. Оба античных мыслителя утверждали, что эфоры ограничивали царскую власть и полномочия сената, но отнюдь не власть народа. Более того, Аристотель прямо указывал на эфорат как на демократический элемент смешанного государственного устройства Спарты: «Демократическое… начало проявляется во власти эфоров, так как последние избираются из народа»[61 - Аристотель. Указ. соч. С. 417.]. С определенной долей условности можно утверждать, что спартанские эфоры сочетали функции древнеримских народных трибунов и цензоров (о чем, как мы видели, и писал Валерий Максим – прекрасный знаток государственного устройства республиканского Рима)[62 - О сходстве спартанского эфората с римским народным трибунатом см.: Печатнова Л.?Г. Указ. соч. С. 66.].
Современный исследователь истории Спарты Л.?Г. Печатнова отмечает: «Власть эфоров позволила всем спартанским гражданам ощутить себя равными с родовой аристократией и царями»[63 - Там же. С. 67.]. Безусловно, эфорат серьезно эволюционировал и в итоге потерял свой демократический характер, но, по нашему мнению, первоначальный эфорат, созданный Феопомпом, и позднейший эфорат, упраздненный царем Клеоменом III как главная помеха его социальным преобразованиям, принципиально отличаются друг от друга. Радищев фактически солидаризовался с Мабли, который, вопреки авторитету Плутарха и в соответствии с взглядами Полибия, резко охарактеризовал деятельность главного врага эфората в спартанской истории – Клеомена III[64 - Мабли Г.?О. Указ. соч. С. 209–210.]. Нам представляется, что радищевское примечание о реформе Феопомпа идейно связано с примечанием о вреде самодержавия и может быть адекватно интерпретировано только на основе текстов Аристотеля и Плутарха о преимуществах законодательно ограниченной монархии над царским всевластием.
Хотя в «Размышлениях о греческой истории» Г. Мабли и не упомянул о Феопомпе, это не помешало французскому философу уделить довольно много места спартанскому царю в другой своей книге – «Об изучении истории». Данное сочинение представляло собой завершающий том энциклопедического курса, который брат Мабли Э. Кондильяк читал наследнику пармского престола Фердинанду. В этом трактате нашла продолжение тема «Феопомп и русское самодержавие». Отстаивая законодательное ограничение власти монарха и, как обычно, апеллируя к античным образцам, Мабли создал свою, значительно расширенную по сравнению с Аристотелем и Плутархом, версию разговора Феопомпа с женой. Лаконичный спартанский царь превратился под пером французского аббата в многословного ритора. Возможно, впрочем, что это было сделано из педагогических соображений применительно к восприятию юного принца. Приведем этот весьма любопытный отрывок: «Дворянство, столь склонное презирать сограждан, поймет, что чем более уважает подвластный ему народ, тем само оно станет более великим и могущественным. И тогда возродятся Теопомпы. Сей спартанский царь сам ограничил свою власть, расширив при этом власть эфоров. Я укрепляю свое счастье, говорил он жене, которая упрекала его за унижение своего достоинства, всякая чрезмерная власть разваливается под собственной тяжестью. Разве не должен я остерегаться слабостей человеческих, поскольку я всего лишь человек? Я облагораживаю свое достоинство, подчиняя оное законам правосудия. Не лучше ли повелевать людьми свободными, кои будут доверять мне, нежели трепещущими от страха рабами? Именно благодаря этому я умножу силы Спарты, заставлю почитать во всей Греции и средь варваров имя спартанцев и мое собственное»[65 - Мабли Г.?О. Об изучении истории // Мабли Г.?О. Об изучении истории. О том, как писать историю. М.: Наука. 1993. С. 122.]. Итак, мысль, уместившаяся у Аристотеля и Плутарха в пределах одной строки, заняла в данном тексте восемь строк. Вообще, любовь Мабли к длинным вымышленным речам исторических личностей с неодобрением отмечалась даже таким почитателем его сочинений, как Н.?М. Карамзин[66 - Карамзин Н.?М. Предисловие // Карамзин Н.?М. История государства Российского. Т. 1. Калуга, 1994. С. 9.]. Но если отвлечься от формы рассказа Мабли о спартанском царе, то следует сказать, что французский философ противопоставлял Феопомпу не какого-нибудь французского или испанского монарха, а Петра I. Буквально через два абзаца после приведенной цитаты следовала обширная, разумеется, вымышленная речь, адресованная первому русскому императору, который упрекался в сохранении самодержавия: «Дабы с пользой преобразовать Россию, сделать ваши законы прочными и создать воистину новый народ, начните с преобразования собственной вашей власти. Если вы не сумеете ограничить свои права, вас заподозрят в малодушии, в том, что вы никогда не считали себя достаточно могущественным государем, и робость ваша смешает вас с толпой прочих властителей. <…> Пусть императоры российские передадут законам предназначенную им власть, пусть поставят они себя в счастливую необходимость подчиняться им, пусть почитают они народ свой, не дерзая показаться порочными. И тотчас же ваши рабы, превратясь в граждан, легко обретут таланты и добродетели, способные привести в цветущее состояние вашу империю»[67 - Мабли Г.?О. Об изучении истории… С. 128–129.]. По существу, в этой никогда не произнесенной речи Петр I побуждался последовать примеру Феопомпа и отказаться от неограниченной власти. Этого не произошло, и Мабли достаточно резко выразил свое разочарование в русском реформаторе: «Можно упрекать Петра I в том, что он не воспользовался одержанными успехами и победами ради утверждения нового правления в своем государстве. Именно потому, что он даже не пытался предпринять это, его будут причислять к государям, правление которых было славным. Но никогда он не окажется в ряду законодателей и благодетелей своего народа»[68 - Мабли Г. О. Об изучении истории…. С. 134.]. Кульминации эта тема достигла в финале книги, где Мабли, как выяснилось затем, тщетно умолял своего воспитанника стать «новым Феопомпом» и не подражать Петру I[69 - Там же. С. 148.]. Итак, в данном сочинении содержится противопоставление благодетеля и законодателя своего народа, отрекшегося от безраздельного правления, Феопомпа, самовластному русскому императору, оставившему государство в рабстве и не обеспечившему счастья подданным, несмотря на все блестящие победы.
Книга Г. Мабли «Об изучении истории» была хорошо известна в России. В 1812 г. ее перевели и издали на русском языке, хотя, конечно, цензура изъяла негативные упоминания о Петре Великом. Но, не говоря уже о том, что просвещенные дворяне читали Мабли в подлиннике, крамольный текст был переведен и опубликован, хотя и с негативным комментарием, И.?И. Голиковым в его знаменитых «Деяниях Петра Великого». Данная публикация вызвала определенную общественную реакцию, вопреки намерениям Голикова, порой позитивную по отношению к либеральной риторике Мабли. Отметим и то, что сочинение «Об изучении истории» читали, под руководством Ф.?Ц. Лагарпа, великие князья Александр и Константин Павловичи, и, возможно, оно повлияло на формирование мировоззрения будущего императора[70 - Подробнее о воздействии книги Г.?О. Мабли на русскую общественную мысль см.: Мезин С.?А. Взгляд из Европы: французские авторы XVIII в. о Петре I. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1999. С. 142–143.].
Однако на этом одиссея (используя античный образ) Феопомпа в России не завершилась, и, когда в середине 1810-х гг. конституционные настроения в империи усилились и идеология «гражданского республиканизма» стала чрезвычайно распространенной, диалог спартанского царя с женой вновь оказался востребованным. Этому способствовало и общее увлечение античной политической мыслью в среде либерального дворянства, в особенности – будущих декабристов. Как вспоминал И.?Д. Якушкин: «В это время мы страстно любили древних. Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами»[71 - Якушкин И.?Д. Мемуары, статьи, документы. Иркутск, 1993. С. 91.]. Напомним, что именно Плутарх был одним из рассказчиков о добровольном отказе Феопомпа от абсолютной власти.
Одним из ревностных приверженцев введения конституции в России 1-й четверти XIX в. был знаменитый поэт-арзамасец П.?А. Вяземский. Его идейная связь с умеренным крылом декабристского движения многократно была предметом изучения[72 - См. например: Лотман Ю.?М. П.?А. Вяземский и движение декабристов // Лотман Ю.?М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958–1993). СПб.: Искусство – СПб., 2005. С. 413–524.]. Сам он принимал активное участие в немногочисленных актах «правительственного конституционализма» 2-й половины 1810-х гг.: переводе «варшавской речи» императора Александра I и составлении Государственной уставной грамоты Н.?Н. Новосильцева. Даже в официальном документе, адресованном Николаю I, убежденному противнику представительного правления, П.?А. Вяземский откровенно писал: «Новые надежды, которые открывались для России в речи государевой, характер Новосильцева, лестные успехи, ознаменовавшие мои первые шаги, – всё вместе дало еще живейшее направление моему образу мыслей, преданных началам законной свободы и началам конституционного монаршического (sic!) направления, которое я всегда почитал надежнейшим залогом благоденствия общего и частного, надежнейшим кормилом царей и народов»[73 - Вяземский П.?А. Записка о князе Вяземском, им самим составленная // Записные книжки. М.: Русская книга, 1992. С. 319.].