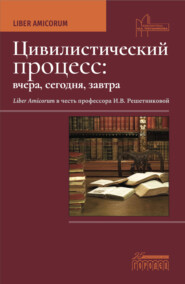По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Неизвестные Вязники. О чем писали газеты, но не расскажут на экскурсиях
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Николай ФРОЛОВ
«Районка, 21 век», №17 (234)
от 07 мая 2015 г.
1.19. Итальянцы в Вязниковской земле. Потерянные итальянцы
Я не могу не тосковать
О том, что никогда не будет…
Павел Булыгин
В заголовке этой статьи нет ошибки. Именно «в Вязниковской земле», ибо речь пойдёт о захоронениях. Это сейчас о посетивших нас итальянцах мы пишем: «Итальянские гости на нашей земле»…
Захороненные у нас итальянцы не были гостями. А было это пятьдесят пять лет тому назад, нет даже пятьдесят шесть, в 1943 году. Нам пришлось воевать тогда с фашистской Германией. Их союзники итальянцы воевали также против нас. После битвы под Сталинградом все военнопленные были рассортированы по разным районам Советского Союза. Владимирской земле достались итальянцы. Большая их часть поселилась в Суздале – там они умирали и оставили после себя 647 захоронений, целое кладбище. Об этом уже много писали. И теперь это известный факт. Я же хочу сообщить о менее известном или почти неизвестном.
Сейчас архивы постепенно (но всё ещё медленно) раскрывают свои тайны. Но и архивы знают не всё, и мы знаем мало. Время ушло… Так вот, большую часть пленных итальянцев поместили в Суздале, другую же группу (сколько их там было – теперь не знает никто, документы «утеряны») повезли в Вязники. От Москвы до Вязников всего 300 километров. Сейчас этот путь проезжают за пять часов. А тогда, зимой 1943 года, стояли сильные морозы, и на дорогу понадобилось несколько дней. 15 марта 1943 года (так записано в архивных данных) в Вязники прибыли два эшелона с 2474 военнопленными итальянцами.
Итальянские офицеры в советском плену.
Фото: http://waralbum.ru (http://waralbum.ru/)
Долгий для них путь не был лёгким, десятки скончались в пути. Точных данных нет – всё приблизительно, но взято из архива! Трупы умерших итальянцев были выгружены из вагонов и положены штабелями. Вскоре, когда наступило потепление, недалеко от станции Вязники была вырыта общая могила, в которой их и похоронили. Сколько? Много! Но точной цифры, повторяю, нет… Когда на нашем Покровском кладбище был поставлен памятный поминальный знак умершим пленным иностранцам, то символическую землю под этот памятник взяли с этой братской могилы 1943 года. И успокоились.
Казалось, последний пленный получил упокоение на Вязниковской земле… Но всё не так-то просто. Архивы заговорили вновь. Оказывается, со станции Вязники пленных итальянцев повезли в город и разместили в закрытой Покровской кладбищенской церкви. Я помню то время. Мы, мальчишки военных лет, бегали тогда к пленным итальянцам, получали от них монеты, пуговицы, ремни, другие предметы, меняли на хлеб, картошку, лук. Какая могла быть лишняя пища в тогдашних военных Вязниках? Но всё же была, и многие подкармливали этих итальянцев. Жили они в храме, жили свободно, даже выходили за его ограду и за небольшое вознаграждение помогали местным жителям в колке и пилке дров, очистке снега и ещё в каких-то делах. Всё это я видел. Но видел и то, что когда итальянцы покинули церковь, то оставили после себя множество могил с деревянными крестами. Откуда тогда были взяты эти кресты, когда с дровами в Вязниках было трудно? Помню только одно: как только последний пленный скрылся из глаз, за одну ночь кресты с их могил были украдены. Видимо, вновь появившиеся морозы потребовали от вязниковцев дополнительного топлива.
Сейчас, просматривая архивы тех лет, я узнал, что на Покровском кладбище в Вязниках захоронено (только на этом кладбище!) 68 человек. Остальные итальянцы на подводах и пешком двинулись за Клязьму. И вновь умирали, и вновь были могилы. Читаю отчёт тех лет: «4 умерших итальянца были похоронены у деревни Федорково». Ни имен, ни фамилий, похоронены в лесу, и теперь вряд ли найдётся то место. 29 – в лесу у «первых шалашей» (так в документе), 34 – у деревни Симберки, 4 – у озера Кщара.
За Кщарой заканчивался Вязниковский уезд, видимо, итальянцы продолжали умирать и дальше. До окончательного их лагеря был ещё долгий путь. Попытаемся подсчитать. Десятки похоронены «у станции Вязники», 68 – у Покровской церкви, ещё 71 – за Клязьмой. Получается, что в Вязниковской земле покоятся более 300 человек. И на всех этих местах нет ни креста, ни памятного знака.
Памятная плита итальянским военнопленным в Суздале.
Фото: http://necropolsociety.ru (http://necropolsociety.ru/)
В Суздале итальянцам поставлен памятный знак. А в наших местах нет ничего. Я переписываюсь со многими друзьями за рубежом. И мне все они прислали фотографии, открытки с захоронениями советских воинов, пленных – всюду идеальный порядок и прекрасный уход за могилами. Враг везде остаётся врагом, но вот после смерти он автоматически превращается просто в умершего человека, и его хоронят, предают земле по всем правилам религии тех мест, где он нашёл своё упокоение.
Так, например, в книге записей вязниковского Казанского собора за 1914—1917 годы есть многочисленные сведения об умерших военнопленных австрийцах, румынах, венграх, которых смерть застала в Вязниках. Все они похоронены на Покровском кладбище. И против каждой фамилии есть запись: похоронен по православному обряду. По такому обряду должен был отпевать и хоронить православный священник. Только вот жаль, что ни одной могилы мы сейчас не найдём… И остался общий памятник, который дважды был варварски ограблен, осквернён хулиганами. Наши захоронения ни в Европе, ни в Японии не оскверняют. Ну а если что-то и случается, то это наказывается тамошним правительством.
Кто теперь положит цветы в память захороненным итальянцам на Вязниковской земле? В Вязниках проживает только одна итальянка… А общее заклязьминское кладбище итальянцев и кладбище у станции Вязники остаются безымянными и неухоженными. Кто возьмётся вернуть память о них?
Один архив даже называет номер лагеря при станции Вязники – №165. 12 апреля 1943 года там был похоронен итальянец Тезанио Луиджи Амброджио; капрал, 1921 года рождения. Плана этого кладбища нет, но бывшие работники лагеря, наверное, могли бы указать его расположение? Пока не поздно…
Донат ОБИДИН
«Маяк», от 31 августа 1999 г.
1.20. Возраст подведения итогов
В текущем году Вязниковской литературной группе, которая была создана осенью 1951 года, исполнилось сорок пять лет. Это возраст подведения итогов, возраст, когда требуется оглянуться на пройденный путь, уяснить, что сделано, оценить сделанное и наметить новые вехи, по которым идти дальше.
Конечно, в литгруппе занимаются люди разных возрастов – и пожилые, и совсем молодые. Но тем не менее солидный рубеж налагает ответственность на каждого. Налагает ответственность и за себя, и за товарищей, посвятивших себя литературному труду.
Мне, как одному из создателей Вязниковской литературной группы, тоже хочется вспомнить те далёкие дни, вспомнить тех, кто начинал в городе литературное творческое движение.
Надо пояснить, что задолго до появления сегодняшней литгруппы – и в довоенные годы, и после войны – в Вязниках стихийно возникали литературные кружки, но вследствие же малочисленности или каких-то других причин они распадались. О таком кружке мне рассказывал писатель Иван Симонов. До Великой Отечественной войны в редакции газеты «Пролетарий» (первое название вязниковской городской газеты) работали молодые сотрудники Константин Климов и Василий Губернаторов, сотрудничал в «Пролетарке» и Иван Алексеевич. Все они писали стихи и по вечерам, после основной работы, читали их друг другу. Это и был первый литературный кружок при газете. Как-то в старых подшивках я обнаружил небольшую заметку, в которой сообщалось, что при газете начал работать с 6 марта 1946 года литературный кружок. «На первое занятие, – сообщалось в газете, – были приглашены местные начинающие авторы: т. Жадаев, Бакастова, Ардатов, художественный руководитель Вязниковского драматического театра, и артистка этого же театра Сенькова, И. Симонов и другие». Больше никаких сообщений о работе кружка в подшивке не оказалось.
Поэт Юрий Мошков
Но это было после, когда мне довелось работать в нашей городской газете. А пока – осень 1951 года. Мне повезло после семи лет службы, войны, вернуться живым в родной город. Как сейчас помню: молоденький сержант в шинели с голубыми погонами, ввалился я с двумя чемоданами в двери родного дома. Слёзы матери, взволнованное, обрадованное лицо отца, улыбки и сияющие лица сестёр и младшего брата (средний ещё служил где-то в Германии), объятия и разговоры.
Пришли соседи поинтересоваться, что за трофеи привёз я в двух таких объёмистых чемоданах. А чемоданы были битком набиты рукописями моих стихов, поэм, рассказов, книгами, учебниками. И конечно же, не мог я не привезти родным скромные солдатские подарки: матери – красивый платок, бате – трубку, братьям и сёстрам – дальневосточные сувениры.
На следующий день отправился в школу рабочей молодёжи устраиваться в седьмой класс. В тот же день зашёл и в редакцию газеты «Пролетарий» с целой пачкой стихов. К этому времени я уже печатался во многих газетах Сибири и Дальнего Востока. Написал песню своего разведывательного авиабатальона, которая стала строевой песней многих воинских частей, удачной получилась у меня и песня «Машенька» – о весёлой рыбачке с сибирского озера-моря Чаны, где мне довелось побывать в годы службы. С этой песней я встретился через четыре года после её создания, возвращаясь домой со службы, случайно в поезде. В соседнем купе ребята пели под гармонь песни. И вдруг зазвучал знакомый мотив и знакомые слова. Я кинулся туда. Оказывается, гармонистом был знакомый рыбак-сибиряк. Он узнал меня, хотя встретились мы в поезде, за много тысяч километров от озера Чаны, где-то около Читы.
Я уже считал себя поэтом, которого знает чуть ли не вся страна. И конечно, был очень огорчен, когда в вязниковской редакции посмотрели мои стихи и печатать не стали. Мне страшно повезло: с 1946 по 1950 год я служил в Новосибирске. Должность у меня была самая сачковая – геодезист-топограф. Времени свободного было достаточно. Там я и пристрастился посещать занятия Новосибирской любительской художественной студии (рисованием и живописью увлекался с детства). Тут же занятия проводились на профессиональном уровне. Это привлекало. Армейское начальство не препятствовало, так как меня нещадно эксплуатировали на таких работах, как оформление ленинских комнат, изготовление настольных артиллерийских полигонов для обучения офицерского состава. Вскоре из молодёжной газеты, куда я посылал свои стихи, мне прислали приглашение на занятие литературной группы. Занятия здесь проводили профессиональные писатели-сибиряки: Елизавета Константиновна Стюарт (сибирская Ахматова), Казимир Лисовский, Александр Коптелов, Никандр Алексеев – люди с широко известными литературными именами, авторы многих книг. Это была пора взлёта писателей-сибиряков. Литература так властно захватила меня, что я не пропускал ни одного занятия литературной группы, а вскоре, поняв, что надо выбрать для себя что-то одно, оставил художественную студию. Многолетнее общение с писательской средой, посещение Новосибирского театра оперы и балета, драматических театров, картинной галереи, музеев в обществе культурнейших людей подействовали на меня ошеломляюще. В Новосибирске я стал совсем другим человеком. Достаточно сопоставить этот культурнейший центр, этот удивительный дворец передовой культуры и Буринское торфопредприятие с его бараками, карьерами, штабелями торфа. Хотя природа и люди, с которыми я работал на торфопредприятии, тоже были для меня хорошей школой, и с годами я всё чаще вспоминаю их с уважением.
Судьба и потом частенько устраивала мне подобные сюрпризы, бросая то в болото, то во дворцы. И я ей за это благодарен. Вот так она привела меня в мой родной город…
К счастью, я не оказался одиноким. В редакции я случайно встретился с двумя ровесниками – Володей Михайловым и Володей Калининым. Оба Володи тоже писали стихи и жаждали напечатать их в родной газете. Володя Михайлов сразу мне понравился: огненная шевелюра давно не стриженных волос, зоркие насмешливые глаза, лицо в веснушках, всегда весёлый, озорной, любитель анекдотов и весёлых побасенок, он не унывал, что его не печатают, и вскоре написал басню, которую назвал «Авторитет», адресуя её, конечно, редактору Александру Васильевичу Веселову, коренастому, кругленькому, с большой сияющей лысиной и маленькими хитрыми глазками. Басня вскоре была опубликована в областной газете «Сталинская смена». Она и помогла прорвать плотину нашего неприятия в «Пролетарке». Я привожу эту басню из сборника «Молодые голоса», выпущенного Владимирским книжным издательством в 1957 году (в этом сборнике были напечатаны стихи троих вязниковцев).
АВТОРИТЕТ
Басня
К редактору-скворцу
Грач-стихотворец прилетел
И в ожидании ответа
на берёзу сел.
Скворец немало удивился:
«Гм… да… поэт мне объявился».
Однако, прочитав грача
творенья,
Сказал с улыбкой умиленья:
– Да… друг, признаюсь,
что стихи,
Нельзя сказать, чтобы плохи.
Но напечатать не могу их я:
Ты не дорос до соловья.
– Его печатай – опасенья нет:
У соловья большой авторитет.
* * *
Мораль? Она нужна едва ли.
Здесь ясно всё и без морали:
Таким пернатым из людей
Авторитет всего важней.
И всё же первой нас начала печатать владимирская областная молодёжная газета «Сталинская смена», а потом и областная газета «Призыв», и только потом отважился и вязниковский «Пролетарий».
Наши успехи в областной печати подтолкнули и вязниковских чиновников. Нам разрешили собираться в редакции газеты и обсуждать свои произведения.
Как дело вести, мы уже знали. Михайлов и Калинин тоже, будучи в армии, посещали занятия литературных групп.
«Районка, 21 век», №17 (234)
от 07 мая 2015 г.
1.19. Итальянцы в Вязниковской земле. Потерянные итальянцы
Я не могу не тосковать
О том, что никогда не будет…
Павел Булыгин
В заголовке этой статьи нет ошибки. Именно «в Вязниковской земле», ибо речь пойдёт о захоронениях. Это сейчас о посетивших нас итальянцах мы пишем: «Итальянские гости на нашей земле»…
Захороненные у нас итальянцы не были гостями. А было это пятьдесят пять лет тому назад, нет даже пятьдесят шесть, в 1943 году. Нам пришлось воевать тогда с фашистской Германией. Их союзники итальянцы воевали также против нас. После битвы под Сталинградом все военнопленные были рассортированы по разным районам Советского Союза. Владимирской земле достались итальянцы. Большая их часть поселилась в Суздале – там они умирали и оставили после себя 647 захоронений, целое кладбище. Об этом уже много писали. И теперь это известный факт. Я же хочу сообщить о менее известном или почти неизвестном.
Сейчас архивы постепенно (но всё ещё медленно) раскрывают свои тайны. Но и архивы знают не всё, и мы знаем мало. Время ушло… Так вот, большую часть пленных итальянцев поместили в Суздале, другую же группу (сколько их там было – теперь не знает никто, документы «утеряны») повезли в Вязники. От Москвы до Вязников всего 300 километров. Сейчас этот путь проезжают за пять часов. А тогда, зимой 1943 года, стояли сильные морозы, и на дорогу понадобилось несколько дней. 15 марта 1943 года (так записано в архивных данных) в Вязники прибыли два эшелона с 2474 военнопленными итальянцами.
Итальянские офицеры в советском плену.
Фото: http://waralbum.ru (http://waralbum.ru/)
Долгий для них путь не был лёгким, десятки скончались в пути. Точных данных нет – всё приблизительно, но взято из архива! Трупы умерших итальянцев были выгружены из вагонов и положены штабелями. Вскоре, когда наступило потепление, недалеко от станции Вязники была вырыта общая могила, в которой их и похоронили. Сколько? Много! Но точной цифры, повторяю, нет… Когда на нашем Покровском кладбище был поставлен памятный поминальный знак умершим пленным иностранцам, то символическую землю под этот памятник взяли с этой братской могилы 1943 года. И успокоились.
Казалось, последний пленный получил упокоение на Вязниковской земле… Но всё не так-то просто. Архивы заговорили вновь. Оказывается, со станции Вязники пленных итальянцев повезли в город и разместили в закрытой Покровской кладбищенской церкви. Я помню то время. Мы, мальчишки военных лет, бегали тогда к пленным итальянцам, получали от них монеты, пуговицы, ремни, другие предметы, меняли на хлеб, картошку, лук. Какая могла быть лишняя пища в тогдашних военных Вязниках? Но всё же была, и многие подкармливали этих итальянцев. Жили они в храме, жили свободно, даже выходили за его ограду и за небольшое вознаграждение помогали местным жителям в колке и пилке дров, очистке снега и ещё в каких-то делах. Всё это я видел. Но видел и то, что когда итальянцы покинули церковь, то оставили после себя множество могил с деревянными крестами. Откуда тогда были взяты эти кресты, когда с дровами в Вязниках было трудно? Помню только одно: как только последний пленный скрылся из глаз, за одну ночь кресты с их могил были украдены. Видимо, вновь появившиеся морозы потребовали от вязниковцев дополнительного топлива.
Сейчас, просматривая архивы тех лет, я узнал, что на Покровском кладбище в Вязниках захоронено (только на этом кладбище!) 68 человек. Остальные итальянцы на подводах и пешком двинулись за Клязьму. И вновь умирали, и вновь были могилы. Читаю отчёт тех лет: «4 умерших итальянца были похоронены у деревни Федорково». Ни имен, ни фамилий, похоронены в лесу, и теперь вряд ли найдётся то место. 29 – в лесу у «первых шалашей» (так в документе), 34 – у деревни Симберки, 4 – у озера Кщара.
За Кщарой заканчивался Вязниковский уезд, видимо, итальянцы продолжали умирать и дальше. До окончательного их лагеря был ещё долгий путь. Попытаемся подсчитать. Десятки похоронены «у станции Вязники», 68 – у Покровской церкви, ещё 71 – за Клязьмой. Получается, что в Вязниковской земле покоятся более 300 человек. И на всех этих местах нет ни креста, ни памятного знака.
Памятная плита итальянским военнопленным в Суздале.
Фото: http://necropolsociety.ru (http://necropolsociety.ru/)
В Суздале итальянцам поставлен памятный знак. А в наших местах нет ничего. Я переписываюсь со многими друзьями за рубежом. И мне все они прислали фотографии, открытки с захоронениями советских воинов, пленных – всюду идеальный порядок и прекрасный уход за могилами. Враг везде остаётся врагом, но вот после смерти он автоматически превращается просто в умершего человека, и его хоронят, предают земле по всем правилам религии тех мест, где он нашёл своё упокоение.
Так, например, в книге записей вязниковского Казанского собора за 1914—1917 годы есть многочисленные сведения об умерших военнопленных австрийцах, румынах, венграх, которых смерть застала в Вязниках. Все они похоронены на Покровском кладбище. И против каждой фамилии есть запись: похоронен по православному обряду. По такому обряду должен был отпевать и хоронить православный священник. Только вот жаль, что ни одной могилы мы сейчас не найдём… И остался общий памятник, который дважды был варварски ограблен, осквернён хулиганами. Наши захоронения ни в Европе, ни в Японии не оскверняют. Ну а если что-то и случается, то это наказывается тамошним правительством.
Кто теперь положит цветы в память захороненным итальянцам на Вязниковской земле? В Вязниках проживает только одна итальянка… А общее заклязьминское кладбище итальянцев и кладбище у станции Вязники остаются безымянными и неухоженными. Кто возьмётся вернуть память о них?
Один архив даже называет номер лагеря при станции Вязники – №165. 12 апреля 1943 года там был похоронен итальянец Тезанио Луиджи Амброджио; капрал, 1921 года рождения. Плана этого кладбища нет, но бывшие работники лагеря, наверное, могли бы указать его расположение? Пока не поздно…
Донат ОБИДИН
«Маяк», от 31 августа 1999 г.
1.20. Возраст подведения итогов
В текущем году Вязниковской литературной группе, которая была создана осенью 1951 года, исполнилось сорок пять лет. Это возраст подведения итогов, возраст, когда требуется оглянуться на пройденный путь, уяснить, что сделано, оценить сделанное и наметить новые вехи, по которым идти дальше.
Конечно, в литгруппе занимаются люди разных возрастов – и пожилые, и совсем молодые. Но тем не менее солидный рубеж налагает ответственность на каждого. Налагает ответственность и за себя, и за товарищей, посвятивших себя литературному труду.
Мне, как одному из создателей Вязниковской литературной группы, тоже хочется вспомнить те далёкие дни, вспомнить тех, кто начинал в городе литературное творческое движение.
Надо пояснить, что задолго до появления сегодняшней литгруппы – и в довоенные годы, и после войны – в Вязниках стихийно возникали литературные кружки, но вследствие же малочисленности или каких-то других причин они распадались. О таком кружке мне рассказывал писатель Иван Симонов. До Великой Отечественной войны в редакции газеты «Пролетарий» (первое название вязниковской городской газеты) работали молодые сотрудники Константин Климов и Василий Губернаторов, сотрудничал в «Пролетарке» и Иван Алексеевич. Все они писали стихи и по вечерам, после основной работы, читали их друг другу. Это и был первый литературный кружок при газете. Как-то в старых подшивках я обнаружил небольшую заметку, в которой сообщалось, что при газете начал работать с 6 марта 1946 года литературный кружок. «На первое занятие, – сообщалось в газете, – были приглашены местные начинающие авторы: т. Жадаев, Бакастова, Ардатов, художественный руководитель Вязниковского драматического театра, и артистка этого же театра Сенькова, И. Симонов и другие». Больше никаких сообщений о работе кружка в подшивке не оказалось.
Поэт Юрий Мошков
Но это было после, когда мне довелось работать в нашей городской газете. А пока – осень 1951 года. Мне повезло после семи лет службы, войны, вернуться живым в родной город. Как сейчас помню: молоденький сержант в шинели с голубыми погонами, ввалился я с двумя чемоданами в двери родного дома. Слёзы матери, взволнованное, обрадованное лицо отца, улыбки и сияющие лица сестёр и младшего брата (средний ещё служил где-то в Германии), объятия и разговоры.
Пришли соседи поинтересоваться, что за трофеи привёз я в двух таких объёмистых чемоданах. А чемоданы были битком набиты рукописями моих стихов, поэм, рассказов, книгами, учебниками. И конечно же, не мог я не привезти родным скромные солдатские подарки: матери – красивый платок, бате – трубку, братьям и сёстрам – дальневосточные сувениры.
На следующий день отправился в школу рабочей молодёжи устраиваться в седьмой класс. В тот же день зашёл и в редакцию газеты «Пролетарий» с целой пачкой стихов. К этому времени я уже печатался во многих газетах Сибири и Дальнего Востока. Написал песню своего разведывательного авиабатальона, которая стала строевой песней многих воинских частей, удачной получилась у меня и песня «Машенька» – о весёлой рыбачке с сибирского озера-моря Чаны, где мне довелось побывать в годы службы. С этой песней я встретился через четыре года после её создания, возвращаясь домой со службы, случайно в поезде. В соседнем купе ребята пели под гармонь песни. И вдруг зазвучал знакомый мотив и знакомые слова. Я кинулся туда. Оказывается, гармонистом был знакомый рыбак-сибиряк. Он узнал меня, хотя встретились мы в поезде, за много тысяч километров от озера Чаны, где-то около Читы.
Я уже считал себя поэтом, которого знает чуть ли не вся страна. И конечно, был очень огорчен, когда в вязниковской редакции посмотрели мои стихи и печатать не стали. Мне страшно повезло: с 1946 по 1950 год я служил в Новосибирске. Должность у меня была самая сачковая – геодезист-топограф. Времени свободного было достаточно. Там я и пристрастился посещать занятия Новосибирской любительской художественной студии (рисованием и живописью увлекался с детства). Тут же занятия проводились на профессиональном уровне. Это привлекало. Армейское начальство не препятствовало, так как меня нещадно эксплуатировали на таких работах, как оформление ленинских комнат, изготовление настольных артиллерийских полигонов для обучения офицерского состава. Вскоре из молодёжной газеты, куда я посылал свои стихи, мне прислали приглашение на занятие литературной группы. Занятия здесь проводили профессиональные писатели-сибиряки: Елизавета Константиновна Стюарт (сибирская Ахматова), Казимир Лисовский, Александр Коптелов, Никандр Алексеев – люди с широко известными литературными именами, авторы многих книг. Это была пора взлёта писателей-сибиряков. Литература так властно захватила меня, что я не пропускал ни одного занятия литературной группы, а вскоре, поняв, что надо выбрать для себя что-то одно, оставил художественную студию. Многолетнее общение с писательской средой, посещение Новосибирского театра оперы и балета, драматических театров, картинной галереи, музеев в обществе культурнейших людей подействовали на меня ошеломляюще. В Новосибирске я стал совсем другим человеком. Достаточно сопоставить этот культурнейший центр, этот удивительный дворец передовой культуры и Буринское торфопредприятие с его бараками, карьерами, штабелями торфа. Хотя природа и люди, с которыми я работал на торфопредприятии, тоже были для меня хорошей школой, и с годами я всё чаще вспоминаю их с уважением.
Судьба и потом частенько устраивала мне подобные сюрпризы, бросая то в болото, то во дворцы. И я ей за это благодарен. Вот так она привела меня в мой родной город…
К счастью, я не оказался одиноким. В редакции я случайно встретился с двумя ровесниками – Володей Михайловым и Володей Калининым. Оба Володи тоже писали стихи и жаждали напечатать их в родной газете. Володя Михайлов сразу мне понравился: огненная шевелюра давно не стриженных волос, зоркие насмешливые глаза, лицо в веснушках, всегда весёлый, озорной, любитель анекдотов и весёлых побасенок, он не унывал, что его не печатают, и вскоре написал басню, которую назвал «Авторитет», адресуя её, конечно, редактору Александру Васильевичу Веселову, коренастому, кругленькому, с большой сияющей лысиной и маленькими хитрыми глазками. Басня вскоре была опубликована в областной газете «Сталинская смена». Она и помогла прорвать плотину нашего неприятия в «Пролетарке». Я привожу эту басню из сборника «Молодые голоса», выпущенного Владимирским книжным издательством в 1957 году (в этом сборнике были напечатаны стихи троих вязниковцев).
АВТОРИТЕТ
Басня
К редактору-скворцу
Грач-стихотворец прилетел
И в ожидании ответа
на берёзу сел.
Скворец немало удивился:
«Гм… да… поэт мне объявился».
Однако, прочитав грача
творенья,
Сказал с улыбкой умиленья:
– Да… друг, признаюсь,
что стихи,
Нельзя сказать, чтобы плохи.
Но напечатать не могу их я:
Ты не дорос до соловья.
– Его печатай – опасенья нет:
У соловья большой авторитет.
* * *
Мораль? Она нужна едва ли.
Здесь ясно всё и без морали:
Таким пернатым из людей
Авторитет всего важней.
И всё же первой нас начала печатать владимирская областная молодёжная газета «Сталинская смена», а потом и областная газета «Призыв», и только потом отважился и вязниковский «Пролетарий».
Наши успехи в областной печати подтолкнули и вязниковских чиновников. Нам разрешили собираться в редакции газеты и обсуждать свои произведения.
Как дело вести, мы уже знали. Михайлов и Калинин тоже, будучи в армии, посещали занятия литературных групп.